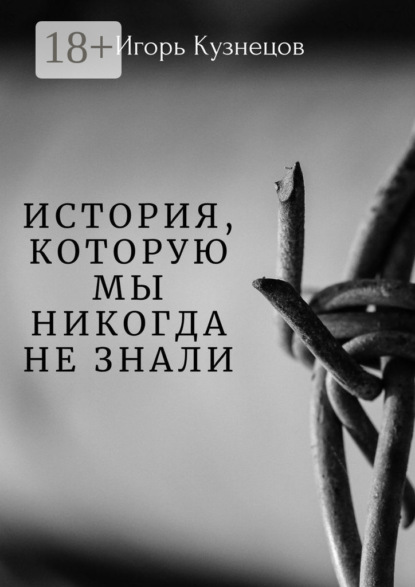
Полная версия:
История, которую мы никогда не знали
Интересна судьба белоруса ксендза Николая Михасенка – одного из немногих священников, живших в Сибири в годы начала «большого эксперимента» в России. родился он в семье белорусского крестьянина на Витебщине, сам хлеборобствовал. Однако не земля тянула его к себе – хотелось учиться, служить людям и Богу. В 1911 году Николай в возрасте 23 лет принял сан священника, окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и в начале 1913 г. стал настоятелем Белостокско-Маличевской католической общины.
Крестил детей, провожал в мир иной усопших, венчал новобрачных, причащал и исповедовал… Представители новой, Советской власти сразу же люто возненавидели его, человека «старого» мира, служителя культа. В 1923 году, не выдержав провокаций со стороны волисполкомовских работников, лишившись костельского дома, реквизированного под школу, ксендз Михасенок покинул Белосток. Его дальнейшую судьбу раскрывает архивно-следственное «дело», заведенное на него в 1927 году органами ОГПУ Новосибирска.
В Новосибирск ксендз Михасенок приехал в 1925 году из Томска по приглашению местной римско-католической общины для проведения религиозных служб в пустующем городском костеле. Однако недолгой была радость прихожан – 4 апреля 1927 года ксендза арестовали. За что? Якобы во время совершения религиозных обрядов в костелах Томска и Новосибирска он произносил проповеди антисоветского характера.
В этих «направлениях» и стали «раскручивать» ксендза Михасенка следователи Новосибирского ОГПУ Белецкий, Богородицкий и другие. Однако ксендз «раскалываться» не желал, все предъявленные обвинения отвергал. «Обрабатывали» свидетелей, но и те не давали против него желаемых показаний.
Тем не менее 27 мая 1927 года помощник начальника контрразведывательного отдела ОГПУ по Сибирскому краю Бебрекарло предъявил ксендзу обвинение по двум «контрреволюционным» статьям Уголовного кодекса РСФСР – по знаменитой 58-й статье: 58—14 (антисоветская агитация с использованием религиозных предрассудков масс) и 58—18 (дискредитация Советской власти путем распространения о ней ложных слухов).
Николай Иванович Михасенок для отбытия наказания был направлен в печально знаменитый концлагерь «СЛОН» (Соловецкие лагеря особого назначения) на три года. После этого – в ссылку в Северный край еще на три года. Что потом стало с ксендзом, догадаться нетрудно…
Вернемся к нашему повествованию.
В Сибири помещиков не было: каждый трудился на себя. Достаток зависел от трудолюбия и количества рабочих рук в семье. Но гражданская война, колчаковщина, продразверстка сказалась на жизни сельчан. Многих кормильцев лишились тогда семьи. Тем не менее все шло своим чередом -как-то надо было жить…
Кончилось такое крестьянствование в начале тридцатых годов – в ходе коллективизации по-сталински: крестьянина-хлебопашца сменили колхозник и совхозник с совершенно иной психологией и иным отношением к земле и работе. Если и сохранялось что по первости от прежнего крестьянина в виде неистовства в работе, бережливости, готовности прийти на помощь всем обществом, то со временем, постепенно, все это улетучивалось…
Массовая коллективизация в стране началась, как известно, с конца 20-х – начала 30-х годов. В Белостоке же колхоз впервые был создан только в апреле 1935 года. О том, чего стоили сельчанам эти пять лет сопротивления коллективизации, можно только догадываться. Лишение избирательных прав, бремя налогового пресса, распродажа имущества и раскулачивание, осуждение – натерпелись всего. Пожалуй, не было только высылки семей раскулаченных из села дальше, в Васюганские болота. Зато не один год наблюдали сельчане за тем, как высылали других: начиная с тридцатого года по Нарымскому тракту, через село довольно часто шли зимой на север Нарымского округа обозы раскулаченных. Да и в самом селе находили временный приют административные ссыльные, те же раскулаченные.
Колхоз в Белостоке назвали на польский манер «Червоный штандарт» -по-своему, вопреки воле начальства. Стремясь быстрее отрапортовать о завершении сплошной коллективизации, деревенские власти стали раскулачивать строптивых, шантажировать сомневающихся: отбирали наделы земли, приусадебные участки и огороды обрезали до самого крыльца, увеличивали планы сдачи зерна. А если были недовольные, «помогала» милиция. Прошли первые аресты: кого за «длинный язык» упекли, кого за нежелание вступать в колхоз.
В январе 1935 года Кривошеинским райотделом НКВД с помощью сельсоветских работников был собран необходимый компромат на ряд жителей села. Месяцем позже начальник Нарымского окротдела НКВД И. Мартон утвердил постановление об аресте и привлечению к суду семнадцати жителей Белостока и соседних Ново-Андреевских хуторов за то, что все они, якобы проводя антисоветскую и антиколхозную агитацию, добились развала инициативной группы по организации колхоза, а также на почве классовой ненависти имели договоренность убить председателя сельсовета и некоторых других активистов села.
С 1937 года «стали забирать по линии НКВД». В первую очередь взяли директора школы П.Д.Червоного, учителя И.П.Борисовца и завхоза школы Н.М.Карелина. Вместе с ними была арестована группа колхозников. Тогда же арестовали еще несколько человек, в том числе и члена исполкома сельсовета И.С.Назарука. Но самой страшной была ночь с 11 по 12 февраля 1938 года, когда были арестованы почти все оставшиеся мужчины в возрасте от 17 до 70 лет.
Свидетельствует один из «счастливчиков», вернувшийся из окружного отдела НКВД Павел Шумский: «12 февраля 1938 года в Белостоке забрали 68 человек, а потом пешком погнали в Кривошеино. 16 февраля уже днем милиция ходила по домам и забирала последних оставшихся мужиков. Взяли и меня вместе с другими. В деревне осталось всего три взрослых мужика… В Кривошеине собрали этап – около 250 человек – и дальше, по замерзшей реке, до Колпашева пешком гнали, как скот. В Колпашеве загнали в большой деревянный дом и растолкали по камерам, вызывали на допросы, били… Предъявили обвинение в краже подшипников к трактору, так как я в то время учился на тракториста. А через семь суток ночью меня и двух односельчан освободили. Сказали: если будем болтать о том, что здесь видели и слышали, то нас заберут снова и уже так легко мы не отделаемся…»
Так были «побеждены враги народа» из села Белосток. Остались в нем только дети да женщины, ставшие вдовами задолго до войны. Никто из них так и не дождался своих мужей, отцов, братьев.
После ареста белостокцев оставшиеся жители полной чашей испили судьбу отверженных. Многое им пришлось пережить, как и десяткам сосланных в Белосток в годы войны латышей, немцев, молдаван.
Репрессии по так называемой линии НКВД женщин села, правда, не коснулись. Матерям и их детям предстояло долгие годы нести на себе тяжелое клеймо жен и детей «врагов народа».
Изучение архивно-следственных дел периода 30-х годов в отношении жителей села Белосток показало, что с 30 августа 1937 года по 12 февраля 1938 года было арестовано органами НКВД 88 человек. Цифра впечатляет, если знать, что в селе по итогам переписи 1937 года насчитывалось всего сто двадцать семь мужчин от восемнадцати лет до глубоких стариков.
Большинство арестованных обвинялись как участники националистической контрреволюционно-диверсионной повстанческой организации под названием «Польская организация войсковая». Все дела были липовые, сфабрикованные работниками НКВД. Подобные организации были «обезврежены» во многих районах как Западно-Сибирского края, так и Беларуси. Не найдя при обысках никакого оружия, в обвинении записывали, что эта организация должна была захватить оружие во время восстания. От каждого требовали признаться в совершении какого-нибудь вредительства или диверсии. Тем, кто пограмотнее, пришивалась «контрреволюционная пропаганда, подрыв авторитета Советской власти и колхозного строя, руководство террором».
Арестованные в августе 1937 года были расстреляны 5 ноября 1937 года. Те же, кто был арестован 11 – 12 февраля 1938 года, были уничтожены 9 – 10 апреля. «Судила» белостокцев не «тройка» НКВД Запсибкрая, а Особое совещание. Все бумаги о приговорах подписывало высокое начальство в Москве, очевидно, для большей убедительности и значимости сфабрикованных дел.
Все репрессированные жители Белостока были реабилитированы посмертно в годы хрущевской «оттепели».
Невозможно поименно назвать всех репрессированных жителей белостока, как не знаем мы фамилий и имен палачей, подписавших приговоры о расстреле в Москве, как неизвестны нам и те, кто приводил эти приговоры в исполнение на местах. Где-то на стеллажах Центрального архива бывшего КГБ СССР в Москве находится на вечном хранении уголовное дело N 830458 в трех томах по обвинению жителей села Белосток. Откроет ли оно свои тайны? Будем надеяться.
…Так вся ли правда сказана? И, главное, станут ли архивные разыскания ступенькой к прозрению?
Бухта скорби
Вместо предисловия
События, которые непосредственно послужили к написанию этой статьи, произошли в 1979 году в небольшом городке Колпашево на севере Томской области. Случилось все это в майские праздники.
Уже сами слухи вызвали неприятный осадок в душах местных жителей. Такое… Кто-то, может, и схоронил бы сгинувшую невесть когда бедолагу, по округу облетела куда как более ясная команда: «Бандиты, враги народа, только – в реку. Пусть себе плывут». Багром, веслом, палкой оттолкнут на стремнину – несись дальше, к Нарыму, совсем рядышком туда, где отбывал ссылку Иосиф Джугашвили, прямой ответчик за содеянное, достоверно знавший, каких таких бандитов присылали по его указке в тутошние болота, тайгу, на погибель.
Потом были слова. Статьи, стихи, даже поэмы. Откровенная ложь тоже, разумеется, прозвучала. После первой публикации в 1988 году отрывков из «Колпашевского яра» В. Запецкого настал черед официальных перестроечных версий, одной из которых поделилась 11 мая 1989 года со своими читателями газета «Правда». Спецкор В. Чертков выдержал ее в духе партийности и социалистического реализма, но все-таки она позволила обычному советскому читателю, привыкшему по крупицам отыскивать существо и истину между строк, уловить картину уничтожения как хлебопроизводящего сословия страны в годы Большого террора, так и залежи его трупов десятилетия спустя. Статья же первого секретаря Томского обкома КПСС В.И.Зоркальцева, опубликованная в этой же газете 16 июля 1989 года пыталась окончательно завуалировать это существо и перенести ответственность на колчаковщину, бандитов, дезертиров и разбушевавшуюся реку.
Подвел черту сам бывший член Политбюро ЦК КПСС Е.К.Лигачев (в период с 1965 по 1983 годы – первый секретарь Томского обкома КПСС – И.К.). «Мне очень трудно назвать кого-либо ответственного. Ибо, во-первых, это произошло совершенно неожиданно. Это было настоящее стихийное бедствие в полном смысле этого слова. Вы на этой земле живете и знаете, что иногда делает половодье. И откровенно вам скажу, поскольку мы собрались для этого, мне, например, стало известно, что там были захоронены жертвы сталинских репрессий, именно после этого случая…»
(Из выступления Е.К.Лигачева 6 декабря 1989 года на встрече с представителями научной, вузовской, художественной интеллигенции и студенчества г. Томска.)
…Е.К.Лигачев жил совсем в другом времени и не мог поэтому предположить, что среди слушающих его в переполненном актовом зале Томского университета в тот декабрьский вечер 1989 года есть те, кто затратил годы, чтобы узнать о происшедшем в Колпашеве правду. В его биографии это был пусть неприятный, но эпизод. В их биографиях -духовное землетрясение, силу которого невозможно определить в баллах. Бывший кремлевский наместник, а затем и сам один из хозяев Кремля, он не думал и не мог думать, что эти люди пришли, что они уже здесь, что они знают лживость каждого его слова.
Как это было?
«Поселок Колпашево – это бугор глины, усеянный от бед и непогодиц избами, дотуга набитыми ссыльными. Есть нечего, продуктов нет или они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь подавать некому. Вспомни обо мне в этот час – о несчастном бездомном старике-поэте, лицезрение которого заставляет содрогаться даже приученным к адским картинам человеческого горя спецпоселенцев. Скажу одно: „Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве!“ Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысячеверстных болот дожди, немолчный ветер – это зовется летом, затем свирепая 50-градусная зима…» Так описывал Колпашево известный русский поэт Николай Клюев в письме к Сергею Клычкову в июне 1934 года.
Городок Колпашево невелик и до недавнего времени был мало известен. В памяти другое слово: Нарым, Колпашево – некогда административный центр Нарымского округа, особой территориальной единицы в составе Западно-Сибирского края, отведенной для уничтожения «врагов народа». Со всей Сибири, из Беларуси, из Москвы и Ленинграда свозили их сюда на верную гибель. В непролазных болотах, в тайге, которую они корчевали с помощью первобытных приспособлений, лежит немало наших земляков.
После октября 1917 года в Колпашеве убивали всегда. Свои – своих. Но особенно много погибло здесь людей, начиная с периода так называемого спецпереселения. Во время коллективизации в Нарымский округ было сослано немало семей раскулаченных. О масштабах этой высылки свидетельствует цифра – 192000 человек, в том числе и более 20 тысяч уроженцев Беларуси, причем число выживших в течение первых двух-трех лет составляло, вероятно, около 40 процентов. Последняя цифра ошеломляет, но не забывайте, при каких обстоятельствах спецпереселенцы попадали в ссылку: либо по холоду по зимникам, либо – чаще так оно и было – на баржах в короткое северное лето. В устраиваться приходилось на голом месте, со стариками и детишками на руках, с минимумом посевного материала и без опыта того, как можно растить хлеб в тайге и на болотах.
ГОРОВЦОВА-ГОРНОВСКАЯ АГАФЬЯ МИХАЙЛОВНА, уроженка д. Горелыши Витебского округа: «Пришел 1929 год. В нашей местности началась попытка организации колхозов, и на общем собрании крестьяне нашей деревни Горелыши предложили отцу первому записаться в колхоз, показав пример другим. Отец был хорошо грамотный по тому времени и имел авторитет во всей нашей бывшей волости. Он отказался записаться. Вот с этого времени и началась завязка трагедии нашей семьи. Через несколько дней отца арестовало Витебское ГПУ, предъявив ему обвинение в срыве организации колхоза. Продержали его в тюрьме около двух месяцев. А вскоре приехали из ГПУ, переписали всех, за исключением трех братьев: Трофима, учителя местной школы, Тимофея, служившего в Красной Армии и Антона, работавшего геодезистом на строительстве БелГРЭСа.
Предъявили отцу постановление Витебского ГПУ, что он со своей семьей высылается в Сибирь сроком на 3 года. Срок на сборы дали 7 дней. Отправили нас без конвоя до станции Богушевская, а оттуда пассажирским поездом до Новосибирска. Новосибирское ГПУ направило нас на поселение в Колпашевский район. По приезде наша семья очень бедствовала. Ссыльным разрешалось работать только в лесу. Меня взяли одни хозяева в няньки за 3 рубля в месяц… Аврам работал в Чалковском леспромхозе бухгалтером, Георгий – в Колпашевском райпотребсоюзе тоже бухгалтером, был женат, имел двоих детей. Тимофей был инспектором Нарымского окрсобеса в г. Колпашеве. Младшая сестра Лида училась в Колпашевском пединституте. Наступил страшный 37-й год. Страшная участь постигла нас, Горновских…»
Страшное горе выпало на судьбу Агафьи Михайловны. В декабре 1937 года был арестован Аврам, в январе 1938 – Георгий, Тимофей и сестра Лидия. О их дальнейшей судьбе долгие годы в семье ничего не знали.
После целого ряда ходатайств перед Прокуратурой Томской области Колпашевский ГорЗАГС выдал матери Агафьи Михайловны справки, что: Аврам умер 23.02.44 г. в возрасте 41 года от гнойного плеврита; Тимофей – 12.05.42 г. от менингита; Георгий – 1.02.44 г. от воспаления легких. Все это было грубой фальсификацией. Только в 1990 году семья узнала правду о том, что все братья 16 февраля 1938 года были осуждены к расстрелу Комиссией НКВД и Прокурора СССР и 20 февраля были расстреляны во внутренней тюрьме НКВД г. Колпашева.
Массовые расстрелы начались в Колпашево во второй половине тридцатых, когда в местном НКВД стали фабриковаться бредовые, фантастические дела вроде дела «повстанческого центра», который якобы был тайно сформирован ссыльными, готовился к походу на Томск и ждал только установленного сигнала, чтобы нанести сокрушительный удар по Советской власти. Во время проведения массовой акции по «изъятию врагов народа» в октябре 1937 года с низовьев реки Обь в Нарымский окротдел на двух баржах доставили «врагов народа» из Александровского, Каргасокского, Парабельского, Колпашевского районов. В целях обеспечения охраны эти баржи были поставлены на якоря посередине реки, откуда арестованные доставлялись лодками в окротделы Колпашева.
КАРПОВ С.П., бывший оперуполномоченный колпашевского НКВД: «… в мае 1937 года я начал работать в горотделе НКВД. При НКВД находилась внутренняя тюрьма (примерно восемь камер). Основная масса арестованных содержалась в городской тюрьме. В мои обязанности в этот период входило производить аресты по ордерам. На аресты ходили, как правило, три человека с понятыми. Наша задача была доставить арестованного в отдел. Что было дальше с арестованными, я не знаю. Работу с ними производили следователи. О том, что во внутренней тюрьме производили расстрелы, то есть приводили приговоры в исполнение, я знал от исполнителей. Расстрелы осуществлялись во внутренней тюрьме, которая размещалась в здании НКВД близко от берега реки Оби…»
МЕРИНОВ Б.Е., бывший оперуполномоченный колпашевского НКВД: «Здание КПЗ состояло из 6 камер. Новосибирск утверждал, кого расстреливать. Обычно, в первую очередь убирали тех, кого пригнали из центральных районов Белоруссии, особенно в 1939 году. Обратно никого не уводили. Хоронили расстрелянных по дворе КПЗ. Ям было три. В конце хоронили там, где расстреливали – в камерах…»
Стараниями работников НКВД в 30-е годы была «сочинена» не существовавшая в природе мощная националистическая организация «Польская организация войсковая», якобы имевшая свой центр в Москве и соответствующие «комитеты» во всех регионах бывшего Советского Союза. В соответствии с директивными указаниями УНКВД по Запсибкраю такая организация была «создана» и в Нарымском округе. Под ее непосредственным руководством и по ее прямому указанию должны были действовать «враги народа» с польскими и белорусскими фамилиями и именами.
Особых сложностей это не вызывало: процент проживающих поляков и белорусов был достаточно высок: сказалось, в частности, их переселение в Сибирь в конце прошлого и начале нынешнего столетия.
Преамбула обвинительного заключения всегда оставалась неизменной, менялись лишь фамилии да названия населенных пунктов, да «факты» и «примеры враждебной деятельности.
ФИЛИППОВИЧ С.Ф., бывший сотрудник Новосибирского управления НКВД, уроженец Минской губернии: «При допросах выясняли, где работал до ареста обвиняемый, чем занимался, были ли какие-либо факты пожаров, отравления скота по месту его жительства и так далее. Выяснив эти вопросы, искусственно приписывали в показаниях обвиняемых совершение тех или иных актов вредительской или диверсионной деятельности…»
Дела на «Польскую организацию войсковую» отличались от других тем, что почти все они были групповыми. Достаточно напомнить судьбу жителей села Белосток Кривошеинского района Западно-Сибирского края, где за одну ночь с 11 на 12 февраля 1938 годы были арестованы практически все мужчины в возрасте от 17 до 70 лет. Большинство из них кончили свой жизненный путь в Колпашевском яру.
СПРАГОВСКИЙ А.И., бывший следователь УКГБ СССР по Томской области: «В период с 1955 по 1960 год я занимался пересмотром архивно-следственных дел на осужденных внесудебными органами. Не вдаваясь в существо этих дел, определенно могу утверждать, что 99 процентов проверенных дел были грубо сфальсифицированы бывшими работниками Томского и Нарымского отделов НКВД. Из совокупности всех собранных в этот период материалов вырисовывается следующая картина… Свидетели, которых мне пришлось допрашивать, говорили, что за этим забором тюрьмы покоятся расстрелянные в 37 – 38 годах люди.
Помню показания Караваева Сергея Григорьевича, который был непосредственным исполнителей расстрелов, ныне он умерший. Тогда действовала бригада, которой для храбрости давали спирт.. За забором были устроены трапы, по которым арестованные шли к вырытой яме. Подойдя до определенного места, раздавался выстрел из укрытия. Человек падал в яму. Сложилось твердое убеждение, что за тем забором захоронены были тысячи невинно осужденных людей…»
Что представляло из себя здание окротдела НКВД? Со слов очевидцев событий оно находилось в 30 – 40 метрах от берега реки Обь, окруженное примерно трех метровых забором по периметру 150х150 метров. Недалеко от административного корпуса НКВД находилось здание тюрьмы, состоящее из шести камер. Здесь содержались арестованные и приговоренные к расстрелу в 30-е годы наши сограждане. Здесь же в здании тюрьмы, в одной из камер, приводились в исполнение приговоры «двоек», «троек» и Особого совещания. В тюрьму обычно прибывали этапы по 40 – 50 человек. После приведения приговоров в исполнение трупы расстрелянных пересыпались гашеной известью (чтобы лишний раз не закапывать до прибытия очередной партии – И.К.) в ямах, вырытых во дворе. Впоследствии, когда поток осужденных резко увеличился, расстрелянных стали закапывать под настилом камеры. Ямы с трупами, естественно, как гласила инструкция, сравнивались с землей и ничем не обозначались.
Большинство ни в чем не повинных граждан было расстреляно в Колпашево в период с 8 мая 1937 года до 4 мая 1943 года. По предварительным данным, полученным из материалов и документов Прокуратуры Томской области и военного трибунала Сибирского военного округа, можно предположить, что здесь было уничтожено не менее 3 тысяч человек. Установить всех поименно по известным причинам не представляется возможным. Назову ряд установленных фамилий, унесенных Колпашевским яром:
Адамский Бронислав Генрихович, 1894 года рождения;
Барановский Александр Фомич, 1893 года рождения;
Белых Федор Ефимович, 1888 года рождения;
Беганский Александр Демьянович, 1904 года рождения;
Бересневич Иосиф Иосифович, 1909 года рождения;
Бугоровский Иван Леонтьевич, 1888 года рождения;
Витевский Иван Олимпиевич, 1905 года рождения;
Врублевская Екатерина Ивановна, 1908 года рождения;
Дорошкевич Василий Ефимович, 1901 года рождения;
Дуда Алексей Янович, 1913 года рождения;
Дуда Ян Витович, 1885 года рождения;
Зданевич Александр Осипович, 1884 года рождения;
Зданович Иван Васильевич, 1910 года рождения;
Зданович Станислав Викентьевич, 1882 года рождения;
Ивановский Иосиф Николаевич, 1903 года рождения;
Кавецкий Адольф Васильевич, 1892 года рождения;
Каменко Алексей Николаевич, 1898 года рождения;
Костецкий Юльян Францевич, 1880 года рождения;
Лесняк-Чернова Мария францевна, 1891 года рождения;
Новийкий Апполинарий Болеславович, 1915 года рождения;
Поляков-Силицкий Василий Митрофанович, 1904 года рождения;
Рогачевский Александр Прокопьевич, 1903 года рождения;
Рогачевский Прокопий Прокопьевич, 1888 года рождения;
Сварчевский Александр Пиусович, 1873 года рождения;
Солтан Корней Осипович, 1878 года рождения;
Татырка Банифат Адамович, 1895 года рождения и другие.
Сколько человек было расстреляно в Колпашево в самый пик репрессий, установить невозможно. Можно предположить, что в данном захоронении покоится не менее 4 – 5 тысяч невинно убиенных. Хотя есть сведения, что расстрелы производились не только в Колпашево, но и в пригородном Тогуре и ряде других мест.
Параграф из недавней истории
После войны здание окротдела НКВД было снесено и на этом месте образовался пустырь. Прошли годы… Наступление реки на город привело к тому, что где-то с 1960 года территория бывшего НКВД начала обрушиваться в Обь. С тех пор и начали обнажаться временами братские могилы расстрелянных. Беспокоились власти. Под руководством представителей органов госбезопасности проводились буровые работы на территории, ранее принадлежавшей окротделу. Первая стадия работ по химическому уничтожению захоронений проводилась в 1968 году.
СНЕГИРЕВ Н.С., бывший командир студенческого стройотряда:
«Очевидцем происходившего был я сам и все 50 человек строительного студенческого отряда. Размеры захоронения, сообщенные капитаном судна, производившего размыв берега в 1979 году, совпадают с моими данными по размерам территории, на которой работала группа «геологов» – как они нам представились. Захоронение находилось на огороженной забором территории размером 70х170 метров в противоположной стороне от здания НКВД, которое примыкало одной стороной к забору. Размеры здания были около 60х17 метров.



