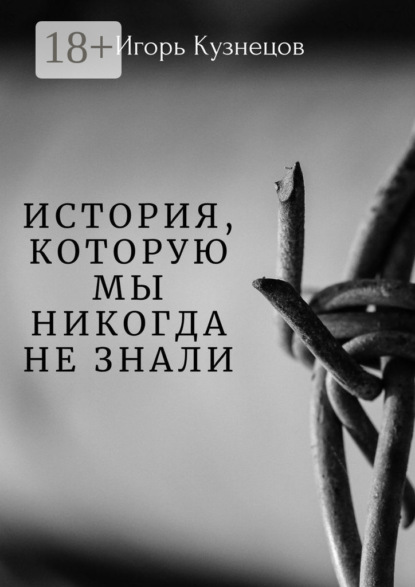
Полная версия:
История, которую мы никогда не знали
Отделы и отделения РОВСа имелись в Западной, Восточной, Юго-Восточной Европе, на Дальнем Востоке, в Америке, Азии. К началу 30-х годов союз насчитывал около 40 тысяч членов (в 20-е годы их было до 100 тысяч), причем численность в случае экстремальной необходимости могла быть увеличена в два – три раза.
Значительную часть росовцев составляли бывшие офицеры. Будучи теперь таксистами и чертежниками, рабочими и студентами, бухгалтерами и профессорами, они все еще оставались поручиками, капитанами, полковниками…
Забытый генерал
Александр Павлович Кутепов до революции служил в гвардии, повоевал на фронтах первой мировой, в 1917 году 35-летним полковником командовал Преображенским полком. Гражданскую войну начал ротным командиром добровольческой армии в первом кубанском (ледяном) походе генерала Л. Корнилова, затем последовательно стал корпусным командиром, генералом от инфантерии. В РОВСе длительное время руководил разведывательной работой.
Реальные результаты ее были невелики – прежде всего в силу успеха чекистской контракции: действовавшего в 1922 – 1927 годах мифического «Треста», о котором сейчас широко известно, но главным образом по детективным романам и кинофильмам.
Что же собой в действительности представлял «Трест», еще предстоит выяснить по первоисточникам. Отметим, что видный монархист В. Шульгин на склоне лет рассказывал о своей беседе с главным «трестовцем» А. Якушевым, который подчеркивал, что инициатором создания «Треста» был Троцкий, который, видимо, предполагал использовать его в борьбе за власть. «Трест» – это измена, поднявшаяся в такие верхи, о которых вы даже не можете и помыслить, – говорил он.
Так или иначе «Трест» имел обширнейшую информацию о заграничных антисоветских центрах. «Попались на удочку ГПУ почти все организации, огромное количество политических деятелей чувствует, что у них рыльце в пушку, что углубление вопроса обнаружит их глупую роль», – отмечал Врангель.
Не стала исключением и служба генерала Кутепова, получавшего регулярно корреспонденцию «Треста», использовавшая его явки и «окна» через границу. «Трестовцы» мастерски играли на нереализованных амбициях генерала, сообщая ему об избрании почетным членом и почетным председателем многочисленных «подпольных групп» в Советской России, подчеркивая его «неоспоримое преимущество» перед Врангелем и великим князем Николаем Николаевичем: «Вы, и только вы спасете Россию, среди нас одно ваше имя пользуется популярностью, которая растет и ширится».
Генерал А. Деникин, в руки которого волею судеб попала переписка «Треста» с Кутеповым, был поражен широтой и глубиной этих контактов, а также поразительной беспечностью, казалось бы, умудренного жизненным опытом человека.
Кстати, от этой беспечности пострадала и семья Деникина. Антон Иванович как-то попросил Кутепова выяснить возможность выезда из Советской России за границу своего тестя В. Чижа, служившего на железной дороге в Крыму, предупредив о конфиденциальности поручения и необходимости сохранить в строгой тайне связь Чижа с Деникиным.
После этого никаких сведений о тесте больше не поступало. Каково же было изумление старого генерала, когда он обнаружил одну из записок Кутепова в «Трест»: «Деникин просит информировать о стоимости перевозки его тестя из Ялты…» (!) Справедливости ради надо сказать, что Кутепов имел и свои собственные, не связанные с «Трестом» «окна», поэтому весной 1927 года после скандала с разоблачением «Якушева и компании» он приступает к массированным диверсиям.
Были произведены взрывы в Центральном партийном клубе в Ленинграде, подложены зажигательные бомбы в одно из зданий ОГПУ на Лубянке в Москве, осуществлены переброски вооруженных террористических групп из Финляндии, Латвии, Эстонии. Впрочем, эти отчаянные действия особого эффекта не имели: диверсанты были либо убиты в перестрелке, либо покончили с собой.
25 апреля 1928 года умер Врангель, а 5 января 1929-го – великий князь Николай Николаевич. Председателем РОВСа стал Кутепов. «Нельзя ждать смерти большевизма, его надо уничтожить», – заявил он на парижском банкете в его честь. Новый председатель предпринимает интенсивные попытки консолидации антисоветски настроенных эмигрантов, твердо проводит линию на сохранение кадров армии и военных организаций.
«В этот вечер, как никогда, чувствовалось, что русская армия жива, несмотря на все испытания и 8 лет жизни на чужбине, – писал журнал „Часовой“ после встречи с Кутепова с белоэмигрантами в Чехословакии. – Молодые профессора, инженеры, юристы, архитекторы, студенты в штатских костюмах, собравшиеся чествовать своего вождя, снова почувствовали себя офицерами и солдатами, и до полуночи гремело восторженное „ура“ в ответ на речи генерала Кутепова и других ораторов».
Выступая в Сербии перед кубанскими казаками, «вождь» даже объявил, что сигнала «поход» еще нет, но сигнал «становись» уже должен быть принят членами РОВСа. Времена «Треста» прошли, но было бы наивно полагать, что им одним ограничилась зарубежная деятельность ОГПУ. Чекисты иностранного отдела служили в полпредствах, осуществляли вербовку русских эмигрантов и граждан различных стран. Не мог, конечно же, чувствовать себя в безопасности и председатель РОВСа, особенно столь активный, как Кутепов…
Он же, однако, упорно отказывался от услуг телохранителей, мотивируя это нежеланием расходовать средства союза. В конце концов бывшие офицеры добровольческой армии, а ныне парижские таксисты взяли дело охраны на себя и возили безвозмездно своего генерала по служебным и личным надобностям в будние дни. По воскресным дням он отсылал их, приказывая «не обременять себя». Именно в воскресенье все и произошло…
По показанию одного из свидетелей 26 января 1930 года серо-зеленый «Альфа-Ромео» и такси «Рено» красного цвета остановились на углу улиц Рузель и Удино. Трое мужчин (один из них в форме полицейского) вышли из машины. Около одиннадцати утра человек среднего роста с аккуратно подстриженной бородой, одетый в темное пальто и фетровую шляпу, появился на улице.
Вдруг один из троих схватил его за правую руку, другой – за левую, и, несмотря на сопротивление, затащили в серо-зеленую машину, в то время как «полицейский» занял место рядом с шофером. Машины двинулись по направлению к бульвару Инвалидов. После ознакомления с фотографией генерала Кутепова свидетель опознал его в «человеке с черной бородой».
Второй свидетель также показал, что видел борьбу, имевшую место в серо-зеленом автомобиле. Оба свидетеля, видя присутствие полицейского, сочли что наблюдают обыкновенный арест.
На мосту Альма, где обе машины задержались в потоке транспорта, третий свидетель, женщина, видела одного из пассажиров серо-зеленого «Альфа-Ромео», закрывшего носовым платком лицо своему соседу. «Полицейский» же выскочил из машины и направлял движение транспорта, освобождая дорогу. Женщина спросила, что произошло с человеком в машине, и получила ответ от «полицейского», что ноги несчастного были придавлены в дорожном происшествии-, и они дают ему эфир для притупления боли.
Обе машины с «полицейским» во главе были затем замечены многими прохожими на дорогах в Нормандию к побережью. А в четыре часа того же дня влюбленные, прогуливавшиеся в дюнах Фале де Вашнуар, что между Кобургом и Трувиллем, были весьма удивлены прибытием двух машин на пустынный пляж – серо-зеленого автомобиля «Альфа-Ромео» и красного такси «Рено». Влюбленные видели также моторную лодку, фланирующую вдоль берега, и пароход, стоявший на якоре в отдалении.
Как только появились автомобили, моторная лодка подошла к пляжу, но вынуждена была остановиться в нескольких шагах от берега. Двое, «полицейский» и «женщина в бежевом пальто», взвалили на плечи большой продолговатый предмет, завернутый в мешковину. х
Они вошли в воду и положили предмет на дно лодки, где находилось еще два человека. Лодка на полной скорости помчалась к пароходу, который поднял якорь и ушел, как только находившиеся в лодке и их таинственный груз оказались на борту. Это был советский пароход «Спартак», неожиданно ушедший из Гавра днем раньше. Обе машины с псевдополицейским и «женщиной в бежевом пальто» выехали по направлению к Парижу.
Официальное расследование похищения длилось долго, и к его завершению французское правительство предпочло замять дело, дабы не рисковать разрывом отношений с СССР. Частное следствие по делу Кутепова было проведено Владимиром Львовичем Бурцевым, известным издателем и журналистом, чьи произведения, наконец-то, стали доступны современному читателю.
Разоблачивший в свое время знаменитого провокатора Азефа, Бурцев вложил много сил в выяснение загадки исчезновения белого генерала. Он близко сошелся с Фехнером, бывшим резидентом ГПУ в Берлине, который стал невозвращенцем и скрывался от прежних хозяев в Германии. Именно Фехнер и рассказал Бурцеву о тех, кто организовал похищение. Их было четверо, все – сотрудники советских представительств во Франции, все – штатные агенты иностранного отдела ОГПУ СССР. Главную роль играли двое: В. Янович и Л. Гельфанд.
Янович был репрессирован в конце 30-х годов, а Гельфанд, кстати, племянник известного германского социалиста-демократа Парвуса, умер в Нью-Йорке своей смертью через тридцать с лишним лет. В начале второй мировой войны он занимал должность поверенного в делах СССР в Италии.
В июне 1940 года при помощи зятя Муссолини Чиано и сотрудников американского посольства выехал в Соединенные Штаты под предлогом того, что он может быть ликвидирован в Москве. Гельфанд получил политическое убежище в Америке, стал жить под чужой фамилией, и, вероятно, раскрыл немало секретов американской разведке. Однако о похищении Кутепова его, видимо, не спрашивали – по крайней мере, никакой информации об этом в печать не просочилось.
В советской печати впервые сказано было об операции чекистов по похищению генерала Кутепова в статье Н. Шиманова «Мои дополнения к роману Л. Никулина «Мертвая зыбь». Однако до сих пор об этом больше не распространялись.
Что же все-таки стало с Кутеповым? Его личный врач, хорошо известный хирург И. Алексинский говорил, что из-за тяжелого фронтового ранения в грудь организм генерала не мог вынести анестезии, поэтому применение эфира или хлороформа (платок в машине!) вкупе с борьбой и волнением должно было привести к смертельному исходу. Впрочем, это только предположение…
Интересна судьба сына генерала Кутепова – Павла, которому, когда исчез отец, не было еще и пяти лет. Он жил и учился во Франции, Латвии, Сербии. В 1943 году был изгнан из учебного заведения за антифашистские взгляды, участвовал в югославском Сопротивлении. В сентябре 1944 года перешел линию фронта и некоторое время служил переводчиком в Красной Армии, однако затем был осужден на десять лет по 58-й статье.
После освобождения в 1954 году работал на текстильных предприятиях Иванова, а с 1960 года – в Отделе внешних церковных сношений Московского патриархата, был главным редактором бюро переводов и информации. Умер в декабре 1983 года. В некрологе, написанном тогдашним председателем отдела митрополитом Филаретом (ныне Патриаршим Экзархом всея Беларуси), отмечалось, что он «обладал редкостными качествами души и высокими христианскими достоинствами, всегда был дружественно настроен, приветлив, чуток и внимателен с людьми»…
Честь имею
Новым председателем Русского общевоинского союза стал 63-летний генерал Евгений Карлович Миллер. Выпускник Николаевского кавалерийского училища в Петербурге, он служил затем в лейб-гвардии гусарском полку, окончил Академию генерального штаба, был военным атташе в Бельгии, Голландии, Италии, находился на штабной работе.
В 1915 году Миллер был произведен в генерал-лейтенанты, командовал корпусом в первую мировую войну, а во время гражданской боролся с революцией на Севере, будучи военным губернатором Северного фронта. По свидетельству современников, он встал во главе РОВСа вовсе не в силу личных амбиций, а лишь из чувства служебного долга, поскольку был первым заместителем у Кутепова.
И генерал Миллер, как мог продолжал линию своего предшественника: устраивал смотры чинов союза, содействовал военному образованию и воспитанию подрастающего поколения, не брезговал подготовкой новых антисоветских диверсий. РОВС неумолимо разъедали внутренние противоречия. То там, то здесь проявляли свои амбиции руководители региональных кружков и групп.
За спиной Миллера генералы П. Шатилов и Ф. Абрамов готовили создание нового центра на основе «предварительного секретного сговора с необходимым числом влиятельных руководителей эмигрантских организаций». Свинью подложил Миллеру и генерал А. Туркул, последний командир Дроздовской дивизии.
Он объявил в июне 1936 года о создании независимого Русского национального союза участников Великой войны, грубо нарушив тем самым уставные принципы РОВСа, запрещавшего его чинам участвовать в других организациях. Исключение из рядов РОВСа чрезвычайно популярного в эмигрантских кругах генерала, отрешение его от символической должности «командира Дроздовского стрелкового полка» отнюдь не способствовало росту авторитета Миллера и его ведомства.
Наступление фашизма, его воздействие на русские воинские организации также способствовали расколу эмиграции, большая часть которой никак не могла принять на вооружение идеологию и практику фашизма. Тем не менее в циркуляре Миллера от 2 января 1937 года говорилось: «Мною уже неоднократно указывалось о необходимости всех чинов Русского общевоинского союза быть основательно ознакомленными не только с теорией фашизма (национал-социализма), но и с тем, как на практике применяются эти теории в государственном масштабе – в Италии, Германии, Португалии и т. д.
Указывалось мною и на то, что в настоящее время фашизм со всеми его видоизменениями, обусловленными особенностями данного государства, завоевывает все больше и больше последователей, и не будет преувеличением сказать, что переживаемая нами эпоха может быть охарактеризована как эпоха борьбы новых фашистских форм государственного устройства с отживающей формой парламентского демократизма.
Ввиду изложенного, а также потому, что мы, члены Русского общевоинского союза, являемся как бы естественными идейными фашистами, ознакомление с теорией и практикой фашизма для нас обязательно».
Осложнение международного положения Советского Союза, развертывание массового террора, для которого не существовало государственных границ, не могло не вызывать резкой активизации деятельности сталинских спецслужб на Западе.
В декабре 1934 года скандал разразился в Белграде, где ответственный сотрудник IV отдела РОВСа ротмистр А. Комаровский, сам того не ведая, оказался втянутым в передачу секретной информации советским агентам, бывшим белым офицерам Леницкому, Шклярову и Драги.
Большой объем агентурной работы осуществлял эмигрантский «Союз возвращения на Родину», особую активность в котором проявил С. Эфрон, муж поэтессы Марины Цветаевой. Велась слежка за семьей Л. Седова, сына Троцкого, организовывалось уничтожение бежавших от сталинской тирании Беседовского, Агабекова.
5 сентября 1937 года в Лозанне был «ликвидирован» еще один невозвращенец – в прошлом известный чекист Игнатий Райсс (Людвиг Порецкий). Причем для руководства операцией в Швейцарию прибыл сам заместитель начальника иностранного управления госбезопасности НКВД СССР М. Шпигельгасс. Однако этим дело не ограничилось. Измена проникла в самое сердце РОВСа.
Патриот или предатель?
Николай Владимирович Скоблин доблестно воевал в первую мировую войну, стал кавалером многих орденов. Потом в чине капитана прошел Ледяной поход с П. Корниловым, приобрел заслуженную славу в деникинской и врангелевской армиях, став в неполные 28 лет лет генерал-майором, командиром Корниловской дивизии, одной из самых боеспособных в белой армии. В конце 1919 года его дивизия пленила артистов красноармейского театра, среди которых была и знаменитая исполнительница романсов Н. Плевицкая. В 1921 году в Галлиполи Надежда Васильевна, наконец, приняла предложение молодого генерала и вступила в своей третий по счету брак.
Она явно играла ведущую роль в этой паре, и вовсе не из-за восьмилетней разницы в возрасте, а в силу ее природного ума, артистизма, врожденной тактичности. Простое крестьянское происхождение и отсутствие элементарного систематического образования никак не помешали ей стать весьма популярной и любимой в широких кругах эмигрантской общественности.
Скоблин часто сопровождал жену на гастроли, выполняя хлопотные организационные обязанности. Плевицкая имела успех. В Америке ей аккомпанировал сам С. Рахманинов. Правда, к концу 20-х годов положение стало меняться к худшему, у семьи появились серьезные финансовые проблемы.
Но вдруг все переменилось. Супруги стали широко тратить деньги, устраивать приемы, купили двухэтажный дом, роскошный автомобиль. И это все на фоне усиливающейся бедноты русских эмигрантов! Генерал Скоблин успешно продвигался по служебной линии. В 1935 году он возглавил специальный отдел РОВСа – так называемую «Внутреннюю линию», в задачу которой входило получение информации об эмигрантах, подозреваемых в просоветских симпатиях, а также отбор агентов для работы в Советском Союзе.
Правда, после этого назначения генералу Миллеру стала поступать информация о якобы имевших место связях Скоблина с советской разведкой. Был назначен суд чести из старых, заслуженных генералов, который не обнаружил достаточных оснований для обвинения и полностью реабилитировал Скоблина. Тем не менее он был отстранен от работы во «Внутренней линии», продолжая в то же время занимать ответственный пост в штабе РОВСа.
Воскресный день 19 сентября 1937 года был праздничным для русских парижан. Торжественно отмечалось 20-летие Корниловского ударного полка. Распорядителем был Скоблин, символический «командир полка».
На праздник прибыло много почетных гостей, в том числе дочь Корнилова Н. Шаперрон и даже упорно игнорировавший мероприятия эмигрантских организаций А. Деникин. Кульминацией праздника был банкет в помещении Галлиполийского союза, на котором председательствовали генералы Скоблин, Деникин и Миллер. Торжества изрядно затянулись, поэтому прибывшие в Париж гости задержались на три дня. Последний день, 22 сентября 1937 года, оказался роковым…
Как помнит читатель, генерал Миллер в полдень вышел из штаб-квартиры РОВСа, что на улице Колизе. Перед уходом он, однако, передал своему заместителю генералу П. Кусонскому запечатанный конверт и обратился со странным поручением: вскрыть конверт, если он не вернется, и прочесть содержимое.
В конверте находилась записка следующего содержания: «Сегодня у меня свидание в 12.30 с генералом Скоблиным на углу улиц Жасмин и Раффе. Он должен сопровождать меня на встречу с германским офицером Штроманом, военным атташе одного из второстепенных государств, и с господином Вернером, сотрудником посольства. Оба они хорошо говорят по-русски. Встреча назначена по инициативе Скоблина. Это может быть западня, поэтому я и оставляю эту записку».
Он не вернулся. Кусонский же проявил поразительную небрежность. забыв о конверте. И лишь когда жена Миллера около одиннадцати вечера стала обзванивать коллег мужа, конверт был вскрыт.
Генерал П. Кусонский и другой заместитель Миллера, адмирал М. Кедров, были ошарашены содержимым. Они спешно выехали на улицу Колизе, причем Кедрова сопровождала его напуганная жена.
К Скоблину домой прибыл офицер-ровсовец, которому, однако, ничего не сообщили о содержании записки. Было уже около часу ночи, и супруги легли спать. Разбуженный порученцем, Скоблин спокойно выслушал сообщение об исчезновении Миллера, оделся и вместе с офицером выехал на такси на улицу Колизе. Он бодро зашел в кабинет председателя РОВСа, где находились Кусонский и Кедров. Офицер-порученец и жена Кедрова остались в прихожей.
Кусонский и Кедров буквально засыпали вопросами Скоблина. Поскольку он и не подозревал о существовании разоблачающей записки, то уверенно отвечал, что не видел генерала Миллера после воскресенья. Когда же ему показали записку, он сразу побледнел, потерял контроль над собой, однако затем вновь преобразился и продолжал утверждать, что не видел Миллера и что в 12.30 он вместе с женой был на Ленче в Русском ресторане, о чем могут сообщить свидетели. В конце концов адмирал Кедров предложил всем вместе поехать в полицию.
Перед уходом Кусонский и Кедров немного задержались, чтобы забрать бумаги. Скоблин извлек максимум возможности из этой маленькой задержки. Он покинул помещение в сопровождении жены Кедрова с офицером (который все еще ничего не знал о записке Миллера) и первым попал на лестницу. Когда же Кусонский и Кедров вышли, Скоблин исчез. Его следов не было ни на лестнице, ни на улице…
Ночью генерала Скоблина видели в двух разных местах. Около четырех часов утра он вошел в гараж на углу бульвара Пресбург и Порт де Тэн, где служил муж его сестры. Зятя не было, и Скоблин ушел. Сторож гаража, с которым он говорил, позднее показал, что генерал был бледен и растрепан. Через 15 минут в Нюлли он разбудил бывшего офицера-корниловца, жадно выпил стакан воды и занял 200 франков, сказав, что потерял бумажник. Скоблин ушел, пообещав вернуть деньги на следующий день, но больше его никто никогда не видел…
Французские власти перекрыли железнодорожные станции, морские порты, пограничные пункты, широко распространяли фотографии Скоблина. Все делалось правильно, но уже было поздно. По показаниям многочисленных свидетелей следствию удалось, однако, реконструировать точную картину и хронологию печальных событий. В общих чертах все было похоже на дело Кутепова.
Следствие установило, что встреча Скоблина и Миллера произошла недалеко от места, где советское посольство владело и арендовало несколько домов для своих сотрудников и служащих различных советских организаций. Внутри квартала на углу улиц Жасмин и Раффе находилось здание школы для детей сотрудников посольства. Школа оказалась запертой – были каникулы.
Из окна ближайшего дома свидетель, знавший Миллера и Скоблина, видел их обоих, стоявших у входа в пустующее школьное здание. Скоблин жестом руки пригласил Миллера войти. Третий человек, крепко сложенный, также стоял с ними, но спиной к свидетелю. Было это примерно в 12.50. Через 10 минут серый закрытый грузовик «форд» припарковался перед советской школой.
Этот же «форд» с дипломатическим номером прибыл в Гавр около четырех часов дня и остановился у дока, рядом с советским торговым судном «Мария Ульянова». Машина была в пыли, и ветровое стекло запачкано остатками насекомых, что случается при быстрой езде. В будний день 203 километра между Парижем и Гавром можно легко преодолеть за три часа. Массивный деревянный ящик приблизительно 6 футов длиной и 2 – 3 шириной был вытащен из грузовика с помощью четырех советских матросов и осторожно перенесен на трап судна. Вскоре «Мария Ульянова» снялась с якоря и ушла в открытое море, не известив предварительно администрацию порта и не завершив отгрузку товара, заказанного фирмой в Бордо.
Портовый инспектор, посещавший «Марию Ульянову» по делам службы, показал полиции, что в ходе его разговора с капитаном какой-то человек быстро вошел в каюту и сказал что-то ему по-русски.
После этого капитан закончил беседу, заявив, что получил радиограмму о немедленном возвращении в Ленинград. Инспектор, однако, знал, что подобные приказания обычно адресуются не прямо капитану, а агенту морской торговой компании. Как только он покинул пароход, он заметил грузовой «форд» и увидел большой деревянный ящик, втаскиваемый на борт. Проверка дипломатического номера установила, что грузовик был приобретен советским посольством за месяц до исчезновения генерала Миллера.
На следующий день после похищения министр национальной обороны Франции Эдуард Даладье пригласил к себе советского посла. Он настаивал на немедленном возвращении «Марии Ульяновой» во французские воды. Посол, однако, получил поддержку других членов французского кабинета, которые опасались ухудшения советско-французских отношений и усиления в этой связи позиций Германии. Им удалось убедить Даладье изменить свое первоначальное решение.
В результате по политическим мотивам официальная версия следствия обошла роль Скоблина как прямого организатора похищения. Тщательное изучение дня преступления, по опросам множества свидетелей, обнаружило необъяснимый провал в полтора часа, как раз совпадающий со временем свидания Миллера и Скоблина. Таким образом Скоблин был изобличен. Обыск в его доме выявил соучастие Плевицкой в преступлении. В ее Библии содержался код для шифрованной корреспонденции, использовавшийся супругами.
Финал
Следствие по делу Плевицкой длилось 14 с половиной месяцев. Суд состоялся в декабре 1938 года, защитником ее выступал известный в прошлом политик эсер М. Филоненко. В качестве свидетеля выступал и А. Деникин, который, кстати, в день исчезновения Миллера сам чуть не был похищен.



