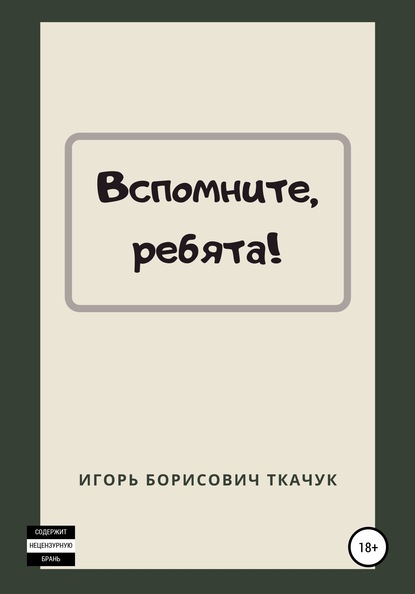 Полная версия
Полная версияВспомните, ребята!
Летом 2014-го он согласился с моим предложением составить его генеалогическое дерево. Решению задачи способствовала прекрасная память друга. Она в какой-то мере восполняла отсутствие семейных документов и фото, «уплывших» вместе с родительским домом во время наводнения 6 июля 2012 года. Определенное подспорье в уточнении забытых дат оказали надписи на памятниках многочисленной родни Евгения Андреевича, покоящейся на местном кладбище. В целях визуализации ветвей и персон генеалогического дерева использовалась компьютерная программа iRule. В ходе работы мне открылся неведомый ранее пласт информации не только о родословной друга, но и о множестве интересных деталей организации службы жизненного уклада казачьего сословия.
История рода начинается с прапрадеда по материнской линии – Егора Думцева, уроженца Курской губернии, крепостного, отданного барином в солдаты 73-го Крымского пехотного полка. В 1853–1856 годах полк воевал в Крыму. С 1857 года местом его дислокации стало возводимое на левом берегу реки Адагум укрепление, которое в 1862 году получило наименование станицы Крымской. По окончании срока службы «пра-пра» получил волю и был определен в казаки. В связи с переходом в новое сословие ему были предоставлены земельный надел и место для продажи произведенных продуктов.
Далее родословная плотно насыщена судьбами мужчин и женщин, участвовавших, как правило, не по своей воле в грандиозных исторических коллизиях. В их числе были участники гражданской войны, стоявшие друг против друга в рядах белых и красных войск. В близкие родственные связи вплелись исполнители и жертвы красного террора, заключенные и сотрудники Гулага, раскулаченные (в том числе дважды) земледельцы, вездесущие чекисты, офицеры Красной и Советской Армии.
Тетя Мария окончила на кошт общества казачье медицинское училище в Екатеринодаре, став по этой причине военнообязанной. Участвовала в «Ледяном походе» Корнилова в качестве мобилизованной медсестры, правда репрессиям не подвергалась.
Двоюродный дядя Петр служил по мобилизации в Таманской армии красных. Отступил вместе с «Железным потоком» под командованием Кожуха (см. одноименное произведение А. Серафимовича) в сторону Туапсе и далее, пропал без вести.
Двоюродный дядя Думцев Федор в 1921 году расстрелян ЧК у ограды винзавода станицы Крымской за уклонение от мобилизации.
Двоюродный дядя Пронов в гражданскую войну служил в ЧК станицы Крымской. Участвовал в поимке названного выше дезертира Федора Думцева. Впоследствии женился на его сестре, Думцевой Марии Федоровне, с которой прожил всю жизнь. Умер в Ташкенте.
Дядя Квитин Николай. Бывший царский офицер. В 30-е годы служил в системе ГУЛАГа. Был начальником отделения лагеря на Колыме. Умер в Москве. Жил в доме рядом с НИИ «Гидропроект».
Дядя Думцев Лука (похороненный рядом с моей мамой) с 1919 года служил по мобилизации артиллеристом в Белой армии. Воевал с красными в Крыму. Эмигрировал в Турцию. Был интернирован на полуострове Галлиполи. Бежал на шлюпке в Одессу. Трудился в Новороссийском дорожно-строительном управлении рабочим. Репрессирован в 1937 г. по обвинению в антисоветской агитации. Служба в Белой армии осталась вне поля зрения сотрудников НКВД (видимо реальные факты биографии Луки этих фальсификаторов интересовали мало). Освобожден в 1947 г., реабилитирован в 1958 г.
Дядя Тихон необычайно жадный до работы земледелец, один из немногих, кто вручную косил за день десятину (более 1 га или 10000 м2) луга или поля, был раскулачен в 1932 году и выслан на Черные земли между Ставропольем и Калмыкией. После вновь проявленного «трудового энтузиазма» отправлен в 1933 году на Урал, где остался до конца жизни. Дети и внуки вернулись в Крымск в 50-х годах (прошлого века).
Описать все уровни родственных связей Евгения Андреевича среди коренных крымчан и их жизненные коллизии задача, ожидающая своего М. А. Шолохова. По образному выражению друга, «на это и компьютера не хватит». Можно с уверенностью сказать, что его родственниками различной степени отдаленности являются не менее двух третей коренных жителей города.
К теперешним попыткам возрождения казачества Женя относится с недоверием в основном из-за лично знакомых ему малоуважаемых персонажей, записавшихся в это обновляемое сословие. Сам он от предложения пополнить ряды казачьего общества отказался.
Интересным фактом из дореволюционной жизни станицы Крымской являлось наличие маршрута конки, связывавшей вокзал с центральной площадью у винзавода, и общественной электростанции неплохой рабочей мощности. В 1913 году в расчете на ее энергию планировалось заменить конку трамваем. Намеченные работы были остановлены в связи с началом Первой Мировой войны.
Цех коммунистического труда
Начальник цеха Антонина Михайловна Сысоева была коммунистом – идеалистом «с человеческим лицом». Старательно внедряя предложенные партией формы морально-нравственного совершенствования работников, не обходила вниманием сугубо бытовые проблемы подчиненных. Правда, иногда интерес к условиям их жизни выглядел избыточным. Помню возмущение Жени Солохи, оформлявшего у цехового бухгалтера справку на приобретение в рассрочку костюма в местном универмаге. Такие покупки широко пропагандировались торговлей. Взносы за них перечислялись бухгалтерией. Подписывая документ, Антонина Михайловна спросила моего друга: «А у отца такой костюм есть?». Это был «ляп». Отношения с родителем у Жени были натянутыми. Кроме того, отец недавно ушел из семьи.
Сподвижником Антонины Михайловны на воспитательном поприще был парторг цеховой организации Е. Т. Ильин, формально числившийся руководителем несуществующей 3-й бригады слесарей. В свое время он прошел в цеху обучение специальности слесаря, однако в этой сфере не преуспел.
Увлеченность Антонины Михайловны идеей создания образцового коллектива невольно порождала у нее готовность наделять отдельных работников несвойственными им высокими моральными и идейными качествами. Таким заблуждениям способствовала однобокая оценка хороших производственных показателей подчиненных. Порой этот подход оборачивался обидным разочарованием.
В духе того времени наш цех боролся за звание коллектива коммунистического труда, которое со временем получил. Это почетное звание сначала было присвоено одной из двух реально существующих бригад слесарей. Гордостью Антонины Михайловны стали также ударники коммунистического труда – четыре токаря, значительно перевыполнявшие нормы выработки. Одним из них был мастер-наставник Г. Камышанов, над которым, по нашему с В. Дерявко мнению, висела тень «шубы». В смысле «то ли он украл…».
Возникло это представление во время выполнения заказа на полторы тысячи чугунных роликов для подвесной грузовой дороги. Работа была распределена между Камышановым, Дерявко и мною. Это была хорошая серия, без частой перенастройки станка, сулившая спокойный труд и нормальный заработок. Изготовленные детали мы складывали у своих станков, откуда их «с колес» забирали монтажники. Учет выполненной работы велся на основании наших собственных записей в индивидуальных нарядах. Это был элемент воспитания доверием. Скандал разразился при подведении итогов, когда обнаружилась нехватка 200 изделий. При «разборе полетов» Антонина Михайловна без колебаний приказала разделить недостачу между мной и Дерявко. В основе ее решения лежал вопрос-утверждение: «Вы же не скажете, что виноват Камышанов?». Мы, действительно, промолчали, хотя такая мысль у нас возникла. Прямых доказательств в то время еще не было. Обвинения в умышленной приписке нам не предъявили. Было признано, что «молодежь» ошиблась в подсчетах. Недостающие ролики мы с В. Дерявко изготовили бесплатно. От этой истории у нас остался определенный осадок, поскольку ошибиться с таким молодецким размахом мы не могли. Кроме того, работая в одну смену на соседних станках, видели примерно равный выход деталей друг у друга. Камышанов был не из нашей смены. Позже подозрение о приписке им количества готовых изделий нам доверительно подтвердил его тогдашний ученик Юра Музыченко.
Крах «ударника» произошел несколькими месяцами позже. В тот день «Антонина», как по-семейному называли ее в цехе, собрала наш коллектив на стыке первой и второй смен для обсуждения неприглядной ситуации. Кто-то украл из кладовой бухту троса стоимостью около сотни рублей. Обращение Антонины Михайловны помню дословно:
«Товарищи, прошлым вечером был украден трос. Если не вернем, Варя (кладовщица, мать одиночка с окладом 60 рублей новыми) заплатит за него из своего кармана. Что будем делать?».
Возникла тягостная пауза, которую неожиданно прервал бывший детдомовец, выпускник ремесленного училища, токарь Печёнкин: «Пусть признается, кто это сделал. Если не захочет, я его сам назову».
Опять пауза и снова Печёнкин: «Камышанов, почему молчишь? Я же видел, ты его нёс!». Камышанов залепетал о своем колодце, о случившейся ошибке, о намерении вернуть бухту и пр.
Лицо Антонины Михайловны последовательно отразило удивление, негодование и, наконец, глубокую личную обиду. С собрания расходились молча. «Ударник» рухнул. Был лишен звания, снят с отличного станка 1П611 Куйбышевского завода, временно переведен в бригаду слесарей, а затем уволился вовсе.
Печёнкин работал в цеху до середины 70-х. Его поведение на памятном собрании коллектив одобрил без громких слов.
Второй конфуз случился с А. Деменштейном, возглавлявшим бригаду слесарей коммунистического труда. Он купил при сомнительных обстоятельствах шины, как позже выяснилось, снятые с «Москвича» главного инженера комбината Чигиринского Б. Альбертом (о нем далее) и Ко. После разоблачения похитителей был разжалован за моральную неразборчивость в рядовые слесаря.
Неприятный случай иного рода произошел с ударником коммунистического труда, токарем-асом С. Д. Овчаровым. Семен Дмитриевич, согласившийся после долгих увещеваний вступить в КПСС и принятый в нее в качестве кандидата, вдруг отказался платить партийные взносы, заявив, что они без всякого проку уменьшают его заработок. Попытки устыдить отказника не помогли, и Семен Дмитриевич выбыл из числа кандидатов за неуплату членских взносов без уважительных причин. Следует отметить, что, несмотря на проявленную в этом конкретном случае прижимистость, Овчаров не имел среди окружающих репутации «куркуля», жадного, скупого человека вроде Жоры Мавромати.
Вообще, представления коллектива о справедливости отношений в сфере оплаты труда на комбинате несколько расходились с официальными установками. Особенно с решениями Н. С. Хрущева, тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР, стремившегося приблизить «горизонты коммунизма» путем урезания заработной платы и снижения финансирования социальной сферы.
Определенное недоумение в делах зарплатных существовало и ранее. Согласно отраслевым тарификационным справочникам изделия металлистов, трудившихся в пищевой отрасли, ценились на 1/3 дешевле, чем аналогичные детали, изготовленные работниками машиностроительных предприятий. Это объяснялось принадлежностью нашего комбината к отрасли группы «Б» (см. учебник «Политэкономия социализма»). Но ведь металл мы обрабатывали тот же, что и работники отраслей группы «А»!
А работники технологических цехов тем более не заслуживали зарплатной дискриминации, проводившейся по отношению к отрасли группы «Б». Достаточно было посмотреть на девчат, выходящих из варочных отделений цехов в санпропускник. Их короткие до колен, насквозь мокрые от пота, белые комбинезоны прилипали к телам, будто купальники отдыхающих при выходе из воды на берег. По словам мамы, температура в этих помещениях поднималась летом до 50-ти градусов. Это были «горячие» цеха, условия работы в которых были ничуть не лучше, чем у металлургов и других специалистов, имеющих право на льготную пенсию. По моим впечатлениям, эти молодые работницы приобретали профессиональные заболевания сердца и почек в течение одного сезона.
Женя Солоха вспоминал, как однажды во время школьной производственной практики, он вместе с работницами томатного цеха очищал от накипи изнутри варочный аппарат. После проникновения в неостывшее устройство через узкий люк и получасового пребывания в замкнутом пространстве мой друг выбрался на свет в полуобморочном состоянии. Сердобольные девчата почему-то отпаивали его сахарным сиропом. Вторично лезть в аппарат Женя отказался, позорно сбежав к регулировщикам закаток.
Летняя жара изматывала и нас. Плоская крыша механического была залита битумом, который в середине дня начинал стекать по водосточным трубам. Легкий охлаждающий эффект от мощных стационарных вентиляторов появлялся лишь около 4-х часов утра. Самой жаркой и тяжелой была смена с 16-ти до 24. Однако мытарства наших станочников, слесарей и даже кузнецов с литейщиками были пустяком по сравнению с парной атмосферой варочных и автоклавного отделений.
В августе – сентябре 1958 года нас, «пацанов», направили, следуя военной терминологии, на ликвидацию «прорыва» на сырьевой площадке. Удивительно, но этот термин ни у кого иронии не вызывал. В течение двух недель мы занимались внутризаводской перевозкой помидоров. Очередь машин с сырьем растянулась от заводских ворот более чем на километр. Время ожидания разгрузки вновь прибывшего транспорта доходило до 12 часов. Жалобы водителей на эту тему печатались в «Консервщике». Разгружать сырье было просто некуда. Запрудившие территорию ящики следовало погрузить на заводскую автомашину, отвезти к бункерам гидротранспортера и высыпать овощи в так называемый «баян». Освободившееся место тут же заполняли ящики из вновь въезжавших на комбинат автомобилей. Первая наша неприятность обнаружилась сразу. Из поднятых на уровень кузова ящиков по рукам, в подмышки, обильно струился сок раздавленных помидоров. Никогда ранее я не задумывался о разъедающих свойствах и об «аромате» этой влаги. За смену каждому из нас предстояло перевалить 10 тонн груза. К концу работы (с 16 до 24-х) кисти рук потеряли чувствительность, а подмышки приобрели малиновый цвет. Утром обнаружилось, что из-за «вредительской» формы внутренней части подошвы казенных резиновых сапог (в виде узкого желоба), я не смог встать на ноги от боли в ступнях.
Когда во время работы в дневную смену я, не успевая переодеться, ходил обедать домой, соседские девчонки, встречаясь со мной у подъезда, разбегались в стороны, демонстративно зажимая носы от въевшегося в спецовку запаха прокисших помидоров. После отработанных на «прорыве» 12 дней родной механический показался нам раем. Кстати, какой-либо дополнительной оплаты, кроме ученических, мы за нашу работу не получали.
Справедливости ради следует сказать, что уже в сезон 1959 года очереди на разгрузку помидоров были ликвидированы за счет постройки комбинатом пунктов первичной переработки сырья непосредственно на территории колхозов-поставщиков. С этого времени помидоры поступали в томатный цех в качестве пульпы. Таким же способом комбинат избавился от обмолота на своей территории зеленого горошка в ботве и в разы сократил связанные с этим продуктом перевозки. Теперь колхозы поставляли горошек в автоцистернах в виде обмолоченных зерен.
Особого внимания заслуживал тот факт, что все оборудование указанных выше пунктов было придумано, изготовлено и смонтировано нашим цехом.
Мало привлекательного было и в работе девчат круглый год сбивавших из шпона ящики для консервов. Они работали на дебаркадере фабрикатного цеха, защищенном от непогоды всего лишь навесом. От их рабочей площадки меня отделял тротуар перед окнами механического и рельсы заводской железнодорожной ветки. Удивляясь искусству девчат вгонять гвозди в головки (торцы) ящика со стремительностью мастеров ксилофона, я, находившийся зимой в теплом и светлом помещении, чувствовал себя белоручкой и «дезертиром трудового фронта».
Иногда на путях между мною и девчатами появлялся комбинатский паровоз серии 9-П с машинистом Славой Борисовым, приезжавшим «в гости» на время погрузки вагонов продукцией.
В первый раз я обратил внимание на остановившийся напротив окна паровик лишь после серии настойчивых гудков, дополненных жестами Славы: он приглашал меня к себе. Отлучиться от станка надолго возможности не было, однако нескольких минут хватило на то, чтобы под присмотром приятеля «порулить» локомотивом до конца фабрикатного цеха и обратно: дать «от себя» легкими толчками регулятор поступления пара (кран машиниста), вернуть его в исходное положение, затормозить, «перебросить» реверс и проделать все в обратном порядке. От приборов управления и контроля разбегались глаза. Одних вентилей было около двадцати штук. Как-то весной 1960 Слава привез трехлитровый баллон томатного сока, половину которого мы выпили, не выходя из паровозной будки.
Только сейчас, рассматривая пожелтевшую фотографию команды боксеров, опубликованную в комбинатской многотиражке, я обнаружил, что в подписи под ней Слава назван «машинистом паросиловой установки». Как это понимать? За что был унижен до невнятного статуса «установки» огнедышащий, стучащий колесами на стыках и издающий предупредительные гудки «пожиратель пространства» – локомотив? С какой стати моего приятеля лишили ореола мужественной железнодорожной профессии и призывных строк песни А. Пахмутовой (слова С. Гребенникова и Н. Добронравова) «Зорче вдаль машинист гляди!»?
Было ли это отражением бюрократических ухищрений с целью утаить неположенный комбинату «левый паровоз» или слегка замаскированная хохма корреспондента?
О втором варианте я подумал, вспомнив, как Коля Сидорин в ходе препирательства с оператором промышленной котельной установки из соседствовавшего с нами цеха использовал обращение «товарищ истопник». Оператор-машинист, управлявший сложным комплексом устройств высотой с трехэтажный дом, от такого унижения потерял дар речи.
А машинист Слава наряду с другими достоинствами обладал зычным голосом и громоподобным смехом. В 1961 году реформы «Персека – Хруща кукурузного» ударили по нашим заработкам сразу с трех сторон.
Во-первых, была проведена названная деноминацией (в 10 раз) денежная реформа, в реальности оказавшаяся девальвацией рубля. Большой мастер демагогии Н. С. Х. объяснял старшему поколению, что реформа будет иметь воспитательное значение, поскольку молодежь заелась до того, что никто не хочет поднять с земли найденную копейку. Теперь же, поскольку номинал монет в отличие от бумажных дензнаков не менялся, копейка «потяжелеет» в 10 раз, за ней нагнется каждый. Его словеса незамедлительно развеял рынок. Пучок зелени, стоивший ранее 30 коп., продавать за 3 коп. не хотела ни одна бабка. С бумажными деньгами ситуация была помягче, но их покупательная способность тоже снижалась на глазах. (Интуитивная реакция рынка имела под собой разумные основания. Специалисты в области финансов, увидели, что золотое обеспечение рубля было снижено реформатором в 2,25 раза. Во столько же раз уменьшилась его покупательная способность. Сейчас эти документы доступны пользователям Интернета).
Во-вторых, без внятных правовых оснований были драконовски понижены (по сути, девальвированы) разряды рабочих. Все «пацаны» вместо специалистов 4-го обратились в станочников и слесарей 1-го разряда. Ветеранов тоже «опустили», но насколько, я не помню. Правда, через год планку моей (и моих сверстников) производственной квалификации подняли аж до 2-го разряда.
В-третьих, вместо прямой сдельной оплаты труда станочников и слесарей перевели на «повременку», придуманную для оценки разного рода обслуживающих работ. Суть перемен заключалась в следующем. При сдельной оплате мой заработок исчислялся в рублях за единицу продукции, которая в зависимости от квалификации, необходимой для ее изготовления, оценивалась по тарифу соответствующего разряда. Моя номинальная квалификация для заработка значения не имела. Если я выполнял работу 5-го разряда, она оплачивалась именно по нему. Теоретически ограничений потолка заработка у меня не было. На практике он составлял 700–750 рублей (после «деноминации» 70–75 руб).
При переходе на «повременку» рабочим были установлены предельные ставки в соответствии с пониженными накануне квалификационными категориями. «Потолок» 2-го разряда составлял 55 рублей. Теперь цена деталей устанавливалась не в денежном исчислении, а в часах и минутах. Таким образом, для достижения «потолка» заработка мы должны были произвести деталей, на соответствующее количество рабочих часов месяца. Перевыполнение нормы на 10 % отмечалось небольшой премией.
Дальнейшее повышение производительности в коллективе не приветствовалось из опасения «срезания» часов нормировщиком. Об этом меня предупредил мой бывший мастер Б. А. Ревницкий.
При всех описанных переменах степень сложности поступающих заказов оставалась прежней, на уровне 2–5 разрядов. Мой друг-правдоискатель Женя Солоха, возражая против безосновательного снижения оценки его профессионального мастерства, систематически отказывался выполнять работы выше «присвоенного» ему 1-го разряда (ирония заключалась в том, что изделия, тарифицированные 1-м разрядом, на практике почти не встречались). Я не поддерживал его упреков руководителям цеха и комбината, понимая, что решения принимались на более высоком уровне.
«Мудрое решение партии» обернулось немедленным снижением производительности труда. Выработка всех и каждого не превышала оговоренные 110 %. Причем месячная норма часов вырабатывалась преимущественно в дневную смену. По вечерам, в отсутствие руководства, народ занялся, по тогдашнему выражению, «сельским хозяйством», т. е. выполнением заказов населения. Наибольшее распространение получили ручные машинки для закатывания крышек стеклянных банок (в зависимости от сложности модели их продавали по 2 руб.50 коп. или по 5 руб.). В магазинах этих закаток не было. Крышки, в отличие от 70-х, еще не были дефицитом. Ящики с ними стояли в неохраняемых штабелях на территории комбината. Занятия консервированием были повсеместными.
В числе других изделий на моей памяти изготавливались виноградные прессы, валы и ножи механических фуганков, ручные насосы для артезианских скважин и много иных нужных в хозяйстве вещей.
Я тоже изготовил две закатки, но не на продажу. Одну – из обычной стали с воронением. Она предназначалась для нас с мамой и сохранилась до сих пор. Устройство легкое в работе и надежное, правда, ныне слегка тронутое коррозией.
Вторая, классом выше, была сделана по заказу тети Жени из нержавейки с рукоятками из лакированного бука. Для облегчения усилий при закатывании эта машинка была снабжена двумя миниатюрными шарикоподшипниками, один из которых был вставлен в кронштейн, вращающийся вокруг патрона. Второй – в ролик, прижимающий край крышки к выступу банки.
Подшипниками меня снабдил руководитель авиамодельного кружка заводского клуба Г. Ф. Григориади (мама, постоянно сбиваясь, именовала его Гришей Гаврилиади). Это были детали списанных бензиновых моторчиков для моделей. В свою очередь, я выполнял по просьбе кружка различные токарные поделки.
Мы подружились с Григорием Федоровичем в 1959 году, несмотря на разницу в возрасте в 17 лет. Его отец – редактор существовавшей в Крымске до Войны газеты на греческом языке (с 1930 по 1939 годы станица была центром Греческого района), был репрессирован в 1937 году и погиб в ГУЛАГе.
Окончивший десятилетку Григорий Федорович (Фемистоклович), ушел на фронт в 18 лет, воевал в составе 318-й Новороссийской горно-стрелковой дивизии. В декабре 1944 года в бою под словацким Кошице был тяжело ранен и потерял ногу.
Я знал, что мой новый друг пишет стихи, но это его увлечение меня не интересовало. В первую очередь нас сближало то, что он был судьей на матчевых встречах боксеров ДСО «Труд» и знатоком истории этого вида спорта. По воспоминаниям нашего токаря-аса С. Д. Овчарова, до войны Г. Ф. Григориади был разносторонним спортсменом. Играл в волейбол в одной команде с Семеном Дмитриевичем. Выигрывал соревнования по боксу и штанге. В Действующую армию они оба были призваны Крымским РВК в феврале 1942 года. Однако, в отличие от Г. Ф. Григориади, гвардии сержант Овчаров воевал в эскадроне связи 12-й гвардейской кавалерийской Донской, Корсунской Краснознаменной, ордена Кутузова казачьей дивизии. По данным Минобороны, 28.02.1944 года он был награжден медалью «За отвагу».
Как и во многих других случаях общения с фронтовиками, ни от С. Д. Овчарова, ни от Г. Ф. Григориади мне не доводилось слышать рассказов о Войне, и тем более об их участии в боевых действиях. Лишь однажды, по случаю, Григорий Федорович упомянул о далеко не героическом эпизоде периода отступления с Кубани. Их подразделение проходило мимо оставленной цистерны с подсолнечным маслом, которое текло на землю из открытого крана. Один из бойцов, не выдержав картины уничтожения добра, выбежал из строя и наполнил продуктом котелок. Тут же, не мешкая, он отхлебнул из емкости несколько глотков, а затем потреблял масло, макая в него хлеб. Расплата за неумеренность последовала неотвратимо. Приступы диареи были настолько частыми, что боец, казалось, пустился вприсядку.



