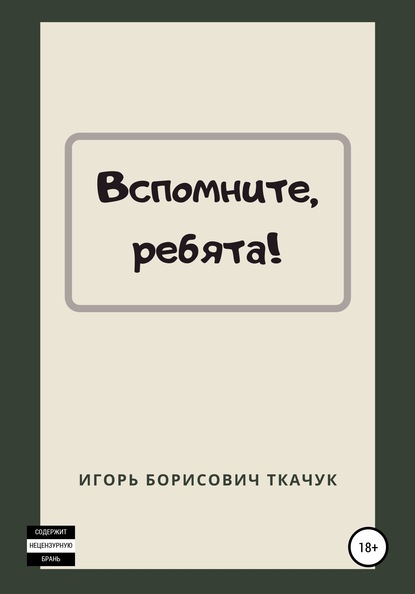 Полная версия
Полная версияВспомните, ребята!
Въедливый И. Г. Золотарев, исследуя станок, обнаружил, что Шапошников, ремонтируя в свое время червячную передачу, умышленно изменил шаг винта и маточной гайки. Это сделало зафиксированные на скрижалях станка формулы и уравнения бесполезными для расчетов. «Дед» же вносил в данные соответствующие поправки, значения которых держал в тайне.
Однако обратимся к Жоре. По оценке Марика, Мавромати был специалистом экстра-класса. Не могу судить, достиг ли мой друг Марк Петрович таких же высот, работая в Иркутске (сам он сравнения избегал), но по итогам одного из профессиональных конкурсов лекальщиков в рамках Министерства тяжелого машиностроения СССР он занял первое место. Марик изготовил вручную металлический куб высокой чистоты обработки с идеально правильными сторонами и гранями (что само по себе очень непросто). Изюмина же заключалась в том, что куб этот состоял из множества незаметных невооруженному глазу кубиков меньших размеров, «слипшихся» в результате межмолекулярного взаимодействия настолько плотно, что для их разделения требовались нешуточные усилия. Такой эффект был достигнут за счет высочайшей чистоты обработки поверхности, позволяющей приблизить молекулы противоположных сторон друг к другу на необходимое для слипания расстояние. Как победителя, Марика приглашали работать на один из ведущих заводов отрасли в Ленинград, однако покидать Иркутск он отказался.
В отличие от Г. Мавромати Марик был весьма щепетилен в денежных делах. Его супруга Галя жаловалась, что он категорически отказывался от дополнительных заработков «на стороне», даже в те времена, когда они были бы весьма кстати. В качестве примера она рассказала о таком случае. Марик с детства носил очки нестандартной ширины, оправы которых в продаже встречались очень редко. Став лекальщиком, он решил задачу приобретения дефицита просто: изготавливал оправу из пластмассы своими руками. Со стеклами в мастерских проблем не было. Технологию окраски плексигласа ему «продал» зэк из колонии, изготавливавшей для ИЗТМ тару. Ноу-хау обошлось Марику в пачку индийского чая. Мне он раскрыл секрет производства бесплатно. Плекс варился в растворе йода или зеленки различных концентраций и на выходе приобретал коричневый или зеленый цвет потребных оттенков. Изделия Марика отличались строгим изяществом.
Когда Марик впервые принес нестандартную оправу для вставки стекол в мастерскую по изготовлению очков, тамошний специалист чрезвычайно заинтересовался источником ее приобретения. Узнав правду, стал горячо упрашивать умельца наладить изготовление этих эксклюзивных изделий на продажу. Обещал приличный доход. Давил на сочувствие к нуждающимся. Не помогло.
Вернуться на должность начальника отдела кадров ИЗТМ Марка попросил новый директор предприятия. Это произошло через полтора года. К тому времени прежний директор был на пенсии.

Марик в очках с оправой собственного изготовления. 1983 г, плот, р. Лена.
Пережив вместе с заводом тяжелейшие 90-е годы, Марик активно участвовал в возрождении ИЗТМ. В 2004 году по его инициативе был воссоздан музей боевой и трудовой славы предприятия. Возвращены на аллею памяти скульптуры В. В. Куйбышева и С. М. Кирова (разбитый и утопленный вандалами в реке бюст И. В. Сталина отыскать его не удалось).
О неприятии Мариком распространившихся в новых условиях идей наживы и накопления материальных ценностей красноречиво свидетельствуют следующие строки Годового отчета ОАО «ПО «ИЗТМ», утвержденного в 2014 году.
«Глухов Марк Петрович, председатель Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги: нет…».[18]
Должность Председателя совета директоров ИЗТМ Глухов Марк Петрович занимал до последнего дня своей жизни. Он умер 13 сентября 2015 года.
Часть друзей, с которыми мне довелось осваивать профессию токаря, осталась в Крымске.
Один из них токарь Женя (Евгений Семенович) Голов, игрок заводской футбольной команды, мастер веселых выходок и исполнитель песен под гитару. «Подруга семиструнная» сопровождала его на выездных матчах и, по нынешним представлениям, использовалась в качестве инструмента психологической разгрузки команды. Иногда по причине широкой натуры Евгения Семеновича его музыкальные номера выходили за пределы узкого круга спортсменов.
Один из таких случаев произошел летом 1959 года в Ереване. В этом городе, имеющем свой консервный завод, проходило первенство футбольных команд Добровольного спортивного общества «Труд». Наши ребята разместилась в одной из городских гостиниц. По окончании соревнований, вечером накануне отъезда, игроки расслаблялись пением под гитару, употребляя легкие (и не очень) напитки. Среди них оказался печальный армянин из числа временных постояльцев. Прослушав в исполнении Жени песню-покаяние «Помнишь, мама моя…», этот подвыпивший мужчина рассказал о причине своей душевной горечи. Оказывается, он был вынужден расстаться с женой в результате интриг ее родственников, но теперь приехал уговаривать свою бывшую половину вернуться. Сейчас он понял, что размягчить ее сердце перед решительным объяснением должно исполнение песни «про маму и девчонку». Петь предполагалось под балконом экс-супруги. Реализовать задумку следовало в тот же вечер. Шутливое обсуждение такой возможности друзьями по команде перемежалось очередными тостами и в конце-концов закончилось решением ехать к нужному адресу на такси.
Кроме покинутого мужа и Жени, в экспедицию направились два ассистента из числа игроков команды – А. Синченко и М. Пахоян. На случай агрессивной реакции родственников или соседей бывшей жены машину предусмотрительно оставили в «шаговой доступности». Время начала серенады близилось к полуночи, и значительная часть окон трехэтажного дома была темна. Однако при звуках «вечерней песни» бо́льшая их часть осветилась. Некоторые жильцы, выйдя на балконы, узнали страдальца, по лицу которого текли слезы. Послышался голос: «Это ты, Тёмик? Хорошо придумал, молодец!».
Неосвещенным осталось лишь окно той, кому посвящалось музыкальное произведение. Причину неудачи объяснил другой сосед: «Ануш уехала в Абовян. Приходи завтра, Тёмик! И друзей бери!». С балконов просили продолжить исполнение, но команда, посчитав миссию завершенной, вернулась на базу. Окончание истории Тёмика и Ануш осталось неизвестным.
Незатейливые и доброжелательные розыгрыши Жени время от времени пополняли копилку цехового и заводского фольклора. Однажды во время обеденного перерыва вечерней смены мы с ним слегка подшутили над дежурным пожарной охраны. Собственно мое участие заключалось в составлении сценария. Исполнителем был Женя. Я для этого не годился по причине излишней смешливости. Мысль о розыгрыше возникла случайно. Мы отдыхали на скамейке во внутреннем дворике цеха. За нашими спинами на подоконнике станочного отделения пылился телефон внутризаводской связи. Мне никогда не доводилось видеть, чтобы по нему кто-либо разговаривал. Руководство цеха пользовалось телефоном конторки. Рабочим же звонить было некому. Выполняя задумку, Евгений Семенович протянул руку за переплет с отсутствующей четвертью стекла, вытащил наружу трубку аппарата и попросил девушку из коммутатора дать ему «пожарку». В ответ на прозвучавшее «алё!» он представился работником водостанции. После этого сообщил, что планируется временное перекрытие воды и попросил проверить, достаточны ли ее запасы в цистернах пожарных машин на случай ЧП. Немедленный положительный ответ его не удовлетворил. Он попросил абонента лично убедиться в достоверности сведений. Через некоторое время из трубки послышался голос: «Водостанция! Алё! Е вода, е!». После чего Женя с нажимом произнес: «Ну, тогда мойте ноги и ложитесь спать». Затем вернул на место трубку, от контакта с которой на ухе остался жирный мазок пыли, металлизированной окалиной чугуна.
Впоследствии мы узнали, что шутка вызвала умеренное веселье в «пожарке» и ходила по дежурным сменам этого подразделения несколько дней. В цеху она приобрела статус поговорки. В наше время я обнаружил текст про воду и мытье ног перед сном в народном фразеологическом словаре, появившемся, правда, через несколько десятилетий после этого незначительного события. Какой удар со стороны народной фразеологии! А мы-то считали… Впрочем, новизна шутки была не в содержании текста, а в его адресности.
Ну, ладно. Отвергая возможные подозрения в склонности Евгения Семеновича к заимствованию сюжетов, расскажу еще об одном розыгрыше. Уборщицей цеха была сухонькая доброжелательная старушка Мария Романовна, которую все именовали просто Романовной. Тихая и незаметная, она временами умудрялась вгонять в стресс токарей и других станочников. Это происходило в моменты, когда, зайдя в тыл станка, уборщица по простоте душевной бросала подобранный обрезок болванки в металлический поддон. Работа на автоматической подаче в значительной мере контролировалась на слух. Убаюканный ровным гулом механизмов токарь или фрезеровщик, подскакивал от внезапного грохота, как ужаленный, лихорадочно определяя причину и размеры катастрофы. Такие случаи, несмотря на высказывавшиеся Романовне упреки, повторялись периодически, и привыкнуть к ним было невозможно.
Вершиной проказ Романовны был случай, когда она с размаху прислонила металлическую жаровню к кожуху электросилового щита, располагавшегося напротив цеховой конторы. Блеснувшая вспышка дополнилась грохотом, сопоставимым с выстрелом РПГ у незащищенного уха. Щит просматривался только с центрального прохода, с места расположения моего станка. Обернувшись на взрыв, я увидел Романовну, мелькнувшую серой (цвет халата) тенью в сторону женского душа. Остальной народ причины происшествия не понял. Выскочивший из конторки Нестор Савельевич остановился в недоумении. Умолкли станки. «Полетели» все находившиеся в работе резцы (остановка на стружке означает однозначный «кирдык» режущей пластине). Раздались бестактные возгласы в адрес электриков. Делиться своими наблюдениями по поводу причины происшествия я ни с кем не стал.
Кроме описанных шалостей, за Романовной числился и другой грешок. Она была активным переносчиком новостей. Зная об этом, Женя по секрету рассказал своей подруге (они без преувеличения очень приязненно относились друг к другу, Евгений Семенович периодически подкармливал ее говяжьей тушёнкой от заказчиков: от свиной у нее болела печень) о том, что накануне в ведре пассажирки городского автобуса была обнаружена голова. Надо сказать, что подтекстом «новости» было трагическое событие, произошедшее накануне. В воскресенье днем после обильного дождя в речке Адагумке всплыли части расчлененного тела женщины. Я случайно увидел, как их доставали при большом скоплении народа у пешеходного моста в районе 25-й школы. Голову несчастной найти не удалось. По завершении рассказа Женя предупредил Романовну, что новость является тайной следствия и предупредил о недопустимости ее разглашения. Уборщица понимающе согласилась. Однако минут через 10 из цеховой конторки к станку Жени быстрыми шагами подошла бухгалтер Мария. Дальнейший диалог я наблюдал с некоторым недоумением, так как начало истории мне не было известно.
– Женька! Это правда, что голову в автобусе нашли? – вопрошала Мария.
– Нашли, – отвечал Евгений Семенович. – В ведре была.
– Человеческую?! – усиливая эмоциональный накал, ужаснулась Мария.
– Кто сказал, человеческую? Я такого не говорил. От селедки голова была, – сказал Женя, уклоняясь от нешутливого замаха Марии.
О дружеских отношениях между Романовной и Женей свидетельствовали постоянные диалоги, в ходе которых старушка с готовностью солдата-первогодка отвечала на каверзные вопросы моего друга в духе викторины «Что? Где? Когда?».
– Романовна, – вопрошал Женя. – Если я, токарь, вступлю в брак с фрезеровщицей, кем будут наши дети?
Задумавшись на мгновение, Романовна отвечала: «Шлиховщиками».
Во время службы в армии Женя переквалифицировался в сварщика и работал по этой специальности в механическом цехе комбината до последнего дня своей жизни. В конце 80-х – начале 90-х в числе лучших специалистов края, он был рекомендован на работу в Алжир. Там, в северо-африканской стране, он течение года варил стыки труб на газопроводе, зарабатывая средства на ремонт родительского дома. Однако по возвращении в Союз получить заработанное оказалось не так просто. «Внешэкономбанк», в котором был открыт в валюте зарплатный счет, оказался фактическим банкротом. У подъезда этой кредитной организации околачивалась толпа жаждущих получить свои кровно заработанные. Какой-то клерк составлял на неопределенное будущее список очередников-получателей. Вертелись жучки, предлагавшие ускорить получение вкладов за треть или половину суммы. Их охранял держиморда в милицейской форме с погонами майора. По счастливой случайности выцарапать так необходимые семье друга деньги помог мой бывший сослуживец И. А. Щербаков, к тому времени работавший в каком-то аналитическом подразделении ВЭБа.
Кроме обязанностей на комбинате, Женя, добрая душа, безотказно выполнял все виды сварочных работ в хозяйствах земляков. По оценке Марика Глухова, он был сварщиком от бога и варил даже то, в теории вроде бы соединить невозможно. Виртуозно ремонтировал автомобильные кузова и другие детали.
В какой-то момент его сманили на станцию техобслуживания автомобилей. Однако через некоторое время он, несмотря на приличные тамошние заработки, вернулся на комбинат. В разговоре со мной объяснил свое решение просто: «Они берут с людей несправедливые деньги. Мне там работать стыдно». От побочных доходов он не отказывался. И когда его Света намекала на весьма скромную оплату таких трудов, объяснял: «Мы рассчитываемся по совести».
Помнится, в начале нашей совместной токарной карьеры свое сдержанное отношение к деньгам Женя продемонстрировал весьма неожиданным способом в день одной из получек. Отойдя от окошечка инструменталки, через которое выдавались деньги, он развернул сотенную купюру (до реформы 1961 года она была значительно больше «хрущевской»), положил ее на пол и, подмигнув стоящему в очереди «куркулю» Жоре Мавромати, вытер о дензнак подошвы. Правда, завершив это театральное действо, сотенную он все-таки возвратил в карман.
Шальных денег у него никогда не было и от возможности облегчить нагрузку на семейный бюджет за счет продававшихся со скидкой в заводском киоске субпродуктов или некондиционных (из-за мятых жестяных банок) консервов он не стеснялся. Признаком скупости такие приобретения он не считал. Однажды я увидел его с внушительным ворохом так называемой грудинки, притороченной к велосипеду, на котором он ездил на работу. На самом деле это были кости говядины (или свинины) после обвалки туш. Их можно было купить в заводском киоске. На костях оставалось немного мяса, срезать которое обвальщикам было недосуг в погоне за выполнением норм выработки. Мы с мамой тоже время от времени покупали «грудинку», но не в таком количестве. Заметив на моем лице удивление размахом приобретения, Женя выдал один из афоризмов, ныне учтенный в словарях кропотливыми собирателями народной мудрости: «Глазам стыдно, а душа радуется».
В 1998 году во время отпуска я увидел на его подворье бычка, которого он выкармливал для пополнения семейного бюджета. Игривый теленок очень понравился нашей внучке Асе.
Женя вырастил отличного сына Виталия, который после школы стал одним из лучших в Крымске специалистов по ремонту автомобильных двигателей. Отслужив в армии, Виталий окончил милицейский ВУЗ, успешно работал на оперативных должностях, а в 2014 году стал начальником районной полиции. Меня он по старой памяти именует дядей Игорем.
В дополнение ко многим особенным качествам Женя обладал удивительной способностью к дрессировке кошек. Семья Головых жила в реконструированном собственными руками домике покойных родителей Жени, впоследствии разрушенном наводнением 2012 года. На их подворье всегда было несколько хвостатых особей. Говорят, что эти существа почти не поддаются дрессировке. У Жени это было не так. Складывалось впечатление, что его котята понимают человеческий язык. Когда кто-то из них не желал выполнять прыжок на грудь хозяина с отмеренных двух-трех метров и, облегчая себе задачу, пытался незаметно сократить расстояние, Женя выговаривал ему, как напроказившему школьнику. Котенок послушно возвращался на исходный рубеж и отчаянно прыгал оттуда на пределе своих возможностей. Правда, отучить воспитанников цепляться когтями за грудь не удавалось. Были у котят и другие коронные номера. Наградой им служили плотва и красноперка, собственноручно выловленные Женей в Адагуме.
Ловлю себя на мысли, что в воспоминаниях Женя выглядит подозрительно безупречным праведником. Конечно, это не так. Я помню его довольно хулиганистым любителем подрывов гранат и мин, не отказывавшимся принять участие в групповой или одиночной драке с представителями «слободки», «скалы» или «центра». Однако это осталось в юности. В зрелые годы он мог прилично выпить за компанию. В борьбе с «зеленым змием» ему сильно мешали доброхоты из числа заказчиков. Чего в нем не было никогда – это корыстолюбия и нарушения правил неписанного кодекса чести, вынесенных из послевоенного уличного детства.
Динамику его семейного достатка можно было отследить по личным транспортным средствам. В середине 60-х – мотоцикл «Ява», в 70 – «Запорожец». Последнее приобретение в начале 80-х – ВАЗ-2105 «Жигули», «пятёрка».
Женя говорил мне, что не представляет себя без сварочного участка, запаха расплавленного металла и удовольствия от качественно выполненного шва. Он умер на рабочем месте, присев отдохнуть, 3 сентября 2003 года во время моего приезда в Крымск. Внушительную колонну провожающих его на кладбище составляли не только родные, друзья и сослуживцы, но и просто горожане, знавшие Женю как человека открытой души и безотказного мастера золотые руки.
Солоха Евгений Андреевич, крымчанин в пятом поколении, наследник одного из ста сорока солдат Крымского пехотного полка, проходивших службу в Верхне-Адагумском укреплении со времени его постройки в 1858 году, а затем по их желанию приписанных к Кубанскому казачеству.
Женя пришел в цех в 1959 году, после получения аттестата зрелости. Мы познакомились с ним годом ранее в спортзале комбината. Он неплохо играл в волейбол и баскетбол за 25-ю школу. Входил в основной состав сборной команды Крымского района по ручному мячу пять раз подряд выигрывавшей Первенство краевого Совета ДСО «Урожай» по этому виду спорта.
Пройдя курс ученичества, получил квалификацию фрезеровщика-строгальщика 4 разряда. С 1960 года в паре с ним мы работали дежурными станочниками. В мае 1960 года администрация и цехком буквально вытолкали нас в двенадцатидневный отпуск по двум «горящим» путевкам в геленджикский дом отдыха «Приморье». Ничего привлекательного там для нас не было. Дешевизна навязанного отдыха (по 80 руб. с носа при среднем заработке 700 руб.), на что напирал предцехкома Б. А. Ревницкий, не оправдывала скуку курортного времяпрепровождения. Купаться было рановато. Желающие играть в волейбол и баскетбол среди отдыхающих «Приморья» отсутствовали. По вечерам нас развлекал песнями под баян массовик-затейник из местных греков. Его коронным номером были куплеты на тему меркантилизма местных обольстительниц (фонетика соблюдена):
«Ай, палавина сахар – палавина мёд, палавина любит – палавина вирёт».
Лирико-иронические строфы перемежалось припевом, который оканчивался телеграфной просьбой с юга: «Милый мой, скучаю, вишли восемьсот!». На танцплощадке дома отдыха кружились пары категории «40+».
Геленджик представлял собой захолустье с преобладанием греческого населения. Большинство домов отдыха действовало лишь в теплое время года. Отпускники размещались в дощатых летних строениях. На этом населенном пункте заканчивалась асфальтированная дорога со стороны Новороссийска. Далее в направлении Сочи шло гравийное шоссе.
Показы фильмов в соседствовавшем с «Приморьем» летнем кинотеатре несколько раз за сеанс прерывались зычными «флотскими» возгласами типа «Капитан «Ромашки», на выход!». Название судна в каждом объявлении было новым. Мы с Женей недоумевали по поводу местонахождения столь многочисленного флота. В бухте, за исключением колхозного сейнера, не было ни одной заметной посудины. В конце концов, я обнаружил одну из «Ромашек» у пляжных мостков. Известное по выкрикам название украшало обыкновенную прогулочную лодку. Ситуацию с «капитанским» статусом ее собственника нам пояснил один из местных жителей. «Мы, греки, все капитаны, – улыбнулся он. – Особенно для отдыхающих!».
Одним из наших развлечений в «Приморье» на первом этапе стал почти ежедневный подъем на Адербиевский перевал высотой 650 метров. Мы выходили сразу после завтрака и успевали вернуться к обеду. Дорога была мне знакома с мая 1959 года, когда мы друзьями, пройдя несколько ущелий и горных массивов по маршруту Абинская – Шапсугская – Эриванская – Адербиевка, спустились в Геленджик.
Вторая половина отдыха проходила веселее. Вода потеплела и стала пригодной для неспешного купания. Это позволило совершать заплывы на середину бухты к стоявшему на якоре сейнеру. Благо, никаких спасателей в окрестностях не было. Кроме того, мы нашли волейбольные площадки в других домах отдыха и влились в стихийные команды, игравшие «на вылет».
Отдых навсегда пополнил наш словарный запас поговорками «мы, греки, все капитаны» и «скучаю, вишли восемьсот».
Согласно утверждениям ряда исследователей, Геленджик (в переводе с турецкого – базар невест) с конца XV века был местом, откуда турецкие захватчики увозили в рабство и в жены молодых красивых девушек. Это предание, помноженное на личные наблюдения, привело нас с Женей к предположению, что всех красивых девушек турки вывезли из города впрок на несколько столетий вперед. Каюсь, так это представлялось в далеком 1960 году.
Надо сказать, что город того времени мог обоснованно похвалиться мастерами портняжного и обувного искусства. Отпуск в нем обогатил меня замечательным имущественным приобретением. Совершенно случайно я заказал у портного-грека один из лучших костюмов за всю свою жизнь. Работа была выполнена за 4 или 5 дней. Материю цвета морской волны купил в магазине по рекомендации самого мастера. Свои труды портной оценил менее чем в 100 рублей (точную сумму не помню). Костюм носился много лет до рубежа неприличного истирания, однако даже напоследок он выглядел предпочтительнее новоприобретенных одежд.
Геленджикские греки, как и другие их российские соплеменники, без сомнения, унаследовали от представителей древней Эллады широкий спектр талантов, включая способность постигать скрытую суть событий и лиц. Да только на старуху бывает поруха. В марте 1991 года на Первом Всесоюзном съезде греков в Геленджике они избрали президентом своего общества Гавриила Попова. Этот демократ начальной волны, первый мэр Москвы и титулованный советскими научными инстанциями экономист, в новые времена вдруг публично заявил о пользе взяточничества для управления экономикой. Сам он тоже кое-чем разжился в ходе компании приватизации. Воззрения и дела Г. Х. Попова вкупе с его избранием главным греком СССР побудили неизвестного автора газеты «Завтра» выразить кредо демократа-экономиста емким девизом – «Из ворюг в греки». Эти слова по сей день напоминают нам с Евгением о досадной промашке, бросившей тень на проницательность делегатов Всесоюзного съезда, в числе которых были греки города-курорта Геленджик.
По возвращении из отпуска наша совместная с Женей Солохой работа продолжилась. В памяти чаще всего всплывает начало недели ночных смен. Женя, постоянный посетитель танцев в заводском клубе, проводив подругу, появлялся в цехе за несколько минут до 24-х часов воскресенья и, переодевшись, приступал к подготовке инструмента. Его шкаф занимал место за фрезерным станком, «хобот» которого периодически менял положение в зависимости от вида выполнявшихся работ. Каждая смена выставляла его по-своему. И вот, в последние минуты нетронутой воскресной тишины станочного отделения вдруг раздавался глухой стук, сопровождавшийся приглушенными высказываниями. Это Женя, привыкший за прошлую неделю к убранному «хоботу», разгибался с коробкой фрез и ключей и бил головой в коварно выдвинутую массивную чугунную тушу. Происшествию способствовал высокий рост моего друга. У его сменщика Мити Мотренко по причине низкорослости подобных проблем не было.
После службы в армии Женя перешел на работу в Крымское объединение «Сельхозтехника», где более 40 лет проработал испытателем ремонтировавшихся двигателей комбайнов и тракторов, очень неплохо зарабатывал до начала 90-х, а затем получил небольшую пенсию и статус инвалида 2-й группы по слуху в результате профзаболевания. Сейчас, вспоминая человеческие качества многонационального состава бригады испытателей, отмечает, что за 18 лет работы на единый наряд, в коллективе ни разу не возникало непонимания по поводу вклада каждого из работников в общую копилку.



