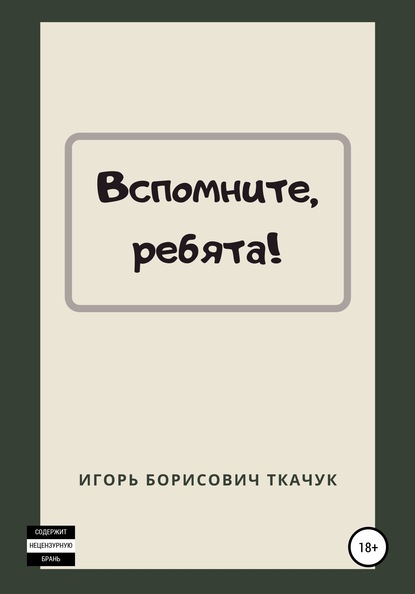 Полная версия
Полная версияВспомните, ребята!
Из этой книги я узнал, что первый американский «Сейбр» F-86 командир звена 3-й авиационной эскадрильи 518 ИАП старший лейтенант Федор Павлович Федотов сбил 17 сентября 1952 года.
Вот что он рассказал автору хроники об этом событии: «Наша эскадрилья МИГ-15 шла над Северной Кореей на юг. В заранее оговоренной точке ведущий сделал разворот на обратный курс. Мгновением раньше я увидел, что навстречу нам примерно на нашей высоте идут «Сейбры» и предупредил об этом командира. Однако он меня не услышал из-за сильных помех в эфире. Наши два звена последовали за ведущим. Встречать «Сейбров» мне пришлось в одиночку. Я ушел вверх, пропустил самолеты противника, развернулся на 180 градусов и со снижением зашел им в хвост. С дистанции 150–200 м дал очередь по правому крайнему F-86, который стал разваливаться. Обломки полетели мне навстречу. От неожиданности я даже пригнул голову. Остальные «Сейбры» сделали разворот, и ушли со снижением в обратном направлении»[12].
2 октября 1952 года Федор Павлович сбил редкую добычу – истребитель-бомбардировщик «Метеор Мк.8» из состава 77-й аэ Королевских Австралийских ВВС.
Об этом бою он вспоминал: «Наших самолетов в воздухе не было. Я со звеном вылетел курсом на юг в свободный поиск. Через какое-то время услышал по радио командира корпуса генерала Г. А. Лобова, который сообщил, что впереди под большим прикрытием уходят «Метеоры», которых надо догнать. Вскоре увидел четыре «Метеора». Они шли ниже меня. Сверху, надо мною, их прикрывали около 30 «Сейбров». Силы оказались очень неравными. Решение нужно было принимать моментально, пока меня не обнаружили.
Решил потерять высоту и остаться на дистанции огня. Резко положил самолет на левое крыло и вошел в вертикальное пикирование с разворотом на 90 градусов. От перегрузки потемнело в глазах, зато я оказался ниже «Метеоров» на дистанции 400–600 м. С этого расстояния дал очередь по крайнему правому из них. Он завалился на левое крыло, опрокинулся на спину и начал падать. Остальные три «Метеора» встали в левый вираж. Рой «Сейбров» стал перестраиваться. Надо было уходить. Выполнил боевой разворот, пробил порядки истребителей и взял курс на свой аэродром. «Сейбры» упустили момент для атаки, и мы ушли от них на максимальной скорости (мы держали полный газ от взлета до посадки). Еще в воздухе генерал Лобов подтвердил по радио, что самолет противника сбит, поздравил с победой меня и летчиков звена. Мы втроем сели на свой аэродром Мяогоу. В этом бою был сбит «Метеор» с № А77–496, в кабине которого погиб английский летчик-инструктор Оливер Крукшанк, который проходил боевую стажировку в составе 77-й эскадрильи Королевских ВВС Австралии»[13].
5 декабря в районе аэродрома Аньдун восемь «Сейбров» напали на взлетавшее звено МИГов. Им удалось сбить два советских самолета. Один из наших пилотов погиб при катапультировании. Однако на обратном пути эти «охотники» встретились со звеном (к тому времени капитана) Ф. П. Федотова, выполнявшим патрульный полет. В этом бою Федор Павлович сбил очередной «Сейбр», который пилотировал майор Эндрю Роберт Маккензи из состава Королевских ВВС Канады. Пилот попал в плен. Напарник Федотова замполит эскадрильи старший лейтенант И. А. Витько сбил еще один самолет, упавший в море[14]. Свой последний «Сейбр» Ф. П. Федотов сбил 4 июня 1953 года над Аньдунем.
Хроники И. Сейдова в который раз подтвердили мысль о том, что большинство по-настоящему ярких людей, с которыми мне повезло встречаться на протяжении жизни, как правило, не обладали геройской наружностью и никогда не выставляли напоказ былые заслуги. Таким был Федотов Федор Павлович, сменивший по воле реформатора Хрущева летное снаряжение аса-истребителя на халат ученика слесаря.
Поразительные мужество и навыки пилотирования проявляли соратники Федора Павловича по корейской войне. Не могу удержаться от пересказа строк И. Сейдова о невероятном владении техникой и бойцовских качествах, проявленных гвардии старшим лейтенантом Вердышем А. П. Падая с высоты 1700 метров на МиГ-15 с простреленным двигателем, он отказался от катапультирования и решил посадить самолет на находившийся в пределах видимости аэродром. Пилот непостижимым образом (посмотрите на фото МиГ-15 – по возможностям планирования это топор без рукоятки) сумел удержать машину от сваливания в «штопор». Более того, уклоняясь от погнавшейся добивать его пары «Сйбров», выполнил «бочку», а на выходе из этой фигуры высшего пилотажа подбил одного из американцев. В итоге Вердыш А. П. приземлился на аэродром, не выпуская шасси. При этом сам летчик отделался ушибом головы о прицел[15].
Еще несколько слов о 562-м истребительном авиационном полку. Местные жители, работники комбината и мехцеха, в том числе, воспринимали эту воинскую часть как нечто органично свое, городское. Должность начальника отдела кадров комбината занимал бывший заместитель командира полка И. П. Пожидаев. Его подписью удостоверена моя первая (и единственная) трудовая книжка. С семьей его зятя и дочери нас с Людмилой по сей день связывает давняя дружба.
На комбинате трудились и члены семей летчиков. Помню, как во время обеденного перерыва начальник отделения КИП нашего цеха кудрявая «Раечка» (фамилию забыл), проводив взглядом качнувший над нами крыльями «МИГ», засвидетельствовала под удаляющийся рев двигателя: «Мой полетел!».
Несколько раз на моей памяти командование полка обращалось в цех по печальной необходимости. Выполняя просьбы военных, Жора Мавромати изготавливал из нержавейки таблички и звезды на памятники разбившимся летчикам. А слесарь-ветеран Малеванный гнул и варил могильные оградки. На так называемом старом кладбище существовала отдельная аллея погибших летчиков 562-го ИАП.
Последняя на моей памяти авиакатастрофа произошла в апреле 1960 года. Взлетевшая «спарка» упала примерно в десяти километрах от аэродрома на холм у железнодорожного переезда Саук-Дере. Я видел там эту огромную, пахнувшую керосином воронку.
Почему-то навсегда запомнились надписи на изготовленных Мавромати табличках: «Старший лейтенант Зубков» и «Капитан Севастьянов». Как объяснили военные, в тот трагический день Зубков «вывозил» возвратившегося из отпуска Севастьянова в первый «обкаточный» полет. Таким был установленный порядок.
Молодежь цеха
Прослойка «молодых» и «пацанов» постоянно обновлялась, пополняясь выпускниками 25-й, 60-й и других средних школ. Часть ребят, получив специальность, оставалась в цеху. Другие, заработав производственный стаж для льготного поступления, уходили на учебу в ВУЗы.
На дежурном станке до меня последовательно работали братья Сергей и Виктор Синченко. Старший – обстоятельный и вдумчивый Сережа, отработав два года, поступил в МФТИ и впоследствии стал научным сотрудником одного из Подмосковных НИИ. Младший – Виктор по прозвищу «Витютя», в прошлом «трудный» ученик 25-й школы и прогульщик уроков, как ни удивительно, тоже имел склонность к естественным наукам. Наши «аксакалы» уважительно вспоминали, как он запирался по вечерам в цеховой конторке и выполнял письменные работы по математике для подруги А. М. Сысоевой, учившейся заочно в каком-то техническом ВУЗе.
В 1958 году Виктор поступил в Ленинградский политех, а после его окончания и прохождения соответствующих курсов стал офицером-подводником. Служил в Гаджиево. В середине 70-х он, не помышлявший до института о карьере военного, был уже капитаном первого ранга, помощником командира атомной подводной лодки. Отвечал за силовую составляющую субмарины. Скорости его продвижения по службе способствовали льготы для подводников и личные заслуги. Виктор был участником первого в СССР подводного кругосветного плавания без всплытия, в котором их ПЛА, прошла подо льдами Северного Полюса, и побывала у берегов Кубы. Правда, когда он в разговоре со мной специально отметил последнее обстоятельство, я бестактно спросил: «Ну, хотя бы в перископ ты ее (Кубу) видел?». Ответ был краток и правдив: «Не-а! Мы не всплывали».
Из его рассказов о деталях подводного быта запомнились наличие в ПЛА спортивного зала, солярия и бассейна. И еще почему-то описание процедуры ассенизации в подводном положении. Нечистоты по мере накопления сливались в специальную полиэтиленовую емкость сигарообразной формы, которая затем отправлялась в забортные глубины залпом торпедного аппарата. Использование грозного боевого устройства для столь прозаичной процедуры компенсировалось ритуалом применения «злого духа» (содержимого контейнера) для гипотетической схватки с враждебной «материей» – потенциальным противником. Действо имело сходство с учебной торпедной атакой. Правда, тут после приказа «товсь» звучала непредусмотренная корабельным уставом чеканная фраза командира: «По акулам американского империализма… говном, – и лишь затем следовало долгожданное, – пли!». Раздававшаяся по громкой связи команда на выстрел служила одним из дополнительных элементов психологической разгрузки коллектива. Заодно опровергалось расхожее представление о том, что «из говна пулю не слепишь». Команда проникалась сознанием того, что в случае необходимости из упомянутой субстанции можно изготовить не только пресловутую пулю, но и целую торпеду, встреча с которой вряд обрадует самого оголтелого империалиста.
По иронии судьбы самый старший из братьев Синченко – Жора, выпускник суворовского, а затем среднего и высшего военных училищ, старательно, без взысканий, тянувший служебную лямку более 25-ти лет, окончил военную карьеру майором.
Варвара Тимофеевна Синченко, мама Жоры, Сережи и Виктора воспитывала ребят одна. Ее муж-кадровый офицер, погиб на фронте. Варвара Тимофеевна – поразительной доброты человек и признанный кулинар, была близкой подругой моей мамы и научила ее печь замечательные пироги. Ее рецепты перешли по наследству нашим детям.
Широкие возможности дает теперешний Интернет. Сеть хранит сведения не только о героях моего повествования, но и о негодяях, которые терроризировали их семьи во время оккупации Крымска.
В январе 1943 года некто Котомцев И. Ф., дважды судимый уголовник, служащий «Зондеркоманды СС-10-А», угрожая расстрелом, понуждал мать моего друга Жени Солохи – Ольгу Ивановну, идти на сборный пункт для отправки на принудительные работы в Германию. В это время Ольга Ивановна, 1903 года рождения, дом которой заняли фашисты, жила в землянке с пятью малышами – своими Женей и Аллой и тремя братьями Синченко, выдавая всю команду за собственных детей. Более молодая Варвара Тимофеевна пряталась от угона на хуторе. Наличие малышни и возраст Ольги Ивановны Котомцева не смущали. Когда он стал тащить ее на сборный пункт насильно, она потеряла сознание. По словам Жоры Синченко (ему было 10 лет), каратель оставил затею со словами: «Нарожала щенят, сука старая. Подыхай с ними». Как выяснилось позже, этот персонаж в те же дни участвовал в повешении 16-ти крымчан.
После освобождения станицы Крымской Ольга Ивановна и Варвара Тимофеевна с детьми уехали из-за продолжавшихся немецких обстрелов к родственникам в Краснодар. Там, в июле 1943 года они случайно увидели Котомцева на одной из площадей. Он не первый день висел в одном ряду с 6-ю другими служащими зондеркоманды, казненными по приговору военного трибунала. Сергей Синченко, по воспоминаниям Варвары Тимофеевны, сказал: «Вон висит тот дядька. А ты, Женя (Солоха), отвернись. Не смотри».
Информационные массивы Интернета дают полный перечень черных дел Котомцева и других краснодарских душегубов, содержат приговор по делу и даже кинокадры их казни[16].
Руководство комбината, заинтересованное в подготовке смены будущих инженеров-консервщиков, поощряло желающих учиться в профильном ВУЗе. На проходной комбината и в заводской многотиражке «Консервщик» размещались объявления, приглашавшие рабочих и служащих поступать вне конкурса на дневное и заочное отделения Краснодарского института пищевой промышленности (ныне политех) и в аспирантуру. Очники получали заводскую стипендию в размере 50 рублей (средняя зарплата рабочего комбината в то время составляла 70 руб.). Аспирантам платили по 100 рублей. В этом ВУЗе прошли обучение многие заводчане и в том числе несколько человек из нашего цеха. На моей памяти деканом факультета этого института стал главный инженер Крымского комбината Рубайло (имени и отчества не помню). В начале 70-х несколько молодых заводских инженеров – выпускников Краснодарского пищевого, перешли в качестве специалистов-консервщиков на суда Новороссийского Управления рыболовного флота. В их числе был наш сосед по квартире Виталий Невзоров, периодически уходивший в шестимесячное плаванье и возвращавшийся с массой впечатлений о зарубежных портах, с экзотическими подарками и приличным заработком. Его однокурсник и близкий друг Володя (Владимир Николаевич) Щербак уйти с комбината не рискнул. Тем не менее, карьерный путь Владимира оказался более крутым, чем у Виталия. Бывший наш сосед ушел на пенсию с неизвестной мне должности в Новороссийском Управлении рыболовного флота. В. Щербак – бригадир овощного цеха комбината в 1961-м, по окончании учебы в институте 1966-м двинулся по ступенькам карьерной лестницы на комбинате. Прошел должности механика, начальника цеха, главного инженера, в 1974 году стал директором комбината. Позже занимал должности 2-го секретаря Краснодарского крайкома КПСС, заместителя министра сельского хозяйства РСФСР. В 1999 году был назначен заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
В апреле 1959 года на базе комбината был создан техникум пищевой промышленности. В этом учебном заведении прошли обучение почти все работники нашего цеха. Большая часть из них относились к категории «кому за тридцать» и старше. Среди них был мой друг фрезеровщик Женя Солоха, окончивший вечернее отделение техникума с «красным дипломом» в 1971 году.
С 1964 по 1970 год преподавателем технологических дисциплин в техникуме работала моя мама, оставившая по состоянию здоровья должность заведующей лабораторией комбината.
Некоторые из моих друзей, став классными специалистами, уехали за пределы края и получили высшее образование на заочных и вечерних отделениях различных ВУЗов. Проблем с поступлением на работу у них не было.
Токаря Юру Музыченко приняли на один из заводов Гатчины в день его обращения в отдел кадров. Окончив заочно институт, он работал на том же заводе, но уже начальником цеха. В девяностые на пару с сыном, таким же рослым (190 см.) крепышом, как и сам, подрабатывал строительством загородных домов.
Коля Сидорин уехал в Ленинград, работал слесарем в одном из НИИ, заочно учился в политехе. По окончании института перешел на должность научного сотрудника. Судя по сторонним отзывам, он оказался для своего исследовательского института ценной находкой по части задумок и реализации профильных идей. У нас он работал слесарем отделения КИП, удивляя коллег и руководство цеха не только изобретательностью, но и изяществом материального воплощения замыслов. Однажды, выполняя работу по ремонту тестера – контрольной многопатронной машины для автоматизированной отбраковки негерметичных жестяных банок, он придумал и своими руками реализовал остроумное решение по повышению чувствительности этого импортного (по-моему, английского) устройства. Новшество повысило способность улавливать потерю воздуха в банке с 0,1 см3 до 0,01 см3, вызвало горячее одобрение заказчика, и было увековечено в заводской многотиражке.
Изобретательность Коли дополнялась завидными дизайнерскими способностями, которые он блестяще реализовывал в металле. Летом 1968 года, откликнувшись на приглашение, он навестил нас с Людмилой в г. Хмельницком. В тот раз мы увидели изготовленное Колей небольшое подводное ружье собственной конструкции, замечательное по дизайну и техническим решениям. Изделие было выполнено из титана с черными эбонитовыми накладками, радовало глаз чистотой отделки, строгими линиями и изящными изгибами. По функциональным качествам оно превосходило известные в кругу ценителей аналоги (выглядевшие жалкими жестянками), и было остроумно избавлено от ряда их типичных недостатков изделий массового производства. «Силовую часть» оружия, в отличие от резиновых жгутов ширпотребовских изделий, представлял барабан с 16-ю малокалиберными патронами, закупоренными вместо пуль эпоксидной смолой. Выстрел выталкивал находящийся в стволе гарпун с силой, позволявшей пробивать с 10-ти шагов двухсантиметровую доску. В этом я убедился в нашем служебном тире. Большим достоинством ружья была высокая синхронность работы спускового крючка и растяжек, удерживавших леску гарпуна. Она позволяла избежать спутывания капроновой нити при выстреле – характерного дефекта ружей других систем. Недостатком изделия была дальнобойность (в воде гарпун уходил далеко за пределы видимости), ограничивающая возможность его применения в водоемах с присутствием других рыбаков или купальщиков.
Наиболее причудливой выглядит карьера моего друга Марика Глухова – Глухова Марка Петровича. Его отец, бывший начальник пожарно-сторожевой охраны комбината, умер в 1956 году. Марка и старшего брата Виктора воспитывала мать, работавшая секретарем в заводоуправлении.
Марик был типичным школьным шалопаем, тратившим время на чтение художественной литературы в ущерб школьной программе. В то время его любимыми авторами были Дж. Лондон, И. Ильф и Е. Петров, Дж. Джером, Э. Ремарк. Однажды я взял его, школьника, в двухдневный туристический поход через Шапсугское ущелье в Кабардинку. На подъемах он несколько раз просил нашу компанию идти помедленнее и временами бормотал: «Я никогда не тренировался. Я не люблю больших нагрузок. У меня вредная привычка: я курю».
В механический он пришел учеником фрезеровщика. В его активе было восемь классов средней школы. На большее не хватило времени и усердия. Среднюю школу окончил во время срочной службы в железнодорожных войсках ВС СССР во Львове. Из армии на некоторое время вернулся в цех. И вдруг в 1967 году прислал в Хмельницкий, где я проходил службу, весточку о том, что он теперь житель Иркутска. О мотивах внезапного переселения рассказал во время очередной встречи. Суть их такова. Надоел замкнутый мирок Крымска и мелочная домашняя опека. Захотелось попробовать силы в краях, воспетых А. Пахмутовой. Сначала нацелился на Комсомольск-на-Амуре, но денег хватило только на железнодорожный билет до Иркутска. Ни одного родственника или знакомого в городе не было, но не сомневался, что работу фрезеровщика и койку в общежитии найдет всегда.
Дальнейший трудовой путь Марка кратко описан с его слов в номере Восточно-Сибирской правды от 27 сентября 2007. Зимой 1967 года вышел из поезда на иркутском вокзале и увидел объявление: «На завод имени В. В. Куйбышева требуются фрезеровщики». Так попал в 17-й цех. Жил в общежитии, несколько лет работал в три смены. Решил учиться, но не в политехе, а на юридическом. Чтобы была возможность посещать занятия на вечернем отделении, пришлось поменять рабочую специальность на слесаря-лекальщика. Окончил университет. В 27 лет стал самым молодым руководителем на заводе – начальником отдела кадров. Далее в течение двадцати лет, работал заместителем директора по кадрам. В своё время был признан лучшим начальником отдела кадров в системе Министерства тяжёлого машиностроения и награждён медалью «За трудовое отличие».
В жуткие 90-е, когда всё валилось, был разграблен заводской музей. Мне удалось спасти Красное знамя ВЦСПС, награду от Наркомата тяжёлого машиностроения за работу во время войны. Хранил знамя у себя на даче. Когда обстановка стабилизировалась, вернул его на завод, теперь оно у нас в комнате переговоров. Документ о награждении и орден Трудового Красного Знамени пропали. Осталось только письмо, подписанное М. И. Калининым.
Завод выжил, работает и развивается в новых условиях. Поставляет золото-, горно-добывающее и металлургическое и оборудование не только предприятиям России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в КНР, Монголию, Индию, Египет и Бирму.
Здесь я проработал сорок лет. С 2006 года являюсь председателем совета директоров ОАО «Производственного объединения Иркутский завод тяжелого машиностроения»[17].
В этой светлой канонической биографии опущена «черная полоса» формуляра, оставившая рубец в памяти Марка. О ней он рассказал мне летом 1983 года во время путешествия (с его супругой и моими женщинами) на самодельном плоту по реке Лене от пос. Жигалово до Усть-Кута. Подробнее об этом сплаве далее.
Суть истории такова. Его, молодого партийца, хорошо зарекомендовавшего себя руководителя – производственника, пригласили на должность инструктора в промышленный отдел Иркутского обкома КПСС. Марк усомнился, отпустит ли его директор завода, однако обкомовские функционеры высокомерно заявили: «К нам отпустит!». Как ни странно, директор желания обкома не учел и в переводе отказал. Тогда обиженный его произволом Марк написал заявление об увольнении. Предупреждению директора о плохих последствиях этого шага он не внял. И зря. На работу в обком его, уволившегося вопреки воле директора, не взяли.
По словам Марка, в сердцах он сказал обкомовским деятелям, что они «несерьезные люди» и пошел на авиационный завод, куда его неоднократно приглашали на кадровую работу. Однако там его ждал неожиданный отказ. То же самое произошло и на нескольких других предприятиях. Позже выяснилось: это был результат упреждающих звонков директора ИЗТМ. Плюнув на административные должности, Марк решил вернуться к работе слесаря. Однако попытка бывшего начальника отдела кадров занять место рабочего воспринималась администраторами с большим подозрением. Ему отказывали, несмотря на обилие свободных мест. «Вот тут-то я впервые вздрогнул – сказал Марк. – Мне пришлось убеждать их, что я не пьяница, не склочник, не интриган и т. п.». С большим скрипом его приняли слесарем – лекальщиком на авиационный завод. Здесь, чтобы отвлечься от тяжелых переживаний, он с головой ушел в работу.
«Я не подумал, что создаю проблемы новым коллегам, – говорил он мне потом. – Не придавал значения тому, что перевыполняю нормы вдвое и больше. Работяги взмолились, чтобы я не губил им расценки. Пришлось сбавить обороты. Не у всех же такая мотивация. В качестве укрепляющих душу «настроев» читал Дж. Лондона».
Тут необходимо небольшое отступление. Лекальщики – это элита металлистов, изготовители самых сложных, прецизионных изделий типа матриц или эталонов. Их работа – во многих случаях акт творчества, поскольку те задания, которые им поручают, нередко требуют неординарных решений и навыков. Сейчас этих специалистов в значительной мере (но не окончательно) заменили станки с компьютерным управлением и 3D технологии. В механическом цехе Крымского консервного комбината единственным лекальщиком был Жора Мавромати. Способ выполнения им некоторых заданий наши специалисты так и не разгадали. Он работал над ними по вечерам в опустевшей «слесарке». Заработки Жоры значительно превосходили оклады А. М. Сысоевой и Н. С. Селезнева. Пользуясь своим исключительным положением, он сам калькулировал расценки на нестандартные задания, сообщая итоговые цифры нормировщику Швецу. Тому оставалось лишь покорно «обосновывать» расчеты. Кстати, корыстолюбие Жоры, проявлявшееся даже в близком окружении, заметно охлаждало его отношения с коллегами. Он имел репутацию «куркуля» и был единственным из слесарей, кто, уходя с работы, снимал подвижную губку своих тисков и запирал ее в верстаке.
Правда, в деле маскировки способов выполнения отдельных работ Жору превзошел другой «куркуль» – «дед Шапошников», проживавший в 6-м подъезде нашего жилдома. Это был универсальный специалист экстра-класса в области токарного и фрезерного дела, а также ремонта всех видов металлообрабатывающих станков. Мой приятель-токарь Володя Кайнаров, сам работавший в механическом с 1947 года, заглазно называл Шапошникова «николаевским» (царских времен) токарем. Однако, оказалось, упомянутая эпоха оставила на нравственном облике умельца стойкие «родимые пятна капитализма» (заимствовано у К. Маркса) в виде корыстолюбия и использования нечестных конкурентных приемов. Наиболее ярким их проявлением стал случай с так называемым «американским» фрезерным станком. Марки этой машины в цеху никто не знал. Судя по надписи на станине, он был изготовлен в г. Цинцинати (США), а на комбинат попал по репарации из Германии. Станок был весьма удобным для обработки деталей небольших и средних размеров, в том числе различных видов звездочек и шестерен. Однако «колеса» с дуговыми зубьями на нем мог изготавливать только «Дед». Никто, кроме него, не мог рассчитать подбор сменных шестерен гитары подач в сочетании со скоростью движения ходового винта. Секретами расчетов Шапошников ни с кем не делился, несмотря на укоризненные замечания А. М. Сысоевой. За указанные работы он, не стесняясь, «ломил» со Швеца баснословные расценки.
Антонина Михайловна неоднократно подначивала молодых фрезеровщиков, в первую очередь умельца Ивана Золотарева, за неспособность раскрыть «тайну Шапошникова». Напоминала, что формулы подбора сменных колес и уравнения кинематической цепи для определения величины подачи содержатся в прикрепленной к станине табличке. Однако все произведенные по ним расчеты И. Г. Золотарева получались ошибочными. Завершающие зубья неизменно «наезжали» друг на друга. Более предприимчивый Гриша Самарский пытался выведать секрет «Деда» лестью и подкупом. Поил его пивом и вином в заводской столовой и «Голубом Дунае». Шапошников обещал «научить», но слова не выполнил, даже уходя на пенсию. Позже стало понятно, почему.



