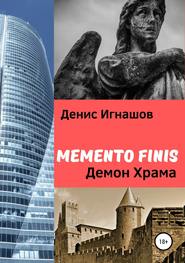 Полная версия
Полная версияMemento Finis: Демон Храма
Полуянов тихо сказал:
– Карина, мы бы сейчас, наверное, чайку выпили.
– А мне кофе, если можно, ― добавил Сарычев.
– Я бы тоже кофе … ― сказал я и улыбнулся.
Карина улыбнулась в ответ и быстро выскользнула из коридора на кухню.
Мы втроём прошли в гостиную. Полуянов аккуратно вынул из кармана, развернул и положил на середину круглого стола два листка серой дешёвой бумаги. Сев на стулья, мы расположились вокруг, с интересом разглядывая документы из прошлого. Перед нами лежала ксерокопия старого письма, написанного уверенным и красивым мелким почерком по-французски, и ксерокопия его перевода на русский язык, сделанного от руки. Письмо Святослава Ракицкого было интересно уже самой формой – прямые, ровные строчки, широкие поля, буквы с характерными длинными, украшающими раздвоенными завиточками, плавно взлетающими или падающими вниз, – красивое послание из девятнадцатого века. Перевод письма резким образом контрастировал с самим посланием. Он был написан как будто в спешке, со многими сокращениями и исправлениями; пляшущие, непонятные буквы то наезжали друг на друга, то разбегались в стороны, слабо придерживаясь прямой линии строки.
– Это без сомнения копия того самого письма Святослава Ракицкого, которое я передал в своё время Рыбакову, ― ещё раз внимательно рассмотрев листок бумаги, заявил Полуянов. ― А это перевод, сделанный моим дедом, ― добавил он, взяв в руки вторую страницу. ― Перевод хороший и сделан дословно. Я прочитаю вам его вслух – почерк моего деда никогда не отличался особой аккуратностью, ― заметил Полуянов и стал читать: ― «Уважаемый барон П! Как мы и договаривались ранее, спешу сообщить Вам то, что мне известно по интересующему Вас вопросу. Надеюсь, то, о чём я напишу, укажет Вам путь к обретению исчезнувшей реликвии тамплиеров, хотя я склонен рассматривать эту историю как красивую легенду, не имеющую ничего общего с реальностью. Итак, как я уже и говорил Вам при встрече, в нашей семье сохранилась удивительная традиция устного пересказа истории, связанной с местонахождением реликвии ордена Храма. Когда она появилась, и имеет ли она какие-то реалистичные основания, нельзя понять никак. Однако кое-что по этому вопросу я всё-таки знаю.
Да будет Вам известно, что мой прадед Огюстен Ламбо бежал в конце восемнадцатого века из Франции, спасаясь от ужасов Революции. В России он поступил на военную службу, поменял свою французскую фамилию Ламбо на польскую Ракицкий и женился. По меркам того времени для эмигранта у него была завидная судьба, и он многого достиг в жизни, став даже полковником русской армии. Но для нашей темы важным является лишь то, что именно мой прадед принёс в семью и укрепил в ней этот необычный ритуал наследования устного пересказа. Само действо напоминало мистическое упражнение, когда отец, в предчувствии своих последних дней, рассказывал сыну историю о документах, хранившихся в трёх деревенских церквях близ Тулузы. Почему это надо было делать на закате жизни, и почему рассказ должен был быть поведан обязательно сыну, а не дочери, к примеру, я не знаю. Полагаю, мой прадед тоже этого не знал, тем не менее традицию, берущую свои корни ещё во французской его жизни, он свято сохранил. Волею божественного провидения в нашем роду всегда были мальчики, и потому проблемы точного следования традиции не существовало. Мой отец, так же как и мой дед в своё время, почувствовав приближение смерти, посвятил меня в семейное таинство и рассказал мне эту странную историю, особо заметив лишь, что выполняет волю предыдущих поколений. Практически дословно эта история звучала так.
После роспуска ордена Храма, когда многие тамплиеры были казнены или попали в тюрьму, а большинство, лишившись покровительства светской власти и церкви, просто разбрелись по Европе в поисках нового смысла жизни, группа бывших рыцарей-храмовников, тайно исповедовавших альбигойскую ересь, обосновалась в предместье Тулузы. Именно этой группе воинов-монахов в ночь на 13 октября 1307 года было поручено вывезти реликвию ордена Храма из Тампля и спрятать её в безопасном месте. Реликвия была спрятана, а пергамент, на котором рыцари записали её местонахождение, был разорван на три части, каждая из которых была укрыта в особых тайниках в трёх разных церквях. Первый лист пергамента был спрятан под двадцать третьей сверху каменной ступенькой, ведущей в подвал церкви Святой Женевьевы в городке Тюре. Второй – под помеченной буквой «К» плитой пола дальнего левого угла церкви Святого Сернена, находящейся в городке Бомонт-сюр-Лак. И третий кусок пергамента нашёл своё убежище в церкви Девы Марии городка Кадене под белым камнем внешней стены около западного окна часовни. Эти куски пергамента, соединённые вместе, должны указать точное место, где была спрятана реликвия тамплиеров.
И это была вся история, которую из поколения в поколение пересказывали мои предки. Что стало с теми рыцарями-тамплиерами, которые спрятали реликвию, откуда история брала свои корни и почему мои предки так и не проверили правдивость содержащейся в ней информации, мне доподлинно не известно. Предполагаю, эта странная сказка, взявшая своё начало в слухах и домыслах средневековья, со временем приобрела характер бессмысленной семейной традиции, которую никто до меня так и не решился нарушить, делая тайну из горячечной выдумки нашего далёкого предка. Тем не менее я не хочу Вас переубеждать и надеюсь, что мой рассказ, как минимум, позабавит Вас и снимет некоторые вопросы. С наилучшими пожеланиями и надеждой на скорейшую реализацию нашего уговора, С. Ракицкий. 1 мая 1890 года, Париж. ― Полуянов вздохнул и прочитал последние строки письма: ― P.S. То, что вся история есть выдумка, подтверждают хотя бы те факты, что у церкви Девы Марии в Кадене не было и нет часовни, а лестница в подвале церкви Святой Женевьевы в Тюре состоит всего из шестнадцати ступенек».
Полуянов положил письмо на стол, откинулся на спинку стула и скрестил пальцы рук.
– А что там дописано ещё внизу? ― спросил внимательный Сарычев.
– Это дата перевода, сделанного Петром Ракицким, ― сказал Полуянов. ― 7 мая 1945 г. Теперь всё. Ваши мнения?
– Судя по всему, Святослав Ракицкий поведал в этом письме не всё, что узнал от своего отца, ― промолвил я. ― Как мне представляется, и как вы нам рассказывали, традиция состояла не только в устном пересказе истории о спрятанной реликвии, но и в передаче на хранение послания Ногаре. Об этой бумаге в письме Святослава Ракицкого нет ни слова.
– Как вы думаете, почему? ― спросил Полуянов, оживившись.
– Потому что Святослав Ракицкий прекрасно знал, в отличие от нас, кем был барон П., ― ответил я.
Полуянов согласно кивнул, подтверждая, что мы с ним мысленно двигаемся в одинаковом направлении.
– Он, безусловно, знал, кто такой барон П. и почему его следует опасаться, ― сказал Полуянов. ― И именно поэтому, вероятно, говорил не всю правду или даже не совсем правду… Прадед прямо намекает на то, что между ним и бароном П. существовал некий договор, одним из условий которого было раскрытие семейной тайны местонахождения реликвии тамплиеров. И Святослав Ракицкий, пытаясь это условие добросовестно выполнить, откровенно требует выполнения оговорённых условий и от другой стороны. Он подробно описывает те места, где по легенде должны храниться отрывки тайного пергамента. Однако делает это с особым скепсисом, добавляя этот скепсис реальными подтверждениями сказочности описанной истории. Святослав Ракицкий юлит. Он утверждает, что семейная история есть чистейшей воды выдумка, но тем не менее у нас не остаётся сомнений, что он всё-таки относился к ней достаточно серьёзно, проверял её правдоподобность и был в тех церквушках, о которых писал. Своими замечаниями он словно пытается убедить адресата своего письма в бесперспективности дальнейших поисков. Местами это становится даже подозрительно.
– А то, что он написал в постскриптуме, действительно, правда? ― спросил неожиданно Сарычев.
Полуянов улыбнулся:
– Не совсем… У церкви Девы Марии нет отдельно построенной часовни, она находится в здании самой церкви, у которой есть западное окно и несколько белых камней в стене. Лестница же церкви в Тюре, ведущая в подвал, двойная. Первый пролёт ведёт на небольшую площадку и состоит из двадцати одной ступеньки, второй спускается непосредственно в подвал и состоит из шестнадцати ступенек. Так что Святослав Ракицкий немного лукавил, когда пытался утверждать о неточностях в рассказе своих предков. В письме мой прадед, откровенно имитируя недоверие к семейной истории, старается уверить барона П. в том, что пытался найти тайники, но это у него не удалось. Складывается впечатление, что Святослав Ракицкий исподволь готовит барона к неудаче в его будущих поисках и пытается отвести от себя любые подозрения в том (если тайники всё-таки будут найдены в церквях), что он сознательно дезинформировал барона П. об их содержимом.
– Вы намекаете на то, что тайники мог вскрыть Святослав Ракицкий? ― спросил Сарычев.
– Это мог сделать и Святослав Ракицкий, и его отец или даже далёкие французские предки. Это могли быть и мастера, перестраивавшие церкви… Вообще, это мог сделать кто угодно! А потому я считаю это лишним подтверждением парадоксального, но верного предположения, что в тайниках изначально ничего не было… Как мы уже знаем, не разорванный на три части пергамент, а само местоположение церквей должно было указывать на тайник с реликвией… Леонид Барташевич осознал это и организовал поиски реликвии в Белых Норах. Но первым, кто понял то, что тайники представляли собой некий обманный манёвр, полагаю, был Святослав Ракицкий. Скорее всего, он открыл все тайники и ничего там не нашёл. Так что барону П. он предлагал откровенную пустышку, стараясь за это получить что-то вполне конкретное, вероятно, деньги. А своими предупреждениями о несостоятельности древней семейной истории он хотел предупредить возможные обвинения в махинации. Мол, я вас предупреждал, но вы сами этого желали и не прислушались к моему мнению.
– Но почему в таком случае письмо всё-таки не было отправлено адресату? ― возразил я.
Полуянов, довольный, растянул свои губы в улыбке, как будто как раз и ожидал такого вопроса.
– Попробуем порассуждать, ― сказал он. ― Что решит обыкновенный здравомыслящий человек, когда, испытывая легенду на объективность, вскроет тайники и найдёт их пустыми? Он сделает вывод, что рассказ был истинен – как же, тайники обнаружены именно в тех местах, о которых и поведала история, – искателя просто опередили. Кто-то уже получил куски пергамента, соединил их и обнаружил местоположение клада тамплиеров. Неудачливый охотник за реликвией вздохнёт печально, решив, что все ниточки поиска обрублены, и отступится от навязчивой идеи найти сокровище. Согласны?
Мы с Сарычевым неуверенно кивнули.
– Именно так и рассуждал Святослав Ракицкий, когда столкнулся с пустыми тайниками. Ну, а раз всё равно ничего нельзя изменить, почему бы тогда не продать воздух легенды кому-нибудь, получив за это что-то более ощутимое и материальное, чем причастность к тайне. И сделка эта была уже практически совершена, когда мой прадед вдруг осознаёт, что первая реакция искателя-неудачника была ошибочной, и тот, кто организовал пустые тайники, как раз на это и рассчитывал – найдут их и отступятся от идеи поиска. Но в таком случае, подумал Святослав Ракицкий, семейная история должна содержать неведомое разумное зерно, и делиться ею с кем-либо, а тем более, с выплывшим из небытия загадочным бароном П., было нельзя.
– Звучит убедительно, ― произнёс Сарычев, задумчиво поглаживая свой подбородок. ― Есть даже своя своеобразная логика во всём, что вы нам поведали… Только где же всё-таки находится сейчас перстень Соломона (если он, действительно, является той самой таинственной реликвией тамплиеров), и почему некий непонятный Уильям Флором уверен, что взятые вместе два письма – Ногаре и Ракицкого – укажут нам путь его местонахождения?
– А вот это мы и должны с вами выяснить, ― сказал Полуянов и посмотрел на меня. ― И для этого нам необходимо послание Ногаре.
Я залез во внутренний карман куртки, осторожно вынул конверт, в котором хранил письмо французского канцлера и его перевод, и, развернув листки бумаги, аккуратно положил их на стол.
– Ну и что может быть в этих письмах общего? ― озадаченно пробурчал Сарычев, придвинулся ближе к бумагам и опёрся локтями на стол. ― С чего начать? ― Майор кинул вопрошающий взгляд на Полуянова.
– Когда мой дед Пётр Ракицкий передавал мне по наследству свои тайные знания и хранившиеся у него письма, он ни словом не обмолвился о том, что между этими бумагами есть какая-то связь. Я знаю эти послания наизусть, но никогда раньше даже не думал о том, что в этих сообщениях может быть что-то зашифровано, ― с сомнением проговорил Полуянов. ― Да и как это возможно?.. Оба письма написаны, несмотря на длительный временной промежуток между ними, до того момента, когда, судя по всему, обнаруженная в Белых Норах реликвия тамплиеров оказалась в руках Фридриха Мейера, погибшего в 1945 году в осаждённом Берлине… Логично предположить, что вся информация, заложенная в этих письмах, к тому моменту уже устарела.
– А вы уверены, что Фридрих Мейер действительно нашёл перстень Соломона? ― спросил Сарычев. ― А не могло быть так, что перстень до сих пор лежит где-нибудь, никем не обнаруженный?.. Тогда можно предположить, что в письме Святослава Ракицкого спрятана необходимая нам информация, которая в ссылках на послание Ногаре даёт нам указание на место, где находится реликвия. ― Сарычев на некоторое время замолчал, наблюдая, как мы с Полуяновым сосредоточенно рассматриваем лежащие перед нами письма. ― Я не путано это объяснил?.. ― Майор вздохнул. ― Как вы думаете?
– Эта версия имеет право на существование, ― наконец без энтузиазма отреагировал на замечание майора Полуянов. ― Только есть одно обстоятельство, о котором я раньше не говорил. ― Полуянов запнулся, мы с Сарычевым превратились в слух. ― Когда я последний раз говорил с моим дедом Петром Ракицким, он сказал мне, что не только верит в существование перстня, но даже видел его…
– Он видел перстень Соломона?! ― в один голос вскричали я и Сарычев, чуть не вскочив со своих стульев.
– Значит, Пётр Ракицкий всё-таки открыл тайну трёх церквей и нашёл тайник с реликвией в Белых Норах, ― сразу же предположил я.
– Возможно, ― как-то отстранённо ответил Полуянов, и в его голосе я почувствовал особую неуверенность. ― Дед не стал рассказывать, где и когда он видел его. А я особо и не настаивал на ясности. Честно говоря, от меня тогда, пятнадцатилетнего подростка, всё это было так фантастически далеко.
– Но почему, если Пётр Ракицкий нашёл перстень, он не взял его? ― удивился я.
– Одно из двух – либо не мог, либо не хотел это сделать.
– Что же могло ему помешать взять из тайника в Белых Норах перстень?
– Кто-то или что-то. А потом… ― Голос Полуянова дрогнул, он на секунду замолчал. ― Раньше я был абсолютно уверен, что Ракицкий видел перстень именно во Франции, когда жил там в эмиграции… ― Полуянов потёр свой лоб ладонью, рассуждая вслух: ― Если подумать, где он ещё мог найти перстень?! Только в Белых Норах… Однако, может быть, это совсем не так.
– Но где же и когда Пётр Ракицкий видел перстень? ― обескураженно спросил Сарычев.
– В том-то и загадка, ― пробормотал Полуянов. ― Я много думал над этим в последнее время, с того самого момента, когда Бартли принёс новость об интересе загадочного Флорома к этим двум письмам… Видел Пётр Ракицкий реликвию до войны или после… Ведь, если после (а Пётр Ракицкий после возвращения в Россию практически не выезжал из Москвы), то получается, что перстень Соломона…
– Вы хотите сказать, что перстень Соломона находится в Москве?! ― поражённый предположением, воскликнул я, не дав даже закончить мысль Полуянову.
– Да, именно это я и хотел сказать, ― хмуро посмотрев на меня, подтвердил Полуянов. ― И история с двумя письмами, выступившими в качестве ключей тайны, как нельзя лучше подтверждает эту догадку.
– Каким образом? ― спросил майор.
– Предположим, что какими-то странными путями перстень, пропавший вместе с Мейером в Германии, вдруг оказался в Москве. И Пётр Ракицкий неожиданно увидел его здесь.
– Слишком много необъяснимых случайностей, ― недоверчиво проворчал Сарычев.
– Согласен, ― сказал Полуянов. ― Но всё-таки не будем столь категоричны, позволим себе довести эту гипотезу до конца… Итак, Пётр Ракицкий увидел перстень и решил оставить об этом сообщение.
– Почему он об этом не сказал вам напрямую, когда рассказывал всю эту историю? ― Майор по своему обыкновению, когда пытался что-то осознать, удивлённо поднял брови домиком.
– Не мог, не хотел, может, опасался чего-нибудь или кого-нибудь… Могли быть разные причины для этого. Вероятно, он просто не доверил ключ тайны подростку и надеялся, что со временем, если интерес, заложенный предками, не пропадёт, я сам приду к решению загадки… Как бы то ни было, он решил закодировать информацию о том, где и когда видел перстень, в посланиях Ногаре и Святослава Ракицкого, документах, которые неразрывно связаны с семейной легендой…
Не сговариваясь, мы одновременно обратили свой взгляд на бумаги, разложенные на столе.
– Давайте рассуждать логически, ― задумчиво промолвил Полуянов. ― Есть два документа, беречь которые завещано потомкам. Изменить их содержание невозможно, но можно на них, без ущерба для основной информации, оставить некие знаки, которые должны указать путь поиска…
– Какие тут могут быть знаки? ― с заметным раздражением спросил Сарычев. ― Есть письма, и есть их дословные, как я понимаю, переводы на русский язык… И ничего более.
– Сами письма, я думаю, можно оставить в покое, ― сказал я. ― Во-первых, они созданы намного раньше предполагаемой встречи Петра Ракицкого и перстня Соломона, а во-вторых, на них нет никаких дополнительных пометок. Если Пётр Ракицкий хотел оставить какое-то скрытое сообщение, он, вероятнее всего, сделал бы это в своих переводах.
– Это похоже на правду, ― тут же быстро согласился со мной Полуянов; его глаза вспыхнули озорным зелёным огоньком.
– Но на переводах нет никаких особых знаков, ― возразил Сарычев, повертев в руках обе странички с переводами Петра Ракицкого. ― Возможно, что-то скрыто в самих текстах переводов… А они, вообще, идентичны оригиналам? Может быть, следует поискать их несоответствия с письмами? ― с надеждой спросил он.
Я решил сопоставить тексты писем их переводам. Полуянов на это только усмехнулся и скептически махнул рукой:
– Поверьте мне, эти переводы дословные. Пётр Ракицкий знал французский язык как родной, а в латыни, я думаю, он был одним из лучших специалистов не только в Советском Союзе, но и в мире.
Две странички, два перевода – один, письма Ногаре, сделан на печатной машинке, другой, письма Святослава Ракицкого, написан от руки. Печатный текст был немного подправлен красными чернилами. В одном месте слово «дорога» (via) было исправлено на «путь», в другом – «скрытая» (secretus) сила трансформировалась в «тайную». Как мне показалось, изменения сколь малые, столь и абсолютно несущественные для смысла текста. Правда, они имели свою дату исполнения, написанную в самом конце текста такими же красными чернилами и отмеченную с особой кричащей пунктуальностью следующим образом – 1968, 12-13.02, 19:51. Чуть выше этой даты стояла другая, видимо относящаяся к основному печатному переводу послания Ногаре. Она, как и весь основной текст, была напечатана на машинке и также ссылалась на вполне конкретное время завершения работы над переводом – 02.09.1954, 13:12. Получалось, что между переводом и его исправлениями прошло четырнадцать лет. Почему Пётр Ракицкий через столько лет решил добавить свой перевод замечаниями, ничего существенно не меняющими в содержании текста, да ещё так точно определил время внесения изменений? Странное, удивительно трепетное отношение к точности, к несущественной детали, теряющейся в толще лет. Зачем необходимо фиксировать дату перевода и его изменения, да ещё с такими деталями – часами и минутами? Откуда такая необъяснимая дотошность в датировании? Что это – персональная особенность или желание точно зафиксировать важную временную точку?
– Пётр Ракицкий был пунктуальным человеком? ― спросил я Полуянова.
– В общем-то, да, ― неуверенно ответил Полуянов; я заметил, что он был озадачен моим вопросом. ― Он любил точность во всём.
– А письма и работы он всегда помечал с такой временной аккуратностью, как сделал это с переводом письма Ногаре?
– Датировать бумаги – это было в его практике. Такая странность, а точнее, особенность наблюдалась за Петром Ракицким. Чаще всего, правда, он обходился всё-таки днём, месяцем и годом, но иногда ставил и точное время. Это была просто особенная, ни к чему не обязывающая фишка, переросшая в некий автоматизм, ― ответил Полуянов и прибавил недоверчиво: ― Руслан, вы серьёзно полагаете, что в этих датах могло быть что-то скрыто?
– Меня смущают некоторые мелочи, ― решил объяснить я свои подозрения. ― Первая печатная дата перевода написана по схеме день-месяц-год-время, вторая, написанная от руки, – по принципу год-день-месяц-время.
– И что? ― Сарычев нахмурился, не найдя в моих словах ничего существенного. ― Я тоже, например, часто пишу дату по-разному.
Я пожал плечами:
– Возможно, в этом, действительно, нет ничего заслуживающего внимания, но если датирование бумаг стало у Ракицкого поведенческим автоматизмом, не кажется ли вам, что он должен быть однообразным?
– Логичное замечание, ― поддержал меня Полуянов.
– А потом, ― продолжил я, ― обратите внимание на вторую дату. В ней указаны два дня февраля и время. Логично предположить, что время относится ко второму дню и именно в 19:51 Пётр Ракицкий завершил свои исправления к переводу. Но зачем он тогда указал первый день – 12 февраля? И неужели для того, чтобы исправить два слова, необходимо было работать с переводом целых два дня?.. Мне кажется, что эти даты вообще никакого отношения не имеют к реальному времени сделанных переводов и исправлений.
– Что ты хочешь этим сказать? ― Майор засуетился.
– Моё предположение состоит в том, что не текст перевода, а его даты содержат закодированное сообщение.
– Так. ― Полуянов почесал лоб в раздумье. ― А в этом что-то есть… Руслан, и вы можете предложить ключ к этому коду?
– Я не уверен, ― проговорил я, разглядывая страницы с переводами двух писем, ― но, мне кажется, не зря эти два письма сильно связаны друг с другом…
– Перекрёстные ссылки на символы! ― воскликнул Полуянов, прочитав мои мысли.
– Именно, ― сказал я. ― Даты – это цифры. Цифры одного письма нумеруют некие объекты в другом письме. Предположим, это слова или буквы.
– Скорее всё-таки буквы, ― заметил Полуянов.
– Хорошо, ― я кивнул, ― буквы… Таким образом, получается… ― Я быстро сопоставил первую цифру печатной даты перевода Ногаре с соответствующей по номеру буквой перевода Святослава Ракицкого. ― «Двойка» первой даты – это «в», вторая буква в первом слове письма «уважаемый».
– Тогда месяц сентябрь, девятка, указывает на «й», ― сказал Сарычев. ― Ерунда какая-то получается.
– Совсем нет, ― возразил Полуянов. ― Это будет буква «и».
– А следующая буква получается по счёту тысяча девятьсот пятьдесят четвёртой…
– Совсем нет, ― заметил я. ― Год надо разделить на две части. Получится – «19» и «54». Девятнадцатая буква перевода письма Ракицкого – это «к», а пятьдесят четвёртая… ― Я возбуждённо зашевелил губами в немом подсчёте.
– «Т», ― опередил меня Полуянов.
– Тринадцатая и двенадцатая – это «о» и «р», ― громогласно объявил Сарычев. ― Что у нас получается?
– «Виктор»! ― радостно воскликнул я.
Майор непроизвольно в удовлетворении потёр руки и улыбнулся.
– Значит, работает, ― сказал он. ― А со второй датой что?
– Всё то же самое, ― заявил я. ― Девятнадцать – это «к», шестьдесят восемь – это «и», двенадцать и тринадцать идут вместе – это «ро», два – это «в»…
Наступила недолгая пауза.
– Ну, а тут точно какая-то путаница получается, ― пробурчал озадаченно майор. ― Девятнадцать – это «к», а пятьдесят один – это «б»… «Кировкб»… Что бы это значило?
– Виктор из КБ имени Кирова? ― выдал я свою первую ассоциацию и тут же отверг её: ― Весьма смутная наводка.
– Нет, нет, ― решительно запротестовал Полуянов. ― Мы забыли ещё одну дату перевода Петра Ракицкого, дату перевода письма его отца – 07.05.1945. Эти цифры, если действует перекрёстная ссылка, скорее всего, ссылаются уже на письмо Ногаре.
Схватив карандаш и водя им словно указкой, я быстро расшифровал эту запись:
– «Сели»… Что-то странное.
– Кто-то вместе с Виктором Кировым из КБ за что-то сел? ― съёрничал Сарычев.
– Это не «сели», ― сказал уверенно Полуянов. ― Обратите внимание, все даты, кроме этой ограничились цифрами, а здесь дед поставил ещё и маленькую прописную букву.

