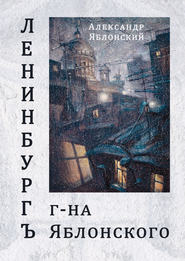скачать книгу бесплатно
…Чарторыйские с Потоцкими, Сапеги с Радзивилами, Понятовские с Замойскими, Лещинские – со всеми остальными – все что-то делили, враждовали, воевали. Каждый тянул в свою сторону – кто в сторону Франции, кто в сторону Пруссии, кто – Австрии, кто – России. И великие державы Европы – каждая по-своему: кто ласками, кто сказками, кто деньгами – что вернее, кто (все, как правило) войсками – что привычнее (Россия в особенности) – и примагничивали влиятельные княжеские фамилии, представителей великопольских шляхетских родов, стараясь повлиять на демократический выбор кандидатов польского шляхетства на престол, воеводство, гетманство, канцлерство, подканцлерство.
К примеру, Чарторыйские – Гедиминовичи – при Августе III враждовали в борьбе за власть и за престол с Потоцкими. Последние тяготели к Франции и поддерживались ею, Швецией, Турцией и основной шляхетской массой. Чарторыйские же – Фридрих-Михаил – подканцлер, а затем канцлер литовский, и его брат – Август-Александр, женатый на наследнице магнатов Сенявских – стремились найти – и находили – помощь со стороны Англии, Австрии и, особенно, России. Естественно: княжна Чарторыйская была женой последнего польского короля, ставленника Екатерины Второй – Станислава II Августа Понятовского, а Адам Ежи Чарторыйский позже стал сердечными другом цесаревича Александра Павловича, а ещё позже – был пару лет министром иностранных дел Российской Империи (что не помешало ему впоследствии возглавить антирусское освободительное движение, а с декабря 1830 года стать Председателем Временного, а затем Национального правительства Польши). После разгрома восстания жил в Париже, консолидируя вокруг себя антирусскую эмиграцию. Во время Крымской кампании покровительствовал созданию польских военных формирований в Турции.
Или Ян Собеский конкурировал на выборах с Михаилом Вишневецким. Последний был креатурой Габсбургов, Ян Собеский, женатый на француженке – вдове Яна Младшего Замойского – Марысеньке Замойской (ур. Марии Казимире д’Арквин), прибывшей в Польшу в свите французской королевы Марии Людовики, был, естественно, другом Франции. Благодаря поддержке французской короны (а Людовик XIV был самым могущественным властителем в Европе), Собеский стал польным коронным гетманом (заместителем командующего польской армии), а затем великим гетманом. Однако выборы выиграл Вишневецкий – Император Священной Римской империи оказал бо?льшую финансовую поддержку выборщикам. Собеский стал королем после смерти Вишневецкого, получив предельно большую помощь из Парижа (Марысенька постаралась!) в обмен на заключение франко-шведско-польского союза против Габсбургов.
И так далее.
Станислав Лещинский – представитель мощного клана Лещинских и богатейших магнатов Яблоновских – изначально тянулся к Швеции. Будучи ещё познанским воеводой, после поражений Августа Второго, понесенных от Карла XII, был направлен Варшавской конфедерацией в Швецию с дипломатической миссией, во время которой окончательно закрепил свои приоритеты. В 1704 году Лещинский был избран Королем Речи Посполитой. Началась гражданская война: часть шляхты пошла за Лещинским, часть осталась верна Августу Второму. Лишь через два года Карл принудил Августа отказаться от престола в пользу Станислава – теперь уже полноправного короля Польши и Великого князя Литовского. Однако это не снизило накала страстей противоборствующих партий. Тем более что в 1709 году случилась Полтавская битва, и Лещинский эмигрировал во Францию. Чаши весов переместились, но взаимная ненависть внутри шляхты лишь обострилась. После смерти в 1733 году своего врага – Августа Сильного, вторично пришедшего к власти в 1709 году, Потоцкие предложили Сейму кандидатуру Станислава Лещинского. Лещинский – в то время уже зять Людовика XV – срочно вернулся в Польшу. К этому времени Примас Польши – архиепископ Гнезно Теодор Анжей Потоцкий провел через конвокационный (избирательный) сейм закон, по которому польским королем отныне мог стать только католик и только поляк. Поддерживаемый большинством шляхтичей и сенаторами, Лещинский был вторично избран королем Польши на рыцарском Коле 1 сентября 1733 года. Это были последние свободные выборы польского короля. На огромном поле шестьдесят тысяч вооруженных всадников в блестящих доспехах, на прекрасных конях, ликуя и потрясая выхваченными из ножен саблями, провозгласили Лещинского своим королем. «Примас произнес: “Так как Царю царей было угодно, чтобы все голоса единодушно были за Станислава Лещинского, я провозглашаю его королем Польским, великим князем Литовским и государем всех областей, принадлежащих этому королевству!”». Несколько сенаторов и четыре тысячи всадников откололись и ушли за Вислу, в Прагу, дожидаться русских. Среди них были Огиньские и Чарторыйские (не жалел ли об этом через много лет Адам Чарторыйский, возглавляя Польское сопротивление в изгнании…). Далее все шло по накатанному и прогнозируемому шаблону. Русские войска под командованием фельдмаршала Ласси вошли в Польшу. Не в первый и не в последний раз предлогом было желание «по просьбе дружественной конфедерации» (то есть изменников, которые всегда находились и найдутся) «защитить польскую конституцию» («конституционный строй», «суверенитет», «демократию», «территориальную целостность», «принудить к миру» – эти и прочие слова были придуманы позже). Войска вошли не в первый раз – скажем, совсем недавно, в 1697 году, корпус М. Ромодановского перешел русско-польскую границу, чтобы помочь поляками выбрать нужного России короля – тогда Августа Второго, но никак не принца Конде. Такой принцип бытия Империи – infuence legitime (законное вмешательство) – был и остается основополагающим. Иначе не умеем, и ничего в России не меняется. Infuence legitime с приобретением новых врагов по периметру и по окружности. Новинкой тогда было то, что ранее войска вводили перед выбором или престолонаследием, чтобы оказать интернациональную помощь несмышленым европейцам (азиатам и др.). В 1734 году ситуация кардинально изменилась. Король был уже избран. Законно, легитимно, справедливо. Но нет трудностей, которые не преодолели бы… Война была кровопролитной, жестокой. На помощь Ласси прислали фельдмаршала Миниха. «Патронов не жалели». «…В то же время, как ещё житницы горели, случилось, что один гренадер вышедшего из оных старого седого стрелка примкнутым штыком подхватил и его многократно так жестоко колол, что весь штык изогнулся, однако он его нимало повредить не мог, чего ради он своего офицера призвал, который того сперва по голове несколько раз палашом рубил, а потом в ребра колол, однако ж и тот его умертвить не мог, пока напоследок казаки большими дубинами голову ему так разрубили, что из оной мозг вышел, но он и тут долго жив был». Потом удивляются, почему поляки русских не очень любят.
На престол посадили Августа Третьего – саксонского курфюрста. Станиславу Лещинскому, отрекшемуся от престола, решением Венского конгресса 1738 года оставили пожизненный титул короля. Вдобавок он стал последним герцогом Лотарингии. История покатилась дальше.
Канули в Лету всемогущество Потоцких, Замойских, Вишневецких, ушел с исторической арены последний король Речи Посполитой Понятовский, Чарторыйские перебрались в Россию и пока верно служили молодому Императору, Суворов и Паскевич по очереди заливали кровью родину Мицкевича и Шопена, умер Костюшко, Польшу три раза дербанили – раздербанили, уже прогремели все грозы «корсиканского людоеда», даже ошеломляющие своей фантастической уникальностью «100 Дней», уже семнадцатилетняя Наталья Потоцкая влюбилась в тридцатисемилетнего Михаила Лунина, и он потерял голову – единственный раз в жизни – это была удивительная, невероятная любовь, обреченный роман – девушка из королевского рода и обедневший тамбовский дворянин, хотя и блистательный офицер – гордость Наместника; уже все увлеклись полонезом Михаила Клеофаса Огинского, прославившего свою фамилию, уже Наталья Потоцкая, выданная за князя Сангушко, умерла в 23 года, а Лунина перевели из Читинского острога в Петровский завод, и он ещё не знал, что его ждет ад Акатуя, уже мой сосед и тезка был отдан в Первый Кадетский корпус, а затем выпущен подпоручиком, успел стяжать славу героя 12-го года, жениться и потерять жену, которую любил без памяти, уже Пушкин закончил «Онегина» и частенько навещал Смирнову-Россет в доме по соседству со мной, хотя душевной близости, как утверждала дочь Александры Осиповны, не было и в помине. Ушла из жизни хозяйка дома на углу Спасской улицы – Мария Богдановна Булатова, урожденная Нилус. Она тоже, кстати, семнадцатилетней влюбилась в своего будущего мужа – тридцатисемилетнего полковника Михаила Булатова. Шляхетские распри, казалось, давно забыты – другая жизнь стояла на дворе. Однако нет. Та старая ненависть, возможно, растаяла, но нескрываемая неприязнь и скрытая враждебность, обогащенные различными бытовыми деталями, между Лещинскими, с одной стороны, и Чарторыйскими – Огиньскими – Нилусами, с другой, остались.
Эта враждебность, эта ментальная несовместимость, это исторически устоявшееся противостояние семейных традиций и нравов – всё это явилось благодатной почвой для той сшибки, которая привела к жуткой гибели моего соседа.
«Сшибка» – термин, введенный академиком Иваном Павловым, означает столкновение противоположных импульсов, идущих из коры головного мозга. Или, точнее: столкновение процессов возбуждения и торможения. При таком столкновении кора головного мозга может перейти в свое патологическое состояние, то есть происходит срыв высшей нервной деятельности. Скажем, внутреннее побуждение заставляет человека поступить неким образом, но дисциплина или иной фактор заставляет его делать нечто противоположное. Это случается с каждым. Внутреннее побуждение – возбуждение, скажем, направляет меня за письменный стол писать роман, но жена говорит: не позорься, не лезь, куда не просят, рожей не вышел в писатели, лучше принеси пылесос – происходит торможение. Хочется выпить – возбуждение, безденежье – торможение. Эти бытовые сшибки, как правило, проходят безболезненно, лишь царапая сознание, нервную систему. Или – уже посерьезнее: любит, скажем, некий небездарный писатель или поэт творчество, к примеру, Пастернака или Ахматовой, не просто любит – влюблен, в хорошем подпитии читает их творения наизусть с восторгом и слезой, но выходит этот небесталанный или даже талантливый литератор-чиновник на трибуну и клеймит позором сих космополитов и ренегатов. Побуждение – истинное чувство литератора – «сшибается» с партийным или чиновничьим долгом, а чаще, попросту – со страхом, извечным российским ужасом перед властью. От таких сшибок некоторые стреляли себе в сердце. Так что при особом стечении обстоятельств и при экстраординарной силе противоположных импульсов подобная сшибка ведет к трагедии. Как в случае с моим тезкой.
А дом у него был чудный. Светло-жёлтый, трехэтажный, с портиком ионического ордера при шести белых колоннах и с пятью высокими, сверху овальными дверями. Портик завершен треугольным фронтоном. На фасаде – лепные маски, скульптурные панно. По всей улице Рылеева – единственный с табличкой: «Охраняется государством как памятник архитектуры начала XIX века». Что-то в этом духе. Хорошо охраняется: во время капитального ремонта в 70-х годах XX века все детали интерьера попятили.
Мария Богдановна Булатова дом этот, тот самый, который располагался прямо под окнами нашей комнаты в доме Мурузи, откупила у наследников известного врача Г. Соболевского. Даже не откупила, а недостроенный особняк напротив Спасо-Преображенского собора просто перешел в ее собственность, так как она была кредитором семьи полуразорившихся Соболевских. Удивительны судьбы скрещения. Дом Булатовых разместился на улице, через столетие названной именем того человека, который в десятых числах декабря – за несколько дней до возмущения на Сенатской площади – принял пасынка Марии Богдановны в члены тайного общества. Именно Кондратий Федорович Рылеев также дал рекомендацию – просто кивнул, и его друг детства и соученик по Первому кадетскому корпусу – Александр Булатов – стал членом общества. Кивнул, то есть, обрек.
Скажу честно, больших симпатий к своей соседке Марии Богдановне я не испытывал, хотя мне она ничего плохого не сделала. Вот к своему пасынку она относилась с плохо скрываемой неприязнью, делая жизнь мальчика – юноши скудной, нерадостной, порой тяжелой. И дело даже не в том, что юная генеральша Булатова была дамой чрезвычайно великосветской, принятой при дворе, доверенной приближенной вдовствующей императрицы Марии Федоровны; балы, приемы, аудиенции, прочие важные дела не оставляли ей времени на внимание к мальчику. Плюс в апреле 1802 года у Александра появился сводный брат – тоже Александр. Так что для старшего сына начальника Генерального штаба генерала-лейтенанта Михаила Леонтьевича Булатова места в сердце мачехи вообще не оставалось. Однако главная причина антипатии к пасынку была в другом. Мария Богдановна, урожденная Нилус, принадлежала к семействам, традиционно враждебным клану матери будущего декабриста. (Она была дочерью киевского генерал-губернатора, генерала-аншефа Богдана Нилуса). Тот самый случай: Лещинские – Чарторыйские и К°. Мать Александра Булатова – Софья Казимировна доводилась внучкой польскому королю Станиславу Лещинскому. Огиньские же, Чарторыйские, Нилусы, связанные между собой кровными и брачными узами, как и было сказано, столетиями враждовали с отпрысками некогда всесильного великопольского шляхетского рода королевской короны, связного, к тому же, и с французским престолом: дочь короля Станислава – тетка Софьи Лещинской, матери Александра – была женой Людовика XV. Александр свою мать почти не помнил. Помнил польские слова, которым она его учила. Она умерла, когда ему было три года. Однако воспитывался он у своих родственников – в доме Карпинских – в клане Лещинских. В том же настрое и в тех же традициях. Свое начальное образование и основы воспитания он получил под руководством двоюродной бабушки – Ядвиги (Пелагеи после перехода в Православие) Станиславовны Карпинской, родной сестры Казимира Лещинского – сына короля Польши. В доме Карпинских на Литейном проспекте формировался юный Булатов в окружении гувернеров-французов. Свою двоюродную бабку он обожал.
Так что мой сосед был королевских кровей. Да и по отцу он происходил от Симеона Бекбулатовича…
Рождение брата в 1802 году сказалось не только на судьбе моего соседа. Рождение второго Александра Булатова (пасынок генеральши Булатовой был назван Александром в честь Александра Македонского, его сводный младший брат – в честь Александра Первого – отсюда и восприемник) в какой-то степени – в минимальной, но не мифической – повлияло и на судьбу России. Знаменитое булатовское: «Сердце мне отказывало» – с тех крестин в церкви Петергофского дворца.
Я любил в детстве взирать на крышу и верхний этаж соседского дома. На крыше часто возились рабочие. Что-то постоянно латали, меняли кровлю, правили водосточные трубы, чистили печные и каминные дымоходы. Мне все время казалось, что кто-то может упасть. Слава Богу, не случилось. Крыша дома Булатовых была чуть ниже нашего четвертого этажа в Доме Мурузи. Поэтому окна последнего этажа соседей были хорошо видны. Крайнее, угловое окно: кухня, типичная коммунальная кухня, замызганная, темная. Лампочка на скрюченном пыльном проводе без абажурчика. Деревянный столик или тумбочка невнятного фисташкового цвета, крашеные масляной краской вишневые облупившиеся доски пола, домохозяйки в серых несвежих халатах и с бигудями в волосах. Другое окно – жилая комната, занавеска обычно задёрнута. Третье окно – занавески нет. Видно кресло и часть книжных полок. Иногда к окну подходил старый мужчина, похожий на женщину или Плюшкина, и смотрел на улицу. На улице постоянно что-то копали. На втором этаже окна были высокие – барские. Под стариком с библиотекой и креслом жила некрасивая девушка. Она где-то в начале мая открывала окно, ставила патефон и заводила: «Раз пчела в теплый день весной», «Аутобос, червоний» или «Мой Вася». Возможно, в этой комнате с высокими окнами жили когда-то Сергей Петрович Боткин или Алексей Николаевич Плещеев, или Елизавета Алексеевна Нарышкина, урождённая княжна Куракина. А может, там была квартира Василия Ивановича Сурикова, только что переехавшего из Красноярска на учебу в Петербург. В 10-х годах XX столетия там жил Владимир Галактионович Короленко. Вот – истинно безупречная фигура русской истории, культуры. «Идти не только рядом, но даже за этим парнем – весело!» – писал Чехов. Бунин, не склонный что-то прощать или не замечать, Бунин, славившийся своим пронзительным взглядом и беспощадным языком: «Когда жил Л. Н. Толстой, мне лично не страшно было за всё то, что творилось в русской литературе. Теперь я тоже никого и ничего не боюсь: ведь жив прекрасный, непорочный Владимир Галактионович Короленко». Я гордился тем, что жил на улице Короленко.
…И слушали они – Суриков и Короленко, Боткин и де Люмиан, Смирнова-Россет и все жильцы этого обыкновенного петербургского дома, мои соседи – дивный замысловатый перезвон, заполнявший площадь и все близлежащие улицы. Столько лет прошло – жизнь прошла, – а в ушах мелодия и ритм той колокольной вязи. Говорили, что этот уникальный – только Собору Преображения Господня всей гвардии свойственный – аккорд колокольни сохранился ещё с «допожарных» времен: со времен Пушкина, ещё холостого камер-юнкера Николая Смирнова, Прево де Люмиана – генерал-майора, Наместного Мастера Ложи Соединенных друзей, квартировавшего в правой части дома. Со счастливых времен начала семейной жизни Александра Булатова, женившегося в 1818 году – супротив воли отца и мачехи по всепоглощающей и взаимной любви – на шестнадцатилетней фрейлине вдовствующей императрицы Марии Федоровны Елизавете Мельниковой. Тогда были распространены ранние браки – ей шестнадцать, ему – двадцать пять. Долго прожить в доме на Спасской улице им не пришлось. Давний антагонизм с мачехой, усугубленный стремлением Марии Богдановны передать по наследству многомиллионное наследство мужа своим двум сыновьям, разрыв с отцом (к счастью, временный) вынудили молодых Булатовых переехать в другой дом генерал-лейтенанта Михаила Булатова, располагавшийся на Исаакиевской площади, № 7 – в тот знаменитый дом Грибоедова, Кюхельбекера, Одоевского…
Позже, в марте 1824 года перед отправкой в Сибирь, назначенный тамошним генерал-губернатором Булатов-отец, познакомившись с невесткой и двумя внучками – Пелагеей и Анной, – простил сына и переписал завещание. По новому варианту оного состояние генерала делилось на три равных части. Дом на Спасской улице достался Александру Булатову-старшему. Моему соседу. Однако въехать живым в этот дом ему уже не довелось.
В этой правой части дома генеральши Булатовой собиралось удивительное общество. Апартаменты Августа Прево де Люмиана были одним из мест встреч членов ложи. Ложа имела собственный храм в подземелье Мальтийской капеллы Воронцовского дворца на Садовой улице. Однако ближе к 20-м годам неформальные встречи часто перемещались на Спасскую улицу. Традиционно – со времен французской Les Amis Reunis – славившаяся своими заговорщицкими наклонностями Ложа Соединенных Друзей привлекала и объединяла людей противоположных типов и взглядов. Воронцовский дворец или дом Булатовой заполняли люди, которых, по незнанию социального климата, нравственного и сословного состояния общества той эпохи, мы представить вместе не в силах. В гостиных де Люмиана встречались члены Ложи Великий князь Константин Павлович и Петр Чаадаев, герцог Александр Вюртембергский – тогда Губернатор Белоруссии – и Александр Грибоедов; министр полиции Александр Балашов и Александр Бенкендорф приветствовали только что принятого в ложу (1812 год) лучшего ученика Пажеского корпуса выпуска декабря 1811 года, юного прапорщика лейб-гвардии Литовского полка Павла Пестеля. Собственно, Пестель был принят Мастером Стула Оде-де-Сионом, который являлся инспектором классов в Пажеском корпусе, в нарушение правила о минимальном возрасте вступления в ученики вольного каменщика (25 лет). Будучи камер-пажом, Пестель заявил о своем желании вступить в братство, и Мастер Стула сделал для него исключение.
Молодой Булатов вряд ли бывал на собраниях членов ложи, но не встречаться, не общаться с ними, не дружествовать он не мог, ибо с детства это был его круг, его мир, его родственные и духовные связи.
Всё – случай, случай. Не приди в голову Александру Первому сменить графа Аракчеева (ещё один мой сосед, помните) на посту начальника Генерального штаба генералом Михаилом Булатовым, который также наслаждался колокольным перезвоном нашего собора, то, возможно, жили бы мы в другой стране. Маловероятно – менталитет нации, как и Божий промысел, не переделаешь, – но и не невозможно. Маленькая песчинка, попавшая в створ мощного маховика истории, могла нарушить, скорректировать его, казалось бы, неумолимый ход. Аракчеев, естественно, затаил обиду – ревнив и мстителен был граф; в 1800 году он ещё полностью не завладел сердцем своего повелителя (в этом сердце ещё ютились Сперанский, Адам Чарторыйский, Кочубей), он лишь начинал свой трудный путь к достижению высокой цели, поэтому с особой остротой воспринимал любые поползновения возможных или, часто, как в данном случае, – мнимых конкурентов. То, что Аракчеев злопамятен, злобен и ненавидит его отца (ненависть была обоюдной), молодой Булатов по мере возмужания узнавал все более и более, подогревая свое отношение к всесильному временщику не всегда правдоподобными подробностями. Посему, узнав, что отец назначен генерал-губернатором Сибири, а это случилось в марте 1824 года, Александр-старший воспринял эту «ссылку» как результат клеветы и происков Аракчеева, и с ним случился «родимчик». Так его сослуживцы называли те припадки необузданного бешенства, которые овладевали им в тех случаях, когда он видел или слышал, как обижают беззащитного, творят явную несправедливость, совершают гнусность. Так, в самом начале своей карьеры – в 1811 году – выпущенный подпоручиком в лейб-гвардии гренадерский полк, восемнадцатилетний Булатов вошел в резкий конфликт с командиром батальона неким Желтухиным, отличавшимся особой, даже по аракчеевским меркам, жестокостью по отношению и к младшим офицерам, и, особенно, к солдатам. Один эпизод едва не привел Булатова к каторге: видя неоправданную лютость командира батальона к солдату, ничем не провинившемуся, он впал в бешенство – случился «родимчик» – и едва не избил полковника. Вмешались сослуживцы, оттащили, а командующий полком генерал граф П. Строганов не дал делу хода, так как сочувствовал юному подпоручику.
Вот тогда – после «родимчика» от известия о переводе отца в Сибирь – и возникла, была высказана мысль, что «надо убирать Аракчеева» и, возможно, покуситься на жизнь царя. «Надо вступать в заговор!» – воскликнул, якобы, он, хотя заговора, как такового, ещё не было. «Родимчик» прошел, оставив, как всегда, чувство стыда за неконтролируемую вспышку бешенства, даже забылся. Но что-то запало, стало прорастать. Одним из главных жизненных правил его было «всегда с охотой умереть для пользы отечества». Заговор – ещё не существующий или ему ещё не известный, стал для него олицетворять «пользу отчества».
Случай… Не приди в голову Александру идея не только назначить генерала Михаила Булатова начальником Штаба, но и, по рекомендации Сената, «при Петергофском быть дворце кастеляном замка», не переехал бы в марте 1802 года мальчик – уже кадет первого года – вместе с отцом, гувернерами и камердинером – рязанским крепостным Николаем Родионовым, который был с Булатовым с первых дней его короткой жизни до ее последних часов – в Петергоф.
В Петергофе же в апреле 1802 года родился родной брат Булатова. Восприемниками от купели младшего брата будущего героя войны 12-го года были Император Александр Первый и вдовствующая Императрица Мария Федоровна. В церкви Петергофского дворца были все братья Романовы, великие княжны Анна, Екатерина, Мария, Александра, Елена, великая княгиня Анна Федоровна – супруга Константина. Все они подходили, поздравляли. Константин его обнял, приподняв, Александр облобызал, сказав, что быть кадетом Первого Кадетского корпуса – этой Рыцарской Академии – большая честь. Недаром соученики мальчика – принцы лучших европейских фамилий, дети аристократии России и Европы. Шестилетний Николай смотрел с восторгом – вскоре и ему идти в этот Кадетский корпус, и девятилетний Булатов в кадетской форме казался ему героем. Михаилу стукнуло четыре года. Княжны были милы, приветливы, заботливы. Всё было ласково, по-семейному. И девятилетний Александр чувствовал себя членом этой семьи, пусть подданным, но единокровным ее членом.
Вообще-то, в те славные самодержавные времена еще ощущалась некая аморфная, слабовыраженная, но искренняя, не надуманная семейная связь между Императорским домом и его чадами. Чада не только в светском смысле – «подданные», но и духовные дети. Наполеон как-то сказал Александру: «Вы одновременно император и Папа. Это очень удобно». Это было удобно, но это было и естественно. Связь пастыря и паствы ощущалась особенно в столице. Особенно с аристократией и высшим дворянством. Члены императорской фамилии были ещё одними «из них», первыми, но одними из… И чада их не чувствовали непреодолимой преграды между ними и Двором.
Именно поэтому Николай писал умирающему Пушкину: «Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки». И взял. Заплатил долги, очистил от долга заложенное Пушкиным отцовское имение, платил пенсии вдове и дочери до замужества, определил сыновей в пажи и выделил по 1500 рублей на воспитание каждого по вступлению на службу, приказал издать сочинения за казенный счет в пользу вдовы и детей, выдал вдове единовременно 10 000 рублей (десять тысяч). Потому что – Пушкин. Но и потому, что чада.
Именно поэтому мой дядя – брат моего отца, да и сам папа, наверное (он не любил на эту тему распространяться), играл, катался на санках с наследником престола – несчастным царевичем Алексеем в Царском селе, где мой дед – Александр Павлович – по условиям службы, будучи секретарем Комитета «Дома призрения инвалидов и увечных воинов», во главе которого стояла Императрица Александра Федоровна, имел казенный дом. Дядя даже был «игрушечным» адъютантом царевича, дружил с великими княжнами, особенно с Анастасией. Это – дружба с Наследником – было явлением естественным, никак не экстраординарным.
Именно поэтому после провала Сенатского дела многие бунтовщики с повинной головой шли в Зимний – без препятствий. Булатов также в полной парадной форме, при орденах и шпаге явился во дворец, доложился коменданту П. Я. Башутскому, отдал ему шпагу и беспрепятственно вошел в покои. Великий князь Михаил Павлович подошел: «Что вам угодно?» – с Булатовым он был на «ты», они дружествовали ещё с тех крестин, затем близко соприкасались по службе; уже в крепости Михаил навещал обреченного Булатова, они писали друг другу письма, – но в тот момент так – на «вы», любезно и холодно – Михаил обращался со всеми приходившими во дворец заговорщиками. «Имею нужду говорить с Государем!» – лицо Булатова было страшно, искривлено, будто неуклюже склеено из двух половинок. Навстречу вышел улыбающийся Николай Павлович: «Как, и ты здесь?!» – «Я преступник, вели арестовать, расстрелять…» Вдруг почувствовал, что Государь его обнимает, целует, благодарит, называет «товарищем», вспоминая совместную службу в гвардейской дивизии. (Так – с любезностью – Николай встречал многих явившихся заговорщиков, но их тотчас обыскивали, вязали веревками, набивали кандалы и отправляли в Петропавловку – у новоиспеченного царя была своя метода ведения следствия.) Булатова сия чаша – веревки и кандалы – миновала. Действительно, его с Романовыми связывали особые узы, хотя каземата он не избежал.
Именно поэтому – по ощущению родственной связи – двенадцатилетний Петр Второй со всеми тушил страшный пожар августа 1727 года в Петербурге, со слезами бросаясь в самые опасные места; помочь он ничем не мог, но и не мог не быть вместе с этими «своими чадами».
Именно поэтому Николай примчался из Петергофа во время пожара 8-го июня 1832 года, дабы утешать и успокаивать погорельцев (тогда сгорело 102 каменных и 66 деревянных домов). Это был не пиар, как принято говорить ныне на странном нерусском языке. (Пиар Николаю обеспечивали верные пиарщики – Бенкендорф, Дубельт, Орлов и все другие чины Жандармского отделения.) Это было побуждение, порыв, нравственный долг весьма даже ненравственного представителя рода Романовых.
Именно поэтому Государь Александр Второй вышел в тот первый воскресный день – 1-го марта 1881 года – из кареты к раненым: мастеровому мальчику и казаку конвоя. «Как вы, братцы?». Карету надо было гнать ко дворцу. Так поступил бы Ф. Ф. Трепов – это было прямой обязанностью градоначальника, сопровождавшего царя. Трепов не дал бы выйти из кареты Государю и приказал бы кучеру Любушкину хлестать коней сразу же, как раздался взрыв бомбы, брошенной Николаем Рысаковым по знаку Софьи Перовской. Александр же Елпидифорович Зуров, сменивший Трепова, оплошал: воспротивиться властному движению руки Александра не смог. Александр же не мог не по спешить к пострадавшим – «своим чадам». Это был естественный порыв. «Хорош!» – брезгливо бросил он в сторону Рысакова, подведенного к нему, и повернул к карете. В то время, как он уже отходил от раненых, Игнатий Гриневицкий, подойдя вплотную, бросил второй снаряд. Когда рассеялся дым, увидели лежащего в кроваво-слякотной жиже царя, без шинели – ее унесло взрывной волной, кругом валялись куски мяса, ноги были раздроблены, фактически оторваны; его успели перевезти во дворец, где Александр и скончался, не приходя в сознание.
…Представить, что безразмерный кортеж правителей другой России – Советской или нынешней, «новосоветской», останавливается, дабы не сбить замешкавшуюся старушку или подойти и помочь ребенку, попавшему под колеса черного лимузина, – невозможно. Да и представлять не надо. Не останавливались и не остановятся. Ибо уже не пастыри в этих кортежах-колесницах, а оккупанты: сначала – комиссары, затем – вертухаи. Прервалась связь времен. Тоненькая пуповина, соединявшая верхи и низы – вместе со связью времен.
…Что это было: возбуждение или торможение – Бог весть. Однако несомненно: импульсы, диктовавшие поступки, действия, мысли Александра Булатова были порой диаметрально противоположны. Поэтика вольнолюбия, горделивая осанка польского шляхтича, впитанная с молоком матери, и воспитанная в семье Карпинских – клане Лещинских, сталкивалась – «сшибалась» – с культом патриотизма, служения России, привитым в Кадетском корпусе, окружением и традиционной культурой отца – взглядами воина, выстраданными при Шевардино и Семеновских флешах, Люцене, штурме Парижа. Эта сшибка мечты – легенды о самостийной блестящей Польше – с идеалом единой и великой Родины, которой он служил с беспримерным героизмом, не была фатальной. Она лишь подготовила, взрыхлила почву для рокового срыва его психики.
Главная же – трагическая – «сшибка» заключалась в другом.
«Честь – Польза – Россия», – этими словами заключил свою записку К. Рылеев от 12 декабря, в которой сообщал Булатову об отречении Константина. Слова – пароль. Слова – смысл их жизни. Рылеев помнил и понимал своего старинного приятеля, с которым близко сошелся ещё в Корпусе; Рылеев был на два года младше своего товарища и во многом шел по его стопам. Он прекрасно знал, что значат эти слова для Булатова, – как и для него самого. Оба могли за них жизнь отдать. И отдали. Только прочитывали и толковали они их по-разному. Для Рылеева они имели одно-единственное наполнение и единственный способ их воплощения. Для Булатова понятия чести и долга перед Родиной были многомерны, неоднозначны, их толкования часто антагонистичны. Пути воплощения, естественно, разнонаправлены.
Здесь утра трудны и туманны,
И всё во льду, и всё молчит.
Но свет торжественный и бранный
В тревожном воздухе сквозит.
Но сердце знает: в доле знойной,
В далёком, новом бытии
Мы будем помнить, город стройный,
Виденья вещие твои
И нам светивший, в жизни бедной,
Как память ветхая слепцов,
В небесном дыме факел бледный
Над смутным берегом дворцов.
Апрель всегда был сырой, серый, теплый. Галки кричали на ещё голых ветвях влажных деревьев. Они осваивали подзаброшенные и промерзшие за зиму квартиры, выясняя, кто где жил. Великопостный благовест – три редких, гулких, протяжных истаивающих удара большого, но ме?ньшего – «седмичного» – колокола плыл над площадью. Следующие мерные колокольные удары распугивали птиц, россыпью покрывавших окрестные до рожки, лужайки, колонны и притвор Храма, тротуары Преображенской площади, цепи ограды, соединяющие 102 ствола поставленных дулом вниз трофейных турецких пушек, взятых в кампанию 1828–1829 годов в сражениях под Исмаилом, Варной, Силистрией и под Кулевчи. Нищие, убогие, инвалиды: безногие на колясках, обрубленные до тазобедренного сустава – на самодельных таратайках с шарикоподшипниками вместо колесиков – сидели рядами по обе стороны аллеи, ведущей от главных ворот к ступеням Храма. Им подавали. Иногда мелочь, но чаще – краюху хлеба, яблоко, горсть изюма, луковицу. Было тихо, покойно, благоговейно. «Спаси вас Господь».
Я стоял у аналоя при правом клиросе Собора. Образ Спас Нерукотворный, писанный Симоном Ушаковым, всматривался в меня, не отпускал, исповедовал. Этот Спас был с Петром при закладке Петербурга, был с ним при Полтаве, при кончине его и при отпевании его. Никогда не любил и не чтил Петра – Антихриста, но образ Спас Нерукотворный притягивал, отпугивал, озадачивал. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполни еси вся Спасе наш, пришедши спасти мир.
Почки набухали. Снег уже сошел, но трава ещё не пробилась. Дети облепили трофейные пушки, цепи. Ручьи устремились к люкам, бумажные кораблики суетились в водоворотах этих ручейков, крыши домов блистали, радуясь освобождению от серого снега, небо смутно отражалось в них. Ленинград просыпался. Мама доставала швейную машинку «Зингер» и начинала готовиться к летнему сезону. Здинь-гу-гу, дзинь-гу-гу…
А тут и шарахнуло. Вернее, шарахнуло чуть раньше – 18 марта и не в Питере, а в Москве. Но и Ленинград трясло. Трясло всю Страну Советов. Вдобавок ещё – всю Америку. Такого никогда не было и никогда не будет. Не может этого быть. Не может быть, чтобы толпы людей выстраивались (добровольно, в радостном возбуждении!) на улицах для встречи не космонавта, впервые полетевшего в космос, а молодого пианиста: так, в честь этого юноши на Бродвее устроили парад, на который вышли более 100 тысяч человек. День его победы в Америке назвали Днем Музыки – бывало ли такое досель в стране Рахманинова или Армстронга, Горовица или Пресли, Артура Рубинштейна или великой Эллы, Яши Хейфица или Стравинского?! Не может быть, чтобы президент великой страны – в данном случае, Дуайт Эйзенхауэр – отложил спешные дела, дабы лично поприветствовать того же пианиста, а лидер – диктатор другой великой державы – в данном случае, Никита Хрущев, – свое драгоценное время посвящал заботе о том, хорошо ли накормлен этот пианист («Он вел себя просто, как папа, пытался накормить: “А то ты, Ваня, слишком худой!“» – это пианист о Хрущеве). Имя досель неизвестного музыканта знала буквально вся страна, не случайно в фильмах последующих эпох, как узнаваемый знак того – давно ушедшего времени – показывали («Москва слезам не верит», «Пять вечеров») или упоминали («Операция “Ы” и другие приключения Шурика») Вана Клиберна. Если показали бы записи выступлений гениальных Гленна Гульда или Артура Рубинштейна, эта «метка» не сработала бы: страна (кроме профессионалов и меломанов) их не знала «в лицо», их игра ничего никому не говорила. Ванюшу обожали все. От главы государства до семнадцатилетней девочки. («Дорогой Ван! /…/ Впервые в жизни, хотя мне 17 лет, я плакала, слушая музыку. /…/ Вы открыли мне глаза, и я поняла, что жизнь – это прекрасно /…/ Я не могу больше писать. Спасибо, спасибо», – письмо хранится в архиве Дома-музея Чайковского в Клину.)
Известно, что Хрущев ринулся за кулисы после заключительного концерта конкурса 14 апреля и озадачил Клиберна вопросом: «Дрожжами, что ли, вас откармливают в Америке?!». Переводчику пришлось объяснять, что имеется в виду высокий рост пианиста, – Клиберн успокоился. С этой минуты Хрущев и Клиберн были накрепко повязаны искренней взаимной симпатией. На любом приеме Хрущев был рядом с Клиберном. На банкете в честь королевы Бельгии Елизаветы, прибывшей на третий тур конкурса, Хрущев обратился к пианисту: «Какой же ты высокий, Ваня!». Виктор Суходрев перевел. «Мой папа верит в пользу витаминов». – «Да, я тоже принимаю витамины», – немедленно прореагировал Хрущев. «И все рассмеялись. Он был хоть представительный, но не очень высокий. Потом мы начали общаться на музыкальные темы, и Никита Сергеевич очень удивил меня своими познаниями и тонким вкусом. В один из моих гастрольных приездов он даже пришел на мой концерт, и я специально для него исполнил Фантазию фа-минор Шопена». (Воспоминание Клиберна).
Старик Александр Борисович Гольденвейзер, пробираясь к выходу после выступления Клиберна, восклицал в некоем исступлении: «Молодой Рахманинов! Молодой Рахманинов!» – и был в данном случае абсолютно прав.
Короче – сумасшествие. На всех возрастных, социальных и профессиональных уровнях. От Г. Г. Нейгауза до безвестной колхозницы из-под Краснодара. «Ванюша, дорогой! Оставайтесь в Москве, в СССР! Неужели бы мы вас здесь меньше ценили, любили бы!?» (Эта записка хранилась в архиве Харви Лейвена (Вэна) Клайберна. Пианист ею очень дорожил!) Кстати, значительно позже, в 1999 году, когда Сергей Никитович Хрущев, преподававший в Брауновском Университете (США), назвал Клиберна правильно – Клайберн – тот замахал руками (в притворном, думаю, ужасе) и воскликнул: «Для русских я Ван Клиберн, всегда – Клиберн».
Тот памятный всем конкурс Чайковского был подобен первому весеннему месяцу. Было непонятно: ещё ночь или уже светает. Оказалось – полыхнуло. Полыхнуло и погасло.
Ко второй половине 50-х кремлевским сидельцам стало ясно, что дальше жить в абсолютной изоляции невозможно. Железную заслонку, конечно, демонтировать нельзя ни в коем случае: повешенные венгерские товарищи по партии наглядно показали это. Но и жить в абсолютной духоте тоже немыслимо. Людишки, особенно молодые, могли и самостоятельно задышать: всякие стиляги и прочая плесень демонстрировали тенденцию. Посему решили приоткрыть форточку. И начали делать это с размахом: не столько качественно, сколько количественно. Тем более что новый вождь удержу не знал. Всё и сразу: кукурузу – так от Поти до Норильска, Пятилетку – в три года, догнать Америку – в два прыжка, коммунизьм – извольте подать к 1980-му. Идеология – на все вкусы: Фестиваль молодежи и студентов (1957) – отдушина для широких молодежных масс; Первый Международный кинофестиваль (1959) – для столичных жителей разных возрастов; интеллигенцию решили накормить Чайковским, тем более, что антисоветских взглядов покойник не высказывал.
Подготовка шла с дальних подступов. Начали с 55 тысяч долгоиграющих дисков с десятками произведений классика; Житомирский, Ярустовский, Домбаев, Николаев, Раабен и многие другие, менее именитые и титулованные музыковеды, одарили нас трудами о жизни и творчестве жителя города Клина; Московская филармония анонсировала солидные циклы симфонических концертов с участием великих или почти великих Натана Рахлина и Константина Иванова, Бориса Хайкина и Евгения Светланова, Мстислава Ростроповича и Даниила Шафрана, Владимира Ашкенази и Евгения Малинина, Святослава Рихтера и Льва Оборина, etc. В Домах и Дворцах Культуры, в Больших и малых театрах, в клубах и на открытых площадках (кои по такому случаю расконсервировали на пару месяцев раньше срока) косяком пошли оперы, балеты, лекции-концерты, «сборники» и прочие увеселения с музыкой автора «Лебединого». Народ запел Чайковского. Всякие Брамсы и прочие Моцарты попрятались подальше от греха: коммунисты указали перстом на гения страны Советов, под ногами лучше было не мешаться – затопчут.
Надо отметить, распорядители бала не скупились. Впервые в мировой истории музыкальных ристалищ всё содержание участников конкурса во время пребывания на территории СССР взяло на себя правительство. Все победители (пианисты и скрипачи – по 8 лауреатов) получали премии в размере от 5 до 25 тысяч рублей. Это были большие деньги по тем временам. Правда, иноземцы не предполагали, что при выезде из страны их обдерут налогами и другими поборами, но это уже детали: иностранцам в принципе важен был престиж и мотивация для получения долгосрочных контрактов, а не деревянные.
Ванюша Клиберн за гонорарами, контрактами, призами и славой не гнался. Узнав о предстоящем конкурсе и по настоянию своего педагога Розины Левиной (которая, в свою очередь, прослышала о нем от ленинградца Павла Серебрякова – бывшего и будущего ректора нашей Консерватории, с которым пересеклась где-то в Южной Америке) начав к нему готовиться (занимаясь по 10 часов в день), никакими победными иллюзиями он себя не тешил. Постоянных контрактов он не имел, хотя уже был победителем престижнейшего конкурса им. Левентритта, импресарио о нем забыли, карьера концертирующего пианиста казалась все сомнительнее. Идея ехать в Москву привлекла его именно туристической мотивацией, плюс настоятельные советы и Левиной, и Александра Грейнера – импресарио фирмы «Стейнвей», на роялях которой Клиберн играл. Реклама (не пианиста, а фортепианной фирмы) – великая сила! Левина выбила для своего ученика именную стипендию в Рокфеллеровском фонде, и он поехал. В Москву. Посмотреть на Красную площадь.
«Мое первое “воспоминание” о Москве появилось в детстве. Родители подарили мне иллюстрированную “Всемирную историю”, и я увидел фотографии Кремля и собор Василия Блаженного». – «И вы использовали конкурс Чайковского для того, чтобы сходить на Красную площадь?» – «Да, я так и собирался поступить». Клиберн, при всей своей наивности, переходящей в инфантилизм (именно благодаря этим качествам он стал любимцем советских людей), четко знал, что ничего особенного на конкурсе ему не светит. Пройти далее первого тура он не рассчитывал. «Я прекрасно понимал, что у американца в Советском Союзе шансы на победу сведены к нулю (прекрасная репутация у страны!), и конкурс организовывается, чтобы доказать превосходство советской исполнительской школы (так оно, собственно, и было!)». Поэтому, прибыв в Москву на самолете ТУ-104 (что его восхитило, как ребенка: в Штатах реактивных пассажирских самолетов тогда не было), он первым делом попросил «милую женщину» из Министерства культуры, встречавшую пианиста, отвезти его на Красную площадь к собору Василия Блаженного. «Когда я оказался на Красной площади, я почувствовал, что у меня вот-вот остановится сердце от волнения. Главная цель моего путешествия была уже достигнута».
Выступление Клиберна на конкурсе обросло легендами. Так, устоялось, что триумф начался уже на первом туре (Клиберн не открывал тур, как принято считать, а играл пятнадцатым): «Большой зал устроил овацию на несколько минут и скандировал: “Первая премия”. Жюри конкурса и все его члены аплодировали стоя». Не знаю, не присутствовал. Однако знаю другое: во второй тур Клиберн вошел в первой тройке (вместе с великолепным Лю Ши-Кунем) и был очевидным, но не безусловным фаворитом – «одним из». (У него были высокие баллы: максимальный бал вывел ему С. Рихтер – 25, Гилельс и Кабалевский – по 24.) Однако в первом туре не играли, по условиям конкурса, золотые победители других международных соревнований, так что во второй тур влились уже хорошо известные Лев Власенко, Алексей Скавронский, Роже Бутри (Франция), Наум Штаркман, Даниэл Поллак и Жером Ловенталь (оба – США).
Надо сказать, что первые четыре-пять конкурсов Чайковского имели максимально безупречную профессиональную репутацию. На него пытались пробиться лучшие музыканты «новой волны». Жюри было самой высокой пробы. Четыре раза его возглавлял великий пианист XX века Эмиль Гилельс. В состав жюри первого конкурса – «клиберновского» – входили такие гиганты, как сэр Артур Блисс (Англия), Камарго Гуарниэри (Бразилия), Маргарита Лонг (не только выдающаяся пианистка, но и основатель и патронесса одного из двух самых престижных конкурсов мира – имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже), Карло Цекки (Италия), Жозе Сикейра-Коста (Португалия), Панчо Владигеров (Болгария) и другие – цвет музыкально-исполнительского искусства XX века. И, конечно, отечественные гиганты: С. Рихтер (это была его единственная попытка быть участником «судейской коллегии»), Л. Оборин, Г. Нейгауз и другие. При всей именитости членов жюри, разброс мнений (особенно у наших соотечественников!) был феноменальный. Это касалось оценок советских исполнителей: здесь работали критерии личных пристрастий и межклановых противостояний отечественных школ, которые представляли «наши» судьи. Так, превосходный ленинградский пианист Александр Ихарев – ученик Моисея Яковлевича Хальфина – получил у Гилельса, Оборина и Кабалевского очень высокие 23 балла, Рихтер же поставил 19, Нейгауз – единицу (!). Если оценки радикального Рихтера были объяснимы его активными симпатиями к некоторым исполнителям, прежде всего, к Клиберну, и – за ним – к Лю Ши-Куню – уникальному китайскому музыканту – и, соответственно, отторжением всех иных, то демонстрация Генриха Нейгауза поразила абсолютно всех – здесь было нечто внемузыкальное, личное, возможно, мстительное. (Вообще-то по нормам тогдашнего существования само вхождение ленинградского пианиста в финал такого конкурса, тем более, во второй тур, можно было считать чудом. Тем знаменательнее и сенсационнее оказался Третий конкурс им. Чайковского!) Во втором туре блистательно выступил Лев Власенко, покорив аудиторию и жюри си-минорной сонатой Листа. Всеобщим любимцем стал Лю Ши-Кунь, получивший у скупого на оценки, обособленного и непредсказуемого Рихтера аж 24 балла (Рихтер в те дни был влюблен в игру Клиберна, однако вскоре повальное преклонение перед юным американцем стало приводить его в ревнивое бешенство), у Оборина и Кабалевского – 23. К последнему решающему туру Клиберн подошел третьим номером: первым был Власенко с 411 баллами (средний бал – 24, 18) – бесспорный лидер гонки, вторым – Лю Ши-Кунь с 404 баллами (23, 75) и Ван Клиберн – 393 (23, 12), столько же – у Наума Штаркмана. А затем был третий тур, на котором произошло то, что произошло.
Это было потрясением. На предыдущих этапах никому не известный американец, действительно, покорял, очаровывал массовую аудиторию – знающую, профессионально слышащую, придирчиво оценивающую и опытную, воспитанную на высочайших эталонах русского исполнительства XX века – Рихтера и Оборина, Флиера и Гилельса, великих Юдиной и Софроницкого – не только и не столько своим мастерством, хотя это мастерство было самого высокого уровня, и не столько бесспорным и ярким, свежим дарованием, но и – в большей степени «и» – своим застенчивым обаянием, тем, что называется ныне харизмой, неожиданной и не ожидаемой от американца открытостью, деликатностью, простотой. В финале же был шок. Клиберн играл гениально.
Николай Петров – выдающийся пианист и музыкант, первый, кстати, победитель Первого конкурса им. Вана Клиберна в Форт-Уэрте; конкурса, учрежденного Клиберном и входящим в первую пятерку самых престижных конкурсов мира, – как-то сказал: «Пианист и музыкант – совершенно разные понятия». По этому поводу корреспондент однажды спросил Клиберна: «О вас часто говорят, что вы – превосходный пианист. Стали ли вы гениальным музыкантом?» – «Я, – ответил пианист, – был гениальным только в течение получаса один раз в жизни – на конкурсе Чайковского в 1958 году. В тот момент я реально ощутил: на меня снизошло Господне вдохновение. Я играл так, как не играл больше никогда в жизни». Это – не фигура речи. Клиберн – глубоко верующий христианин (он был баптист) – изрек истину.
Лев Власенко – не только превосходный музыкант, чью заслуженную мировую славу неумышленно оттеснил Клиберн, но и умный человек – впоследствии писал: «В то время мы в СССР были в стилистическом отношении очень строги, и эта строгость приводила к пуризму. И тут появился Клиберн; он играл свободно, с широкой фразой, в манере bel canto, характерной для старой русской школы. /…/ Шестифутовый долговязый мальчик, открытый, с романтической манерой игры поразил публику, – аудитория была с ним». Здесь всё точно: и «мальчик», и манера «старой русской школы», и «пуризм» отечественной – советской «методы» преподавания и исполнения «классики»: «шаг влево – шаг вправо…» И потребность аудитории – всех нас – быть с ним. Но не только аудитории, но и – главное – профессионалов из жюри, члены которого забыли о своих клановых интересах, патриотическом долге – все советские судьи безоговорочно отдали «золото» этому долговязому шестифутовому парню.
Впрочем, Клиберн был прав. Конкурс был организован, чтобы показать превосходство советской школы. Посему в верхах началась легкая паника. Первым встрепенулся Сергей Васильевич Кафтанов, по профессии химик-технолог, в то время являвшийся заместителем Министра культуры СССР. В своей реляции он сигнализировал, что «вокруг выступлений Вана Клиберна создается нездоровый ажиотаж» (а как же иначе: здорового ажиотажа в стране Советов быть не могло, только нездоровый – будь то появление на публике А. А. Ахматовой, приезд в страну Голды Меир, публикация первой повести Солженицына или игра техасского парня). Однако главным образом Сергей Васильевич справедливо обратил внимание руководства на «неверное настроение среди некоторой части музыкальной общественности о якобы возможной необъективности в оценке его (Клиберна) творчества». Докладная легла на стол к Фурцевой. Она знала, что тов. Суслов категорически против премий американцам – это было для него /Суслова/ идеологическим поражением. Поэтому она помчалась к Хрущеву, чтобы настроить его соответствующим образом, опередив Суслова. (Прямо «Семнадцать мгновений весны»!) Успела. Настроила. «Школа у него советская (!). Клиберн учился у профессора Левиной (!)». Здесь все замечательно. И то, что судьба лауреата конкурса решалась на уровне Главы государства – представить, что, скажем, де Голль вмешивается в распределение премий конкурса им. М. Лонг и Ж. Тибо или королева Бельгии Елизавета определяет итоги конкурса ее – королевы Елизаветы – имени – представить это немыслимо.
(Здесь маленькое отступление.
Как поразительно меняется со временем наша реакция на идентичные события. То, что раньше раздражало и возмущало, теперь вызывает умиление. Разве не умилительно, что наше родное Советское правительство, ЦК, Министерство культуры назначали победителей Международных конкурсов. Так, в 1964 году победителем конкурса имени Королевы Елизаветы в Брюсселе был назначен Николай Петров – пианист, действительно, великолепный; музыкант, заслуженно занявший самое почетное место в истории мирового исполнительства XX века. То, что жюри конкурса может решить иначе, не предполагалось. Однако случилось непредвиденное: победил другой! Неожиданно для всех, прежде всего для самого пианиста-победителя, для его учителя – Якова Зака – и для Советского правительства первое место занял также советский пианист, но другой, не назначенный – 18-летний Евгений Могилевский, который, не ожидая ничего примечательного в своей судьбе, перед выступлением играл в настольный теннис. Николай Петров стал вторым. В Москве обиделись! Екатерина Фурцева, обманутая в своих лучших надеждах, с обидой – на кого? – говорила родителям Могилевского: «Встречайте сами»; тогда было принято победителей конкурсов, особенно такого – самого именитого и престижного в мире – встречать «от имени правительства и народа» с цветами и даже с музыкой. «Встречайте своей семьей, мы не будем!» Естественная бабская обида. Как жюри, всякие Артуры Рубинштейны могли ослушаться, главное, не понять женского сердца?! Милый, что тебе я сделала… Не трогательно ли!
Теперь всем на все наплевать.)
Короче, во всех этих перипетиях победы американца всё замечательно. И присвоение «советского гражданства» Розине Левиной, покинувшей вместе с мужем – блистательным мировым виртуозом Иосифом Левиным – Россию задолго до революции (в 1909 году) и никогда при большевиках в страну не возвращавшейся. И то, что Хрущев на этот манок клюнул – историю отечественного исполнительства на кафедре Льва Ароновича Баренбойма он не изучал. Или сделал вид, что клюнул. Не прост был Никита, не прост. Быстро сообразил, какие дивиденды можно наварить на объективной оценке американца в СССР. И наварил: от такой неожиданности мир обомлел. За Клиберна его не только возлюбили по обе стороны океана, но даже стали делать вид, что забыли Венгрию там и простили чудачества здесь (до позора с Нобелевкой Пастернака было ещё полгода). Мир увидел, что у советского лидера может быть «человеческое лицо» (пусть не освещенное светом мудрости и не слишком интеллигентное), а страна может постепенно утратить статус концлагеря с лучшим в мире балетом. Одна фраза – и ситуация изменилась: «Если он лучший, премию надо давать ему!» – цитируют лидера современники. (Или, как запомнил Клиберн: «Победителем конкурса имени Чайковского должен стать американец Ван Клиберн! Искусство свободно от предрассудков!») Далее – известно. Толпы рыдающих поклонниц в Москве и Ленинграде; кортеж открытых лимузинов, плывущих по Бродвею; стотысячная толпа, дождь из белых листков бумаги, серпантина, цветов, шариков; обеды с президентами – в Америке; кустик сирени, выкопанный пианистом на могиле Чайковского в Ленинграде и пересаженный на могилу Рахманинова на Кладбище Кенсико, округ Уэстчестер в штате Нью-Йорк; гигантские очереди с ночными перекличками в билетные кассы филармонических залов Москвы и Питера; «Подмосковные вечера»; ежедневные доклады американского посольства в Вашингтон о ходе конкурса (случай неслыханный, так обычно сообщали о ходе военных действий); изумленные, восхищенные, часто влажные глаза профессуры столичных консерваторий: «Гений, Рахманинов, Ванюша»; моментально вышедшие и расхватанные, как горячие пирожки в морозный день, монографии: С. М. Хентовой «Ван Клиберн» (она, тогда работавшая на кафедре Л. Баренбойма, была расторопным и талантливым журналистом; у нас она вела методику, но не сумела, все же, отворотить меня от фортепианной педагогики: влияние С. Савшинского и его коллег оказалось сильнее) и перевод книги А. Чейсинса и В. Стайлза «Легенда о Вэне Клайберне». Примерно в это же время страну посетили выдающиеся пианисты – среди них Байрон Джейнис и Гленн Гульд, Малькольм Фрагер и Анни Фишер, Никита Магалов и Хосе Итурби; гиганты – Артуро Бенедетти Микеланджели и Артур Рубинштейн, – однако ни о ком из них монографии тогда не появлялись…И всеобщая любовь.
Это был беспрецедентный триумф, шок у профессионалов и помешательство самых широких слушательских (и неслушательских) масс. Нечто подобное случилось в нашей истории только однажды – в девятнадцатом веке во время первых гастролей Ференца Листа в России (1841 год).
Здесь совпало все. Бесспорно, незаурядный пианистический талант, редкая музыкальность особо открытого эмоционального, чувственного толка. Школа. Первым педагогом была его мать, которая заложила мощный, классически выверенный фундамент его пианизма. Когда Хосе Итурби услышал мальчика, он посоветовал как можно дольше не менять педагога. Ещё бы: мадам Рильдия Клайберн была ученицей великолепного пианиста Артура Фридхайма, уроженца Санкт-Петербурга, ученика – недолгое время – Антона Рубинштейна, а затем – Ференца Листа. Причем в невероятном по своему блеску созвездии птенцов Веймарского маэстро он занимал одно из самых видных мест. Пианистическое мастерство, чувство стиля, строгий вкус, вдумчивость интерпретаций, немецкая педантичность с привитыми романтическими принципами своего учителя, фанатичность в работе – все это делало его репутацию непоколебимой, и эти качества в той или иной степени пунктуальная и дотошная Рильдия старалась передать своему сыну. Затем – школа Розины Левиной.
Если русские влияния в линии Фридхайм – Рильдия были весьма опосредованы, хотя культ Рахманинова царил в доме, то традиции русской школы у Левиной были явственны и бесспорны. Сама Розина Бесси-Левина закончила Московскую консерваторию по классу Василия Сафронова – патриарха московской исполнительской культуры. Среда, в которой она росла и воспитывалась – это среда ее соучеников по классу Сафронова: Александра Скрябина, Николая Метнера, Александра Гедике, Иосифа Левина, Леонида Николаева, Александра Гречанинова, сестер Гнесиных и многих других, без кого русская музыкальная культура России и зарубежья немыслима. И, конечно, среда кумира Москвы – Сергея Рахманинова. Считается, что одно из последних выступлений Рахманинова в городке Шривпорте, где жили Клайберны, оставило неизгладимый след в сознании Клиберна. Однако на концерт своего кумира Ваня не попал, так как заболел ветрянкой. Так или иначе, но и сама Левина (превосходный педагог, давшая Эдуарда Ауэра, Джеймса Ливайна, Мишу Дихтера, Гаррика Олссона, Урсулу Оппенс и других звезд классической музыки; блистательная пианистка, прославившаяся в дуэте – одном из первых и лучших в мировой истории – со своим мужем Иосифом Левиным), и коллекция пластинок с записями игры великого музыканта, которой Клиберн гордился, и атмосфера преклонения перед русской музыкой и школой – все это и впрямь делало Вана Клиберна «родным» для советских слушателей. Фурцева с Кафтановым не очень грешили против истины, причисляя пианиста к русской (но не советской – не худшей или лучшей, но другой) школе. Он явился как «свой»: исполняющий лучше всего русскую музыку – Рахманинова и Чайковского, играющий в «старорусской» – эмоциональной, открытой, свободной манере – манере молодого Рахманинова, ученик музыканта из России, он, влюбленный в русскую культуру, даже с русским лидером сроднившийся своей наивностью, восторженностью, импульсивностью. «Молодой Рахманинов!» – прав Гольденвейзер и многие другие «старики», слышавшие и помнившие великого соотечественника. Импровизационность интонирования, рельефная, естественная широкая фразировка, предельная мощь звучания рояля, сочетающаяся с бархатной теплотой и бережной нежностью звука, наивность и детскость прочтения лирических фрагментов, особенно в концертах Рахманинова, объемное дыхание, чеканность и, вместе с тем, непривычная для нас свобода и гибкость ритма – «на грани», рахманиновская неумолимость «скока» разработочных частей, с демонизмом завораживающего крещендо и стретто – то есть «сжатием» во времени – музыкальной ткани – всё это, вплоть до длинных пальцев, было, действительно, рахманиновское. И – все же – это был не слепок с ку мира, это был Клиберн, несущий свои родовые черты, но – самобытный и оригинальный художник. Рыцарственный суровый «застегнутый» облик неулыбчивого Рахманинова, с короткой стрижкой «ежиком» (почему-то ассоциация: разработка первой части Третьего концерта в его исполнении – Воланд со свитой на волшебных черных конях в тишине и в ночи в мерной неумолимой скачке) у американца озарился открытой доверчивой улыбкой наивного юноши с копной вьющихся (завитых?) волос, царапающей если не небеса, то потолок…
Всё это поразило и заставило говорить о гениальности Клиберна. Он и впрямь был гениален. И не только тридцать минут на последнем туре конкурса. Вся его первая встреча с Россией в 1958 году была освещена этой его гениальностью и нашей потребностью в этой гениальности, ее ожиданием, ее востребованностью.
Второй его приезд породил ожидания бо?льшие, нежели градус окончательных восторгов, хотя ажиотаж – здоровый! – был. Дальнейшие встречи, скорее, разочаровывали. Хотя эти разочарования были ожидаемы и предсказуемы. Просто мы тогда этого не понимали. Опять аналогия – единственная – с XIX веком.
Первый приезд Листа в Россию (точнее, в Петербург – 1841 год) – сумасшествие, обмороки, объятия и клятвы в любви друг к другу и к Листу – и не только среди «модных барышень, которых переполошил Лист» (М. И. Глинка), но и в изысканных салонах Виельгорских, Растопчиной или Одоевского, при Дворе и в среде профессиональных музыкантов; в игру и в личность гениального гостя столицы были влюблены все: от самого? скептика Глинки до Великой княгини Елены Павловны, от Шевырева и Погодина до Нестора Кукольника и Осипа Сенковского, от Стасова и Серова до подписчиков «Северной пчелы» Ф. Булгарина, от Гензельта, Брюлова, Варламова до Нащекина, В. Соллогуба или А. Булгакова, от Федора Глинки и А. Тургенева до Герцена. (В отличие от Хрущева, Николай пианиста невзлюбил: длинные волосы Листа не давали покоя монарху, плюс венгерская национальность настораживала, да и держался этот заезжий музыкант не совсем почтительно, дерзил.) В 1843 году проницательный Федор Алексеевич Кони – отец известного юриста, проживавшего на Фурштадской, – в издаваемой им «Литературной газете» писал по итогам второго приезда Листа в Петербург: «Мы не посоветовали бы г-ну Листу вновь приезжать в нашу столицу…» Залы были если и не полупусты, то и не забиты полностью. Ажиотаж сменился отрезвлением, а затем разочарованием и отторжением. Маятник отнесло в противоположную сторону.
В последующие приезды Клиберна в СССР отторжения не было. Слишком разные причины и особенности регулировали восприятие этих двух совершенно несхожих явлений XIX и XX веков. Залы Москвы и Ленинграда были полны. Аплодисменты продолжительны. Рецензии благожелательные, хотя и с оттенком некоторого недоумения. Букеты цветов, улыбки. Чуда же не происходило.
Он не стал играть хуже. В чем-то даже лучше, совершеннее, мужественнее; репертуар разнообразился, техника усовершенствовалась. Но это был не Ван Клиберн. То ошеломляющее своей открытостью и мощью «искусство переживания» модифицировалось в «искусство представления переживания». Блистательный московский рецензент и вдумчивый оригинальный музыковед Давид Абрамович Рабинович сформулировал точно: «Вэн Клайберн играл Вана Клиберна». Даже самая мастерская копия не может нести аромат подлинника. Клиберн по сути не изменился, он законсервировался. Этот «консерв» был самого высокого качества, но со «свежим продуктом» не сравним.
И ещё. Клиберн не изменился. Изменились мы. Очень быстро возмужали, стали не лучше и не хуже, но – другие. Жизнь заставляла. Приобрели ли мудрость – неизвестно, но наивность потеряли, это точно. Однако, потеряв, не стали ее стимулировать, симулировать, консервировать. Скорее, наоборот – нас занесло в противоположную сторону. То уникальное мимолетное стечение различных факторов, которые при столкновении – соприкосновении – взаимодействии высекли искру чуда – «Господне вдохновение» – это стечение в силу своей молниеносности исчезло, растворилось, и с ним невозвратимо ушло в небытие «Господне вдохновение». – Было ли?
…Тогда совпало всё. Клиберн оказался в нужный момент и в нужном месте – в стране, переживавшей невиданный за всю историю бескровный переворот бытия и сознания, социокультурный сдвиг, принесший свежий «воздух для жизни» (Наум Коржавин в 1973 году, эмигрируя, объяснил причину отъезда «нехваткой воздуха для жизни» – тогда, к 73-му, этот воздух давно выветрился), создавший новую атмосферу – иллюзорную – ожиданий – наивных, но пьяняще-радостных; сдвиг, выявивший сообщество – не великое, но все расширяющееся – раскрепощенных личностей, вырывающихся из пут обыденности и пуризма, устремленных в дали романтизма и романтики – бытовой и нашей – профессионально – музыкальной, исполнительской. Клиберн, по абсолютной случайности, по велению, возможно, Свыше оказался в этой единственно необходимой ему атмосфере и нежданно-негаданно стал олицетворением, воплощением и символом наших надежд и устремлений. От детской солнечной улыбки до прикосновения пальцев к клавишам – первых звуков тихой, трепетной и трогательной темы Третьего концерта Рахманинова. Незабываемые звуки весны 1958 года.
Что творилось в Ленинграде… Впрочем, то же, что и в Москве. Милиционеры на лоснящихся стройных длинноногих лошадях, юркие безликие люди с билетами на концерт по десятикратной цене, седовласые профессора Консерватории, проталкивающиеся сквозь плотную массу возбужденных людей, правители города и торговые работники в первых рядах и ложах, толпа на улице: проезд по Бродского перекрыли, услышать Клиберна эти люди не могли, но пытались хоть увидеть во время его прохода из служебного входа Филармонии в гостиницу «Европейская» после концерта, хотя когда он закончится, неизвестно – Ванюша на бисы был щедр…
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Сергей же Васильевич Кафтанов с культуры, а затем радиовещания и телевиденья (этот Комитет он возглавил уже после культуры) был перекинут на профессиональную стезю: возглавил Московский химико-технологический институт (МХТИ). Это у него хорошо получалось. Как у Аркадия Аполлоновича Семплеярова, помните? – «Едят теперь москвичи соленые рыжики и маринованные белые и не нахвалятся ими и до чрезвычайности радуются этой переброске. Дело прошлое, но не клеились у Аркадия Аполлоновича дела с акустикой…».
Красноармеец, в каждую хату неси книги госиздата!
Это была пора, названная по имени трудно читаемой и справедливо забытой повести Ильи Эренбурга. Кто-то, кажется, Ст. Рассадин справедливо сравнил эту оттепель – лет 5–7 – с переходом (под конвоем!) декабристов из острога в Чите до острога в Петровском Заводе. Весеннее цветущее Забайкалье, ласковое солнце, пьянящее буйство ароматов, звуков, красок молниеносной весны: радужный ковер цветов, бирюзовый перелив молодой травы, уютное жужжанье шмелей, пересвист птиц, суета белок на кедровых ветвях; можно было присесть: конвой – тоже люди, отдохнуть, вздохнуть полной грудью, подставить лицо под лучи солнца… Иллюзия свободы. И дальше. Из камеры в камеру. Из клетки в клетку.
Этот переход из тюрьмы в тюрьму мы проделали и с шестифутовым парнем из Техаса. И он – не только, далеко не только он – был с нами. Помимо всего прочего, именно он – и только он – побудил нас иначе смотреть на американца как такового. Оказалось, что американец – это не только и не столько крючконосый дядя в нелепом для XX века цилиндре и в звездно-полосатом жилете с бомбочкой в руке и не Олешевский толстяк на мешке с деньгами в том же жилете и в том же цилиндре (с воображением у Кукрыниксов была напряженка). Оказалось, что американец – и Ванюша Клиберн. Все это заставляло задумываться. Так что влияние лауреата Первого конкурса Чайковского лежало не только в музыкально-исполнительской плоскости.
Ленинград хорошел. Исчезали руины. Пустили метро. В пятом классе двух девочек-отличниц и почему-то меня класс выбрал для экскурсионной поездки в метро. Это была большая честь. Народу набилось уйма, и все восхищались, как в музее. В Эрмитаже тоже восхищались, но и негодовали: открылась выставка Пикассо. На стене лестницы, ведущей к экспозиции, установили щит, на котором можно было оставить свой письменный отзыв. Были восторженные. Один запомнился. На листке из ученической тетради в клеточку детским почерком было выведено: «Если бы я был жив, я бы запретил. И. Сталин».
14 мая 1957 года на Кировском стадионе случилось самое большое побоище – бунт, который был в нашем городе на моей памяти. Народ был озлоблен вне-футбольными делами: по просьбе трудящихся вышло печально знаменитое постановление ЦК КПСС и Совмина «О государственных займах…», которое откладывало погашение и выплату выигрышей по «добровольно-принудительным» займам на 20 лет. Плюс «Зенит» проиграл «Торпедо» со счетом 1:5. Перед самым финальным свистком на поле вышел нетрезвый человек – милиция проморгала, снял пиджак, вытолкал из ворот «Зенита» вратаря Фарыкина и встал на его место. Милиция опомнилась, скрутила доброхота, разбив в кровь ему лицо, прозвучал свисток. Тут начался бунт. Несколько сот человек выбежали на поле и стали избивать милиционеров. Стоявшие в оцеплении курсанты военно-медицинского училища имени Щорса, размахивая ремнями с металлическими пряжками, поспешили на помощь милиции. На стадионе было около 100 000 человек. Не все сто тысяч кинулись на поле, многие свистели и улюлюкали, наслаждаясь зрелищем избиения милиции, но все равно побоище вышло массовое и кровавое. Футболистам и многим милиционерам удалось скрыться в туннеле под трибунами, успев закрыть за собой ворота. Затем они были эвакуированы. Толпа, вооруженная лопатами, граблями, ломами, с криками «Бей милицию», «Бей футболистов» ринулась на штурм административных зданий. Опрокидывали автомобили, «Скорую помощь», пытавшуюся вывезти тяжело раненых, затолкали обратно на стадион. Крови было много. Торпедовец Эдуард Стрельцов, много повидавший в жизни – и вольной, и за колючей проволокой, называл этот день 14 мая самым страшным днем в своей жизни. Дмитрий Шостакович как-то сказал, что «в нашей стране стадион – единственное место, где человек может говорить правду о том, что видит». 14 мая наговорились. Кто на 10 лет, кто – на 8, кто – на 6. Прибывшие к вечеру курсанты двух военных училищ, оперполк милиции, солдаты внутренних войск хватали всех «ораторов» и молчунов без разбора, потом началась зачистка Приморского Парка Победы. Говорят, что «воронков» не хватало. Менты ловили такси и туда набивали арестованных. Нигде никогда об этом побоище не сообщали. Как будто его не было.
Так что культурная жизнь Питера кипела. В тот же вечер, 14 мая 1957 года, при полупустом зале (Большом) Ленинградской филармонии давал свой первый концерт в нашем городе Гленн Гульд. Через день на его второй концерт к Малому залу той же Филармонии были подтянуты отдохнувшие после бойни на стадионе силы милиции, чтобы удержать толпы ленинградцев, рвущихся на концерт этого пианиста.
В том же году Товстоногов поставил «Идиота», Акимов же в 1956 году ограничился «Обыкновенным чудом». Мудрый Вивьен наблюдал за соперничеством двух полярных титанов и, не торопясь, ставил свои шедевры – «На дне» и «Бег». Мы с упоением слушали песни Булата Окуджавы. Ленточный магнитофон моего дружка-одноклассника – единственный в нашей компании – хрипел, шипел, лента рвалась, но влюбленность в мудрого, доброго, очаровательного человека, в эту совершенно необычную личность, чудного поэта и великолепного, как оказалось позже, прозаика, осталась на всю жизнь.
На Марсовом поле зажгли первый в стране «Вечный огонь». Тогда это было событие, которое что-то значило для того – нашего – поколения. К тому же вышел фильм Калатозова «Летят журавли». Потрясение. Тогда плакать ещё не разучились. Параллельно с «Вечным огнем» убирали со всех постов Г. К. Жукова. «За авантюризм», «бонапартизм», «утрату партийной совести» и что-то ещё. На воду спустили первый атомный ледокол «Ленин». Увлекаясь, как и все мои сверстники, военной историей России – ее победами и поражениями, войнами великими и малыми, я вдруг осознал, что с Соединёнными Штатами Россия НИКОГДА не воевала. С Англией – да, с Францией – неоднократно, с Германией, Польшей, Турцией, Украиной, Швецией, Японией, Грузией, Литвой, Ираном и пр. – не счесть. Даже с Финляндией умудрилась. Россия – бойкая страна. Со своим народом – всю историю! С Америкой – никогда. Часто говорили, что «Второй фронт – исключение». Со временем я стал понимать, что это, в лучшем случае, искажение истины. «Второй фронт» – закономерное продолжение и завершение столетней практики взаимоотношений двух стран. Читая где-то в десятом классе книгу об истории Войны за независимость, обнаружил: когда Георг III запросил Екатерину II о помощи в подавлении восстания в своих американских колониях, то получил отказ. Дальше – больше. Весь XIX век геополитические интересы САСШ и России совпадали. Доминантой были антианглийские настроения и действия обеих сторон. Николай Первый (точнее – по приказу Императора мой сосед гр. Клейнмихель) привлекал, в частности, американских специалистов при постройке железной дороги СПб – Москва, а также при проведении первых телеграфных линий. Особую помощь САСШ оказали в перевооружении русской армии после очередной Крымской катастрофы, на сей раз в 1853–56 гг. Во времена Александра III возникли и усилились противоречия (особенно заметна критика со стороны САСШ российской политики в еврейском вопросе), но принципиальное сотрудничество оставалось неизменным. И в XX веке САСШ практически во всех соприкасающихся проблемах были союзниками России. Достаточно вспомнить хотя бы Портсмутский мир 1905 года. Условия этого мирного договора под давлением Теодора Рузвельта были для российской стороны не так плохи, как хотелось бы японцам, что вызвало известные массовые беспорядки в Стране Восходящего солнца. Николай Второй был настолько поражен подписанными Витте условиями мира – это после позорного разгрома! – что назначил очень нелюбимого политика Премьер-министром. Конечно, Теодор Рузвельт преследовал свои цели, играл в свои игры, превосходным мастером которых был, это несомненно. Долгое время он оказывал Японии огромную финансовую поддержку и вообще до поры до времени поддерживал возрастающее влияние Японии в противовес России, однако по мере усиления Японии он виртуозно сменил вектор восточной политики: чрезмерное усиление Японии в Тихоокеанском регионе не входило в его планы. И в Первую Мировую войну Россия и САСШ были союзниками.
Все это я узнавал постепенно в юном возрасте. Это не было запретной темой: «два хищника – царская Россия и американский империализм» не могли не быть союзниками, тем более, что территориальные споры или европейские проблемы между ними не стояли. Значительно позже я стал докапываться до других аспектов этих отношений в XX веке, о которых было принято умалчивать.
После переворота 17-го года САСШ предали Россию. Их смехотворный Экспедиционный корпус – сродни убогим санкциям во время оккупации (…) и, особенно, – аннексии (…) в XXI веке. Однако после 18-го года были две страницы: одна, заслуживающая восхищения, другая, на мой взгляд, позорная, но обе они работают на идею о тесном ТРАДИЦИОННОМ сотрудничестве двух стран.
Первая – это деятельность ARA и Герберта Гувера по оказанию помощи голодающим Сов. России. Голод охватил 35 губерний с населением в 90 миллионов человек. Голодало около 40 миллионов. ARA и Губерту, несмотря на противодействие Ленина, удалось добиться подписания соглашения о помощи. Не вдаваясь в подробности: к февралю 22-го года ARA и подконтрольные ей организации вложили в помощь голодающим 42 миллиона долларов. Правительство Сов. России – 12 миллионов 200 тысяч долларов; организации, подконтрольные Ф. Нансену – около 4 млн. Уже в мае того же года ARA кормила (по советской методике подсчета!!) 6 млн. 99 тыс. человек, «Квакеры» (Религиозное об-во Друзей) – 265 тыс., «Save the Children Alliance» – 259 тыс., Нансеновский комитет – 138 тыс. и т. д. Летом того же года ARA кормила 11 миллионов человек, другие международные организации – 3 млн. Кроме этого ARA поставила на 8 млн. медикаментов и снабдила в 22-м и 23-х годах Россию посевным зерном. Помимо этого сам Губерт (и люди его круга по его настоянию) пожертвовал из своих личных сбережений средства, спасшие жизни 9 миллионам человек. Как писал Горький в письме к будущему Президенту США: «Ваша помощь будет вписана в историю как уникальное гигантское свершение, достойное величайшей славы, и надолго останется в памяти русских /…/ которых Вы спасли от смерти»… Как бы не так. Благодарности к сытой и добродушной Америке остаться не могло по определению. Осталась ненависть. Это понятно. У нас любовь возникает только к ещё большим голодранцам, нежели мы.
…Так или иначе, но голод в России 1921–22 годов (если не считать потери во время войн) был крупнейшей гуманитарной катастрофой со времен Средневековья.
Мужскую силу – на помощь женщине!
…Вторая страница – на мой взгляд, постыдная – сотрудничество 30-х годов. Если помощь во время голода была абсолютно бескорыстна и, фактически, лишена политической составляющей, то вторая базировалась на известном постулате императора Веспасиана: «Деньги не пахнут». Прекрасно понимая, что из себя представляет Сов. Россия, равно, как и нацистская Германия, Штаты не побрезговали сделать хорошие деньги, тем самым помогая встать на ноги сталинскому монстру. Не случайно тов. Сталин И. В. в классической работе «Вопросы ленинизма» в начале 30-х годов писал: «Американская деловитость является… противоядием против революционной маниловщины и фантастического сочинительства. Американская деловитость – это та неукротимая сила, которая не знает и не признает преград, которая размывает своей деловитой настойчивостью все и всякие препятствия, которая не может не довести до конца раз начатое дело, если это даже небольшое дело, и без которой немыслима серьезная строительная работа». Россия – страна парадоксов: Новый год перед Рождеством; отличительные знаки русских частей Третьего рейха в день Победы; прорубили окно и завесили железом; пригрозили перенацелить ракеты на Европу и одновременно говорили о необходимости безвизового общения; Америку ненавидят на генном уровне, а детей учат именно там, сбережения – туда, недвижимость в Майами и пр., пр., пр. Перед Сталиным, стыдливо отводя глаза, преклоняются и пытаются убого подражать, но по поводу американской деловитости память отшибает, и прёт маниловщина и фантастическое сочинительство.
Без Америки даже рабский труд ничего не сотворил бы.
Ещё в школе, помню, проходили, что Сталинградский тракторный завод был построен в рекордные сроки – за 5 месяцев. Точно. Только не упоминали, что сначала этот завод фирма Fordson спроектировала, изготовила (все до гвоздя) и собрала с нуля в Детройте, после чего разобрала, перевезла в Россию и собрала, подключила, опробовала – действительно, за 5 месяцев. Вообще значительная часть моделей техники, производившейся в те годы на советских заводах, представляла собой копии либо модификации зарубежных аналогов. В феврале 1930 года между «Амторгом» и фирмой американского архитектора Альберта Кана (Albert Kahn, Inc.) был подписан договор, согласно которому фирма Кана становилась главным консультантом советского правительства по промышленному строительству и получила пакет заказов на строительство промышленных предприятий стоимостью 2 млрд долларов (около 125 млрд долларов в ценах нашего времени). Эта фирма обеспечила строительство более 500 промышленных объектов в СССР. С непосредственной помощью этой фирмы Кана и через нее – с помощью столпов американской индустрии и технологической мысли, были построены такие гиганты, как Нижегородский автозавод (Ford + Austin Motor Company), 1-й Государственный подшипниковый завод в Москве, Магнитогорский металлургический комбинат (Arthur G. McKee and Co.); стандартная доменная печь для этого и всех остальных металлургических комбинатов периода индустриализации была разработана чикагской компанией Freyn Engineering Co. Гордость первых пятилеток – Днепрогэс – работал на чьих турбинах? – американских (General Electric и Newport News Shipbuilding). Американец Хью Купер был главным консультантом строительства Днепрогэса, как, впрочем, сотни и сотни американских специалистов, работавших в Совдепии (так, в Москве процветал филиал фирмы Кана – «Госпроектстрой» – под руководством его брата, Морица Кана, – по тем временам самое большое архитектурное бюро мира, через которое за три года прошло 4 тысячи советских инженеров, архитекторов, техников и пр.). И так далее! Дядя Джо знал, что говорил на лекции в Свердловске в 1924 году и затем повторил во всех изданиях своего творения «Вопросы ленинизма».
Вторая мировая… Принято считать, что ленд-лиз, конечно, помог тушенкой, сгущенкой, яичным порошком и пр. Что, действительно, немаловажно: многие жизни были спасены этой вкусной тушенкой – до сих пор помню ее вкус. Но забывают – заставляют забыть, что прославленные «Катюши» ездили исключительно на Студебеккерах, про Виллисы уж и не говорю; авиационное топливо, порох, динамит, тротил и пр. (производство пороха и производных в первые недели войны оказалось под немцами); средства связи, колючая проволока – в основном (до 80–90 %) по ленд-лизу. О таких пустяках, как самолеты – 22 с лишним тысячи, танки (около 13 тыс.), стрелковое и автоматическое оружие (миллионы штук), не говорю. Не надо забывать, что детища АМЕРИКАНСКОЙ индустрии, такие, как Сталинградский тракторный завод, выпускали не столько трактора, сколько танки. Кстати, легендарный танк Т-34 – модификация (удачная) американского танка «КРИСТИ». Или 15 с половиной миллионов пар армейских ботинок – Сов. Армия была босая! Здесь можно о многом говорить, напомню лишь, что по ценам 1945 года нам было поставлено вооружений, оборудования, нефтепродуктов, плюс алюминия (106 процентов по отношению к производству в СССР), взрывчатки (53 %), олова (223 %), автомобильных шин (92 %) и пр. всего на 11, 3 миллиарда долларов (то есть примерно 250 миллиардов по сегодняшним расценкам). Счет уже после войны был выставлен на 700 миллионов, СССР в 1975 году – уже по другим ценам – согласился выплатить 37 миллионов. Затем выплаты были приостановлены, не расплатились по сей день…
Только в 1946 году после речи Черчилля и когда на смену соглашателю Рузвельту пришел энергичный и бескомпромиссный Трумэн, в США стали осознавать, что на смену нацизму они сами взрастили более опасного, бесчеловечного и «долгоиграющего» зверя – Советский Союз; вот только тогда и началась борьба «двух систем», которая переросла в битву двух видов homo sapiens.
Все это долго крутилось в моей голове, укладывалось, переваривалось. Многое не мог понять. Неужто нет памяти, нет чувства справедливости, нет уважения к собственной истории? Начисто отбило. Не понимал ранее, да и сейчас, приближаясь к конечной остановке своего пути, не понимаю, как, каким образом за десять с лишним лет удалось вывернуть массовую психологию наизнанку, откуда-то из глубин подсознания извлечь самые дремучие, ранее не проявлявшиеся инстинкты, извратить саму природу мышления, перевернуть систему координат, поменять полюсы добра и зла, заставить радостно верить самой примитивной лжи, преклоняться перед убогим (…), (…) как раздувшаяся моль. Татаро-монголам с их ограниченным контингентом не удалось; Ивану Грозному повезло больше, но не до конца перерезал и перебил; и Друг физкультурников здесь прав: «Петруха не дорубил»; у большевиков за 70 лет не получилось, при всех успехах. Злодеи были великие, упыри сказочные, нелюди, а не удалось. Ход истории переменили, хребет российской цивилизации переломили, но народ в одичавших злобных грызунов не превратили. А тут… Неужели и я – частичка этой массы, из нее не вырвавшийся, завязший в ней, несмотря на все старанья, потуги, рывки?
– Голубчик, Ваше высокородие, побойтесь Бога! Скоро уже Город, а вы все об Америке. Да наплюйте на нее. Тоже мне – «проблема»! Вот упадет на нее метеорит, и нет вашей Америки. Вы подробнее о том, о чем просят-с.
Он прав. Чего я завелся? Безграмотное убожество бесит.
Да здавствует солнце, да скроется тьма!
Тьмы тогда было достаточно, но и солнце пробивалось. Все это уживалось поразительным образом. Когда я бросил (первый раз) курить, от старых времен ещё оставались узорчатые пирамиды банок с крабами. Пирамиды пылились, крабов покупали редко. На прилавках не только Елисеевского, но и на углу Невского и Рубинштейна, Невского и Литейного – у зеркал, где начинали свой променад штатники, даже в нашем гастрономе напротив Дома Мурузи или на углу Литейного с Петрушкой (Фурштатской) преспокойно лежала («и никому не мешала») икра трех сортов: зернистая (черная), красная и паюсная. Рядом – семга малого посола, осетрина холодного копчения, севрюга – горячего. Миноги по осени. Корюшка весной – не только в магазинах, но и в ларьках на каждом углу. Запах свежей корюшки – огурцов – запах весеннего Ленинграда… Цены были вполне доступные. Зато не было овощей или фруктов. Только подгнившая, подмерзшая картошка и репчатый лук – пустой, мятый и вдавленный, как яйца быка после длительной случки.