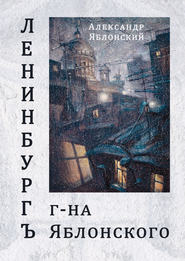скачать книгу бесплатно
коньки «снегурочка» сменились «канадками»,
и появились первые блочные пятиэтажки,
когда Фанфан-Тюльпан добивался любви Джины Лоллобриджиды,
начали догонять Штаты по производству мяса, молока и масла,
забив не только птицу, коров и свиней, но и лошадей,
напечатали «Один день Ивана Денисовича»,
и дали Первую премию Вану Клиберну,
когда вдруг стало казаться, что и мы будем жить в нормальной стране,
когда, играя в шахматы, объявляли не только шах, но и гарде?,
многое обнадеживало, и во многое верилось,
в те странные наивные времена, когда авторам платили гонорар
за романы, повести и даже рассказы,
за стихи могли посадить, и – сажали,
а за ленинградский «Зенит» играли ленинградцы,
в то чудное время,
когда мамы были молоды, а папы – те, которые выжили,
старались не вспоминать войну,
во времена Жуковых, Марченко, Бродских,
когда я был совсем юным, —
думалось, мечталось, хотелось надеяться,
что жизнь будет…
(Подражание Л. Н. Толстому)
[ОРИГИНАЛ]
«…в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, – в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, – когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, – в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, – в губернском городе К. был…»
Л. Н. Толстой. «Два гусара»
Поезд
Времена не выбирают.
В них живут и умирают.
Я не буду целовать холодных рук. В нашей осени никто не виноват. Ты уехал, ты уехал в Петербург. А приехал – в Ленинград.
Я не буду целовать холодных рук. В нашей осени никто не виноват. Ты уехал, ты уехал в Петербург. А приехал – в Ленинград.
Сапсаны ещё не ходили. Мне взяли билет на «Аврору». Тогда это был поезд № 159/160. Он отходил от Ленинградского вокзала в 13:45, а прибывал на Московский в 18:10. «Аврора» – не транспорт, а сплошное воспоминание. Ещё в 65-м году я ехал этим поездом – в те времена самым скоростным, сидячим, комфортным – из Ленинграда в столицу и волновался. Я всегда волновался, приезжая в Москву. Из провинции в столицу. Даже мучил себя процессом бритья каждый день. Столица! Физиономию лица было не узнать. Сейчас ничего не дрогнуло, хотя возвращался в родной город после долгого, долгого отсутствия. Гурченко с Моисеевым пели про Петербург – Ленинград, а я дремал.
– Что, голуба, на Родину потянуло?
– Это беременную на солененькое тянет. Меня же Бог миловал с солененьким. А с Родиной никогда не расставался.
– Это как же-с?! Штампики в паспортах имеются.
– Тебе не понять, любезный. Родина – это память. Память, и ничего более. А пошел-ка ты вон!
– Не извольте беспокоиться, ваше высокородие! Исчезаю-с, испаряюсь…
Это я хорошо сказал, правильно: Родина – это не что иное, как память. И ничего более.
Тронулись. Глаза не открывал, но знал: пошло?-поехало. Рижская, Петровско-Разумовское, НАТИ – что это, понятия не имею, потом, уже мелькая, неразборчиво, но я все помню, – Химки, Подрезково, минуя Новоподрезково, а там – Сходня, Малино, Радищево, Поваровка, гляди – уже Фроловское, значит, я провалился – уснул, так как прозевал Подсолнечную и Головково, а там и Клин. Мой Клин. В обратном порядке я знал когда-то все станции, даже такие, как Стреглово или Березки Дачные, хотя электричка, мчавшая меня из Клина в разгульную жизнь Москвы, там не останавливалась. Впрочем, разгульной жизни не получалось, все мои друзья в летнее время, когда я работал в Доме-музее Чайковского, разъезжались, и я просто бродил в одиночестве по опустевшему, но притягательному городу. Как-то раз ближайший друг – коренной москвич и патриот города (не подумайте ничего плохого – только города!) сообщил, что он проездом в Москве, и мы должны опробовать недавно открывшийся ресторан «Пекин», что недалеко от «Маяковской». Летел, как Наташа на первый бал. Из барака – в Пекин! Предупредил коменданта, что, возможно, ночевать не вернусь. В ресторан же еду, не в ЦГАЛИ. Друг решил блеснуть знанием китайской кухни (без алкоголя: кулинария Поднебесной в центре Москвы ограничила наши финансовые возможности). В памяти остались микробиологическое слово «агар-агар» и что-то про маринованную медузу. Принимавшая заказ уставшая официантка, пристально посмотрев на нас, твердо сказала: «Не надо!» То, что успели проглотить, срочно заели за углом черствыми пирожками с холодной начинкой, обозначенной как мясо. Вернулся в Клин я засветло. Вот и все приключения. Хорошее было время.
Тогда уже состоялся Калининский проспект с чудом сохраненной у подножья новой магистрали маленькой церковью Симеона Столпника, построенной (в варианте сруба) ко дню венчанья Бориса Годунова, сверкали неоновые рекламы вдоль первых этажей правительственной трассы, а в вышине, в окнах выстроившихся плоских гигантов сияли незабвенные слова:
СЛАВА КПСС!
– но Москва ещё оставалась Москвой. Ещё существовал живой старый, не картонный Арбат, нераскрашенная Сретенка с редкими авто типа «Волга», «Москвич» или «Победа», церковью Успенья Богородицы в Печатниках и храмом Живоначальной Троицы в Листах. «Тихо, Сретенка, не плачь! Мы стали все твоею общею судьбой». Плющиха… Дом Щербачева, где жило семейство Толстых, клуб завода «Каучук» – «Берегись автомобиля», «Три тополя»… Чудные фильмы моей молодости. Самотечная площадь с обшарпанными двухэтажными зданиями, несущими аромат ушедших эпох. Ресторан «Прага» со знаменитыми эклерами. Дом на углу Арбатской площади и Малого Афанасьевского переулка. Трехэтажный московский особняк. Или особняк князей Мещерских на Большой Никитской… Все это было частью моей жизни, моей Москвы. Все это исчезло, как сон, как жизнь… Ну и, конечно, ресторан «Арарат» – в 60-х–70-х лучший в Москве, с прекрасной армянской кухней. Он, видимо, сохранился, но душа уже не рвется туда. Она никуда уже не рвется.
Разгуляться, повторюсь, не получалось; получалось съесть пару конвертов из горячего теста с сосисками внутри и выпить пива, но не в баре «Жигули», куда попасть даже летом было невозможно, да у меня и денег не было, вернее, были, иначе зачем я водил по три-четыре экскурсии в день, вдохновенно рассказывая (одна экскурсия – в кармане 2 рубля 50 копеек) о последних годах жизни автора «Пиковой» в Клину; деньги были, я их заработал, но специально не брал в Москву, чтобы не поддаться соблазнам. Деньги я копил. Мечтал вырваться из коммуналки. Почти всю сознательную жизнь мечтал. Так что пиво пил не в «Жигулях», а на улице – одноименное за 37 копеек, из горлышка. После чего возвращался в свой архив, к квартетам Танеева, письмам, дневникам тогдашнего героя моего исследования, к уникальной Ксении Юрьевне Давыдовой – внучатой племяннице Чайковского, человеку иной эпохи, ушедшей культуры (с Ириной Юрьевной я общался мало, а Юрий Львович незадолго до того времени скончался), к другим сотрудникам этого заповедного уголка – интеллигентным, спокойным, доброжелательным, как бы вырванным из окружающего социума и клинского быта, к любимой мною Наталье Григорьевне Кабановой – директору Дома, некогда учившей меня – девственного (в интеллектуальном отношении) подростка – премудростям музыкальной науки, к серовато-голубому деревянному дому, обрамленному фисташкой и шартрезом лиственниц прозрачного патриархального парка, к звучащим его аллеям, к беседке, робко белеющей среди буйства зелени, к расстроенному роялю фирмы «Беккер», к клавишам которого разрешали прикасаться только великим заезжим музыкантам, к бронзовому «Поющему петуху» – подарку Люсьена Гитри, к собранию творений любимого хозяином дома Моцарта, к простому светлому деревянному столу, сделанному местным мастером по заказу композитора, стоящему у окна спальни с узенькой железной кроватью, покрытой вручную связанным покрывалом, на этом столе была написана Шестая Симфония, к собранию курительных трубок и многочисленным фотографиям, покрывавшим стены гостиной, к подгнивающему серому дощатому бараку для командировочных, в сырой и темной комнате которого я в одиночестве поглощал свой незатейливый и неизменный ужин: пол-литра жуткого плодово-ягодного вина за девяносто две копейки бутылка, консервы, именуемые рыбными, в томате, ломоть черного хлеба, посыпанный крупной влажной серой солью, свежий сочный зеленый лук, покупаемый у старушки, привычно торговавшей около пустого гастронома, стакан чая, который я наливал из общего чайника на кухне. Недели через две я опять мчался в Москву, в Москву, в разгульную жизнь, прекрасно зная, чем она обернется, но сердце билось, и казалось, что электричка движется медленнее, нежели ей положено по расписанию. Мне было двадцать лет. Стреглово, Фроловское, Покровка… Пошло?-поехало.
Впрочем, все летние встречи с Москвой проходили как-то одинаково грустно и одиноко. Названия станций при подъезде к столице помню. Названия и содержимое архивов помню. Калининский и улицу Воровского, где я останавливался у моих чудных родственников – москвичей дореволюционного уклада, помню.
Интересно, что у московских родственников я жил на улице имени революционера-большевика Воровского (никогда на этой улице не квартировавшего). Кажется, на углу Борисоглебского. В двухэтажном особняке купца первой гильдии Лямина, предка моих родных. Торговый дом Ляминых был известен с середины восемнадцатого века. Иван Артемьевич Лямин был даже избран в 1871 году московским городским головой. Наиболее известной резиденцией Ляминых была знаменитая дача в Сокольниках, дом же на Поварской принадлежал когда-то Александру Александровичу Дубровину, жена которого – Вера Ивановна – была дочкой Ивана Лямина. Это был чудный, хотя и запущенный московский двухэтажный особняк. При входе внутри стояли два огромных нубийца, поддерживая мощными руками потолок. На первом этаже жила безразмерная семья. Помню огромное количество детей – черноглазых, смуглых, кудрявых, цыганистых. Часть второго этажа оставили бывшим владельцам – Дубровиным-Бомас.
Там я и проводил свое московское время среди невиданного количества редких, в большинстве своем дореволюционных, книг. Это было на улице имени большевика Воровского. Затем вернули старое дореволюционное название – Поварская. На месте особняка Лямина – Дубровиных – огромное серое бетонное безликое здание со стеклопакетами… Но на Поварской. Зазеркалье!
Помню ветчину, покупаемую на Калининском, и «маленькую», то есть четвертинку водки, которые мы с Лялей – моей дальней родственницей – поглощали за бесконечным вечерним чаем, обсуждая фильмы «Новой волны» или Феллини, романы Мережковского или Булгакова, читая по памяти стихи Ахматовой или Баратынского, Мандельштама или Пушкина – кто больше вспомнит. Я выигрывал в Ахматовой и в Бунине, Ляля – во всем остальном. Она была мудрым и эрудированнейшим человеком, подлинным учителем русской словесности старого, ныне исчезнувшего закала. Иногда из своей комнаты выходила и к нам присоединялась старенькая тетя Нина – она когда-то была секретарем Станиславского. Остальные Дубровины были в это время на даче. Помню все, как будто вчера было. Подобные чаепития и упоительные неторопливые беседы были возможны только в той старой Москве.
Больше ничего не помню. Ничего и не было. Один раз – значительно позже клинского периода – встретился с Галей, она случайно заехала домой с дачи. Позвонила мне. Ходили вдоль Москвы-реки, она показала мост – это у Воробьевых гор, около станции «Университет». Вспоминали давно ушедшее. Ведь знакомы и дружны были с десяток лет, если не более. Она постоянно приезжала в Ленинград. Мы и там бродили. Белые ночи. Разговоры… Вспоминали. Хотя вспоминать особо, опять-таки, было не о чем. Так… О прошедшей юности, общих друзьях. О тех белых ночах. О Гаграх, поездке в Новый Афон – как она сорвала меня! Если бы не она, женился бы я на третьем курсе. Как жизнь повернулась бы?.. Прощаясь у парадного подъезда я поцеловал ее в щеку. Она вдруг сказала: «Ну, наконец, догадался!» Пока я переваривал неожиданную информацию с подтекстом, она уже исчезла. Я взбодрился, вознамерился и крикнул в лестничный пролет: «Может, завтра увидимся?!» – «Нет, меня муж на даче ждет!» Я другому, стало быть, отдана… Больше я ее никогда не видел. Чудная была девушка. Глазастая, фигуристая, с юмором. Похожа на юную Татьяну Самойлову. Неизменно подтянутая, на каблучках. Москвичка! Столько лет прошло. Жива ли?
– Ваше высокородие, Александр Павлович, не желаете откушать чайкю? Аполлон Аполлоныч беспокоится…
– Не желаю!
– Аполлон Аполлоныч не изволил приказать насчет водочки. Говорят, вам не следует перед делом.
– Пошел вон!
– Не извольте беспокоиться. Уже удаляюсь!
В середине июня ранним утром – часов, этак, в пять – Петропавловская крепость, Ростральные колонны, здание Биржи, успокоенная за краткий миг призрачной ночи гладь Невы, гранит набережной – всё окрашивается в неземной сиреневато-розовый цвет. Будто Он окидывает взглядом свои владения. Только ростры на колоннах, кроны деревьев, их окружающих, да проемы колоннады Биржи темнеют на фоне этого подрагивающего марева пробуждения сказочного города, похожего на сон, на мечту, на счастье. Ленинград ещё спит. Воздух наполнен ароматом отцветающей черемухи или поздней сирени, липового нектара, струящегося с бледно-золотистых крон пышных деревьев, мокрого асфальта, по которому ступенчатым строем прошлись поливальные машины, свежей невской воды с ее запахом талого ладожского льда, тины, рыбешки и дымка? от неторопливых барж и суетливых деловых катерков. Чайки чинно сидят на буйках, ступенчатых спусках к воде, на причалах для речных трамвайчиков. Редкие молодые пары догуливают свою счастливую ночь – безоблачную и скоротечную. Сухенький старичок в аккуратном сереньком, стареньком, но чистеньком костюмчике и в летней бежевой кепочке облокотился на парапет около Мраморного дворца и всматривается в стену Трубецкого бастиона. Из бастиона изредка выходит странный человек, половины лица у него нет, череп расколот. Он неторопливо идет к старичку.
С музыкальным ассортиментом была, видимо, напряженка. Поэтому сквозь дрему опять донеслось по поводу приезда в Ленинград вместо Петербурга. Песня не раздражала. Я стал к ней привыкать. Да и к Гурченко испытывал давнюю – с 1956 года – симпатию. В сущности, они с Моисеевым правы: куда я еду?
Назвать Ленинград Ленинградом уже нельзя. К Ленину охладели. Я тоже больших симпатий к нему не испытывал. Злой гений. Как и Петр. Но Ленинград любил. Я там родился. И был какой-то необъяснимый аромат в этом имени города. Ничего общего с суконным погонялом пролетарского вождя. Ленинградец – значит, человек особой культуры. Ленинградец – значит, не москвич. Значит, поздоровается и объяснит, как пройти. Значит, скорее всего, – блокадник. Значит, публика в любом уголке страны, решая, что выбрать: концерт мастеров «Москонцерта» или артистов Ленгосэстрады (потом – «Ленконцерта»), безоговорочно пойдет на концерт последних. Не потому, что артисты лучше, – город притягательнее. Значит, «я счастлив, что я – ленинградец, что в городе славном…» Однако сам голосовал за переименование, точнее, за возвращение подлинного имени, наивно полагая, что поиск утраченного времени может привести к адекватному результату.
Ленинградом уже не назвать. Но и «Петербург» в глотку не лезет. Если только «Бандитский Петербург». Разве может быть петербуржцем г-н (…), хотя он и родился в коммунальной квартире невдалеке от моей коммуналки? От дома Мурузи до Баскова переулка – три минуты на велике. В Басковом переулке – тогда пустынном, малолюдном, практически без автомобилей на проезжей части в вечернее время – я учился кататься на велосипеде. Папа бежал сзади и поддерживал. Иногда приходила мама посмотреть на мои успехи. Где-то около 50-го года… Разве может находиться Петербург, да и Ленинград особенно, в нынешней России, ласково принимающей европейских неонацистов?! Разве может быть губернатором Петербурга красномордый Иудеев-Питерский или бывший комсомольский вожак м-м Грицацуева?
Разные были губернаторы. Худые и полные, с усами, с бакенбардами, гладко выбритые, воины и чиновники, смышленые и глуповатые. Даже безграмотные были. Светлейший Римского и Российского государства князь и герцог Ижорский, тайный действительный советник, сенатор, Государственной военной коллегии Президент, генерал-губернатор губернии Санкт-Питер-Бурхской, генерал-фельдмаршал, а затем – генералиссимус, полный адмирал, кавалер орденов Св. апостола Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, Белого Орла (Польша), ордена Слона (Дания), Черного Орла (Пруссия) и пр., и пр., и пр. – Александр Данилович Меншиков грамоты не знал. Академиком был. Это – да! Действительным членом Лондонского Королевского (академического) общества, о чем свидетельствует грамота, врученная 15 октября 1714 года и подписанная Исааком Ньютоном. Однако свою подпись герцог Ижорский выводил с трудом, всегда одинаково, заученным жестом. Господин академик читать и писать не умел. Не осилил. Надо отдать должное Светлейшему: при всей неуемной тяге к званиям, наградам, титулам и должностям, в длинном перечне всех бесчисленных регалий он ни разу не упомянул о принадлежности к академическому сообществу. Скромностью герцог не страдал, однако здравый смысл имел: засмеяли бы. Разные были градоначальники. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, который с Наполеоном тягался, и Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, который декабристов вешал, Александр Николаевич Оболенский, у которого внучатый племянник Константин (Кирилл) Симонов в любимцах Сталина ходил, грассируя, и Иосиф Владимирович Гурко, под началом которого воевал на Балканах мой прадед; Треповы, папаша и сын, были: первый прославился благодаря выстрелу Веры Засулич, второй, будучи ещё ротмистром, – командой своему эскадрону «Смотри веселей!» во время похорон императора Александра Третьего («Кто этот дурак?» – спросил ошеломленный С. Ю. Витте), Архаров был – основатель «ордена архаровцев», и Салтыков – банный блюститель – был, были фон дер Пален и Кавелин, Милорадович и Игнатьев, Владимир Федорович фон дер Лауниц, бывший во время Балканской компании адъютантом И. В. Гурко и застреленный в декабре 1906 года террористом Евгением Кудрявцевым, и генерал от инфантерии Александр Аркадьевич Суворов, граф Рымникский, князь Италийский – внук великого полководца, сын красавца генерал-лейтенанта Аркадия Суворова, также графа Рымникского, утонувшего в реке Рымник при переправе – Судьба недобрая шутница! Миних был и Балк был… Русские, немцы, лифляндцы были, был крещеный еврей. Всякие были. Нечистые на руку – большинство, начиная с академика, герцога Ижорского. Безупречные были, как Федор Федорович Буксгевден, к примеру, или, в особенности, граф Петр Александрович Толстой, который вышел в отставку с должности петербургского военного губернатора обременённый крупными долгами (случай уникальный в истории российского института губернаторства). Долги сии образовались и возросли по причине того, что, по мере необходимости, губернатор докладывал свои личные деньги для завершения необходимых городу проектов; дом губернатора был всегда открыт для нуждающихся – неимущим женщинам выдавали, к примеру, от 5 до 25 рублей (не вдаваясь в расследование подлинности бедственного состояния). Помимо этого, граф Толстой – командир Гвардейского корпуса – завел обычай дарить (из личных средств, естественно!) именинникам – солдатам и унтерам гвардии – соответственно один рубль или два серебром. (Государь также дарил именинникам, но из средств Государственной казны, всем один рубль медью). Тут у графа никаких денег не хватило бы (генерал Багратион предупреждал ведь!), тем более что постепенно умники начали «справлять именины» по нескольку раз в год. Так что долги были превеликие. К концу жизни, выйдя в полную отставку и живя в своем имении Узкое под Москвой, граф Толстой занялся сельским хозяйством, особенно преуспевая в цветоводстве, шелководстве и в разведении мериносов. Эта деятельность была столь успешной, что со всеми долгами граф расплатился сполна. Расплатился самостоятельно: в 1805 году, заменив Толстого на посту губернатора Сергеем Кузьмичом Вязмитиновым и направив Петра Александровича во главе 20-тысячного десантного корпуса воевать Наполеона, Александр предложил оплатить долги бывшего градоначальника. Толстой отказался – будет служить, пока есть силы, а долги отдаст, уйдя на покой, в деревню. Отдал. «Он был очень добр, щедр, правдив, честен в высшей степени и за правду готов был стоять, перед чем бы то ни было, непоколебимо». За правду стоял он и перед Наполеоном. Как военачальник и как посол Российской Империи в Первой Империи.
Разные градоначальники были.
Серых, как валенок, не было.
Серых, никчемных, а посему злобных, не было.
Столичность была «градообразующим» фактором, стимулом и сутью его существования, синонимом его именованию.
Он был рожден имперской стать столицей.
В нем этим смыслом все озарено.
И он с иною ролью примириться
Не может
и не сможет все равно.
Наум Коржавин был прав. Как только Петербург терял свой столичный статус, при всех своих красотах и особом самоощущении он становился провинциальным городом с прекрасными дворцовыми ансамблями, изысканной планировкой несчастного Петра Еропкина, красивой историей, богатыми музеями, возвышенными мечтаниями и горделивой осанкой, но с периферийным социальным положением и уездным сознанием. Лишившись своей столичности, город быть «Петербургом» уже не мог.
Бесспорно, «Северная Пальмира» была задумана и заложена Петром, который Первый. Однако блистательной столицей она стала благодаря Петру, который был Вторым. Если бы изнуряющая страсть юного властителя Империи к охоте, простуда, полученная на льду Москвы-реки на празднике Водосвятия 6 января 1730 года и, наконец, редкий вид оспы не свели в могилу четырнадцатилетнего Российского Императора, сына царевича-мученика Алексея Петровича, то на брегах Невы, возможно, находили бы не увядшие и подкрашенные красоты Северной Пальмиры, а руины Ахетатона.
…25 февраля 1728 года в Петербурге начались празднования по поводу коронации Петра Второго. Бурхард Христофорович Миних – градоначальник столицы – постарался на славу. Семь дней на Царицыном Лугу били фонтаны белого и красного вина. Это – для простолюдинов. Знать гуляла в одном из дворцов Миниха невдалеке от этого Луга, ставшего потом Марсовым полем. Столы ломились (в прямом смысле – некоторые не выдержали веса яств, среди которых выделялись цельные туши крупных млекопитающих), вино и пиво стояли по стенам в бочках и бочонках. Каждый тост сопровождался выстрелом из пушки Петропавловской крепости – вот и крепость пригодилась – знаменитый фортификатор граф Бурхард Христофорович немало потрудился над возведением бастиона Петра Великого и окончанием бастиона Зотова (в камне). Все было бы хорошо, только жителей почти не осталось. Как отъехал юный царь со двором из Петербурга 9 января, так и сиганули за ним его подданные всех сословий и конфессий…
Не прошло и трех лет со смерти основателя Петербурга, а город на глазах угасал, разваливался, пустел. Трава бойко прорастала на главных улицах опустевшей столицы, стаи волков безбоязненно забегали в самый центр города, ушли гвардейские полки, мелкие присутствия остались на месте всесильных Коллегий, купцы, ремесленники, дворяне вслед за двором Петра Второго поспешно покидали болотистые, мрачные, дикие места, отдаленные от деревень и поместий, от нормальной, привычной, обустроенной жизни. Природа мстила своеволию амбициозного правителя, сотворившего город вопреки ее законам, пытаясь подчинить своей воле непокорную среду. «Царь не хотел жить в ненавистной ему старой столице… Создание новой столицы было делом неотложным… Приходилось одновременно возводить дворцы, храмы, дома знати и жилища для ремесленников, строителей, чернорабочих, скульпторов, живописцев… Предстояло развести сады, провести каналы, завести строительные материалы, растения, даже /плодородную/ землю и деревья – ждать пока вырастут новые было нельзя… Но задача была выполнена, город /…/ возведен…» (М. Матье). Это – не о Санкт-Питер-Бурхе. Это – о новой столице фараона XVIII династии Аменхотепе IV (Эхнатоне), покинувшего в XIV веке до Р.Х. старую столицу – Фивы и основавшего новую – на брегах Нила… Так же безжалостно, стремительно, вопреки всем традициям древнеегипетского зодчества, насилуя страну и народ, в кратчайший срок воздвиг Эхнатон город из белого камня – «Землю бога Атона», с огромным дворцом своей первой жены Нефертити – самым большим в архитектурной истории этой древней цивилизации, с удивительной планировкой, просторными улицами, светлыми храмами, удобными и обширными жилищами горожан, сверкающими белизной набережными. Однако после смерти этого царя – мечтателя, авантюриста, жестокого преобразователя, поэта (автора жемчужины египетской поэзии «Гимна Атону»), строителя, фанатика, философа, сумасшедшего, провидца – после его смерти сменивший его Тутанхатон, ставший Тутанхамоном, – муж третьей дочери Эхнатона, перенес столицу в Мемфис. «Земля Атона» была заброшена, стала разрушаться, а по воцарению XIX династии город был проклят, оставшиеся постройки снесены, жемчужина древности постепенно занесена толстым слоем песка. Прародитель «авраамических» религий – иудаизма, христианства и ислама – «атонизм» ушел вместе со своим создателем и главным жрецом – великим религиозным реформатором Эхнатоном. Единый бог Атон изгнан из храмов. Царь-еретик – забыт. Монотеизм был ненавистен традиционному жречеству Древнего Египта. В преломленной и обогащённой форме монотеизм (атонизм) проявился позже – в иудаизме. Так же, как были ненавистны и неприемлемы новации великого реформатора древности, были ненавистны и неприемлемы новации Петра Первого. Петербург, повторяя историю возник новения Ахетатона, избежал участи этого чудного, небывалого досель города. Проживи Петр Второй ещё хотя бы десяток лет – до 25-ти, – процесс был бы необратим. Однако он (удачно для истории города) умирает в 14 лет, и по воцарении Анны Иоанновны двор возвращается в Петербург, за двором силой, угрозой конфискации имущества и жилья, а также лишения прав загоняют жителей; начинается аннинский, елизаветинский, екатерининский периоды истории города – столицы Российской империи. Город постепенно принимает тот облик и то историческое – столичное звучание, к которому мы привыкли и которое было присуще ему до 17-го года. После 17-го город травой не зарос, волки по Невскому не бегали, песком Неву не засыпало. Но город перестал быть столицей и перестал быть Петербургом. Не было бы Вована, не назвали бы Ленинградом. Назвали бы как-то иначе. Петербургом он уже быть не мог. Столичность истекла, истощилась, исчерпалась. Петербург ненавязчиво, но закономерно стал Петроградом. Так бы и остался, если бы вождь пролетариата удачно не дал дуба, и город получил новое имя. Имя прижилось, городом и его обитателями облагородилось. Ленинград стал провинцией, уникальной и самодостаточной. Такой провинцией страна гордилась, а мир стране завидовал. Но – провинцией! Не случайно с выскакивающим от восторга сердцем и до блеска выбритой физиономией лица я мчался в Москву – из уезда в столицу! Провинциальностью кичились, она была эквивалентом оппозиционности или, во всяком случае, видимостью несоучастия, отстранения от кремлевского кровавого эксперимента, хотя это был самообман – кашу заварили на Неве, – но самообман сладкий, дурманящий, возвышающий. Да и в Кремле в городе-колыбели видели скрытую угрозу, не случайно вырезали, выдавливали слой за слоем и руководителей, и интеллигенцию. От Зиновьева – к лучшему Другу Вождя – «Огурчики, помидорчики/ Сталин Кирова убил в коридорчике» (10 лет без права переписки), а там – и «Ленинградское дело» – кровавое и тупое. От Гумилёва до Бродского, от Патриарха Тихона до генетиков, от академиков Тарле, Платонова и Н. П. Лихачева до галериста-нонконформиста Георгия Михайлова, от Бахтина и Мейера до Эткинда. Если не выреза?ли, то отторгали и вытесняли. Будь то гроссмейстер Виктор Корчной, фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов или пианист Григорий Соколов. Никакой политики – ленинградцы!
Город остался провинцией – Ленинградом, без потуг на столичность. И в этом было его обаяние. В этом было отличие от Петровского и нынешнего «Петербурга»: город был един и органичен, без раздвоенности, без сочетания несочетаемого: европейскости – азиатчины, старомосковских традиций – европейских новаций (это – в прошлом), ленинградской интеллигентности – новорусского хамства, остатков подлинной культуры – варварства новых лавочников с Литейного, 4 (это – нынешний Питер)…
А как выбежать поутру после жуткой пьяни: метель задувает под пальтишко, второпях не оденешься, если трубы горят, штиблеты на босу ногу, да к ларьку. Угол Короленко и Артиллерийской. Там очередь, но лица знакомые, серые, непохмеленные. «Клавочка-душечка, маленькую и большую с подогревом». Пену сдул и – потекло. От счастья задыхаешься, захлебываешься, льешь на суконную грудь, начинаешь вспоминать, где и с кем вчерась пил, кому звонить, чтобы продолжить фиесту. Родина, память.
Санкт-Питер-Бурх, заложенный Петром Великим, как в капле воды отражал главную особенность новаций и всего царствования царя-плотника, как, впрочем, и всей послепетровской истории. За новым европейским фасадом скрывалось старое – азиатское содержание. Здание Двенадцати коллегий, поражавшее современников своим небывалым, строгим, европейским видом – не что иное, как допетровские приказы, да и построено здание было по проектам старых кремлевских «присутствий» XVI–XVII веков. Непривычные для русской архитектуры конфигурации шпилей и куполов вновь выстроенных соборов, прежде всего, Адмиралтейства, Петропавловки, Исаакия – вызолочены, как маковки московских церквей – «чтобы Господь чаще замечал». «По обеим сторонам /Невы/ стоят отличные дома, все каменные, в четыре этажа, построенные на один манер и окрашенные желтою и белою краскою. /…/ Но самое приятное, что представляется в этой картине, когда въезжаешь по Неве в Петербург, это крепостные строения, которые придают месту столько же красоты, как и возвышающаяся среди укрепления церковь… Поражает бой часов, какого нет ни в Амстердаме, ни в Лондоне». Это писал в 1736 году датчанин фон Хафен. Поражал не только бой часов, но и весь облик парадного регулярного Петербурга – его «витрины», расположенной по брегам царственной Невы, а затем и Безымянного Ерика – Фонтанки. Такой стройности и упорядоченности не знали хаотично застроенные старые столицы Европы. Как и не знали в Европе скопищ деревянных азиатски-неприспособленных для жизни строений, составлявших суть города вплоть до 20-х годов XIX столетия. Деревянный Петербург горел. И как горел! За европейским фасадом простиралась российская допетровская Русь. Парадный подъезд блистал, а за ним – да трава не расти…. Как в нынешние времена – к приезду местного Президента или заморского – красят в лучезарные цвета Гостиный двор по Невской линии и на десять метров по Садовой – там, где начальственный глаз охватить может при быстрой езде безразмерного кортежа, а дальше – опять-таки, трава не расти… Причем в деревянных домах, избушках, особняках, дворцах жили не только ремесленники, рабочие, извозчики или квартировали в казармах столичные гвардейцы. Представители лучших фамилий, цвет российского общества, ещё долгое время предпочитали жить по-старинке – в богатых срубах.
Однако главное, – и в каменных желто-белых четырехэтажных домах, выстроившихся по воле Петра вдоль рек, и в деревянных палатах и хижинах жили рабы. «История представляет около его /Петра/ всеобщее рабство. /…/ все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубиною». Это Пушкин. А это – уже времена Анны Иоанновны. Французский посланник маркиз Шетарди в конце 30-х годов восемнадцатого – просвещенного – столетия писал с изумлением о высшем дворянстве России: «Знатные только по имени, в действительности же они были рабы и так свыклись с рабством, что бо?льшая часть из них не чувствовала своего положения». Почти сто лет прошло, и граф Михаил Сперанский констатирует: «Я вижу в России два состояния – рабы государевы и рабы помещичьи. /…/ действительно же свободных людей в России нет». Да что Сперанский – «попович», сын причетника в церкви поместья С. В. Салтыкова! Князь Петр Долгоруков – потомок Рюрика и св. Михаила Черниговского, представитель древнейшей, богатейшей и блистательнейшей фамилии России, один из предполагаемых – не обоснованно – авторов писем-пасквилей, приведших к дуэли Пушкина и Дантеса; Долгоруков, позволяющий себе менее знатную и менее «преуспевшую» фамилию Романовых называть «домом принцев Голштейн-Готторпских, ныне восседающим на престоле Всероссийском», этот князь – один из наиболее «содержательных» корреспондентов – оппонентов Герцена, князь-бунтарь, уже в 1860-м году – время весьма даже либеральное, «освободительное» – писал: «Родился и жил я, подобно всем дворянам, в звании привилегированного холопа в стране холопства всеобщего»… Это уже не Европа. Лишь вывеска европейская. «Страна рабов», – диагностировал М. Ю. Лермонтов. Достаточно было нахмурить брови тринадцатилетнему мальчику-царю, как рухнул «полудержавный властелин», полноправный хозяин огромной империи, перед ним дрожала Европа, ему были преданы лучшие гвардейские полки, генералиссимусу стоило лишь появиться в казармах и громовым голосом «попросить о защите», что было неоднократно и успешно делано при возведении на престол Екатерины Первой или того же Петра Второго, и очередной переворот был бы неминуем. Нет, уполз в Березов. Как и ныне – сморщенный лобик (…) и рушатся (…), хотя прихлопнуть, (…) без помощи гвардейцев (…) «Сейчас в России нет частной собственности. Есть только крепостные рабы, принадлежащие (…)» (названо имя очередного хозяина страны). Это уже не Сперанский, это – XXI век.
…Рабы – они и есть рабы. Как с рабами и поступали. Это – не Европа. Решено было застраивать Адмиралтейский остров по Немецкой улице и по Задней улице каменными домами, но не все вельможи и простолюдины выполнили. Посему Указ: «У тех обывателей по линии хоромные строения /то есть деревянные временные/ ломать каторжными, а им объявить: буде они на местах с нынешнего мая месяца строить палат /каменных/ не будут, то те дворы их взяты будут на Е.И.В.» И пришли безносые с рваными ушами и безъязычные и стали ломать и крушить вполне пригодные теплые насиженные дома, и понесся над столицею истошный бабий крик, вой обезумевших собак, детский плач, перинный пух и ужас. Как в двадцать первом веке перед (…) в (…). Только ныне крушили уже не каторжные, а военные бульдозеристы. Не в Европе, слава Богу, живем. Свой особый путь.
Многое происходит в России, но ничего не меняется. Чем больше происходит, тем меньше меняется – окостеневает.
Также и в Петербурге.
Ну как в Петербурге не жить?
Ну как Петербург не любить
Как русский намек на Европу?
Работать так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!
В Ленинграде же все пришло в соответствие. Не стало имперской гордыни, спесивого величия, и ушла азиатчина. Спокойно и естественно существовал Ленинград без навязчивых, аляповатых и безграмотных вывесок и реклам, сыпью покрывших величественные и понурые здания, словно стыдящиеся своей безвкусной раскрашенности; Ленинград, с ещё не загубленным Летним садом, с общедоступными санаториями на Каменном острове и спортивными базами, на которых, помню, мы гребли на четверке распашной и бегали на лыжах (это входило в программу тренировки пловцов); Ленинград коммунальных квартир, Ахматовой, общественных бань, Публичной библиотеки, «жилищной» толкучки у Львиного мостика и книжной – в садике двора на Литейном проспекте, напротив улицы Жуковского, с тыльной стороны магазинов «Спортивные товары», «Подписные издания» и «АКАДЕМКНИГА», пышечных на Садовой и Желябова, Мравинского и Товстоногова, купанья у Петропавловской крепости летом и зимой, выпускных школьных балов, рюмочных с килечными бутербродами и пирожков с повидлом за 5 копеек, «Сайгона» и «Ольстера», прачечных с неизменным запахом свежего «парного» белья и сильно нетрезвых финнов с изумленными организмами и единым отъехавшим сознанием, Лихачева и Друскина, шпаны с Лиговки и молочниц с бидонами из ближних пригородов – Парголово, Токсово, Вырицы; Ленинград прозрачной воды Фонтанки и запаха корюшки по весне, автоматов с газировкой за одну копейку без сиропа и за три копейки с сиропом, а также с пивом (20 копеек), вином и одеколоном (бросил монетку и тебе в рожу брызги удушающего аромата советской парфюмерии); Ленинград Ленфильма и Ленкниги, дровяных кладей во дворах и елки во Дворце пионеров, дефицитов во всем: от сто?ящих книг («Маркова и Проскурина не предлагать») до «резинового изделия № 2» Баковского завода резиновых изделий за 2 копейки. (Я как-то, стоя у аптечного прилавка и намекая девушке-фармацевту на жгучее желание и жизненную необходимость приобрести этот дефицит, задумался, а что же такое «резиновое изделие № 1»; через много лет узнал: № 1 оказался противогазом, а № 4 – галошами). Резиновые изделия № 2, кстати, поначалу были трех размеров: маленького (№ 1), среднего (№ 2) и большого. Маленького размера мужчины не покупали – кто ж в этом признается, а большие «с напуском» спросом, увы, не пользовались, поэтому с таким успехом прошел Фестиваль Демократической молодежи и студентов; остались сверхдефицитными лишь изделия усредненные – № 2. Во всех смыслах…
Это был мрачноватый, серьезный, независимый город. В этом городе были, конечно, и Смольный, и «Большой дом», и Мариинский дворец, но это был не Ленинград, а лежбище оккупантов, так же, как никогда не были ленинградцами Жданов, Фрол Козлов, Спиридонов, Толстиков, Романов, Соловьев или Гидаспов (помните таких?). То были не ленинградцы – прокураторы. Ленинградцы старались, а многие и умели жить так, как будто «их» нет.
Не надо было мне голосовать за возвращение старого, себя исчерпавшего имени города. Натан Ефимович Перельман – не только превосходный пианист и педагог, но и остро, парадоксально и афористично мыслящий человек – как-то задал вопрос: «Какое блюдо самое невкусное». (Студентка играла с преувеличенным, неестественным, «реанимированным», поэтому нелепым и смешным эмоциональным подъемом – по этому поводу и был задан вопрос.) Мы стали изощряться на подзаборном уровне. Перельман оборвал нас, брезгливо поморщившись, и сказал: «Самое невкусное блюдо —… подогретое». Абсолютно точно! Остыло, так остыло. «Доктор сказал “в морг”, значит, – в морг!» Не может быть «Вперед в СССР!». Это «вперед» – в никуда, как «Вперед – в Римскую империю».
Кат сей раз трудился сверхмерно. Три шага назад – прыжок, удар, кровавая борозда. Как в «Абраше»[1 - Яблонский А. Абраша. – М.: Водолей, 2011. – 496 с.] описано. Методика и принципы полосования человеческого тела всегда страдали у нас консерватизмом, отсутствием инициативы и смекалки. Ошметки кожи, мяса – прочь, три шага назад, прыжок… Старался хвост кнута класть не плашмя, а на ребро, так, чтобы до белеющей кости прорезало. Странно. Как казалось, генерал-полицмейстер своих подчиненных, а их на Петербург было тогда 69 чинов полиции, да два ката, секретно содержащихся, не считая каторжных, которых на это дело ставили – рук с хлыстом не хватало, государевы каты со всей работой не справлялись, да два десятка сторожей-будочников, – всех их горемычный градоначальник привечал, опекал. Намедни просил Сенат прибавить денег на оплату жалования всех чинов полиции и прислуживающих: 1059 рублей с копейками в год на всех – зело ничтожно. Как бы не так. Сенат копейку зажал. Да и генерал-губернатор Александр Данилович, сродственник будущий, не внял. Не получилось, но старался ведь. И угощал по всем праздникам, и другую заботу проявлял. Порой даже из своего кармана. Карман был худой, не то, что у шурина. Ан нет. Три шага назад, прыжок, шматы – прочь. На каждом десятом ударе ремень, в крови размягченный, сменять, чтобы новый рабочую свою часть – вываренный в воске и молоке, на солнце высушенный «хвост» из воловьей кожи с заострёнными краями, – первозданную лютость и законную силу не терял. Сладостно, видимо, полосовать спину бывшего всесильного владыки.
Вот и Виктора Семеновича пытали так, как, пожалуй, не пытали никого из его бывших подопечных, хотя Абакумов мягкосердечием не страдал. Самолично истязал и подчиненных поощрял. На «Ленинградском деле» руку набил – Торквемаде не снилось. И с выселением народов, не угодных Вождю, сантиментам не поддавался, крови не жалел: ни детской, ни стариковской, ни женской – лес рубят… Но чтобы держать три месяца в кандалах в холодильнике, обливать на морозе водой, превращая в полуживую обнаженную статую, делая своего бывшего начальника – Министра Госбезопасности СССР – полным инвалидом, такого не бывало; а начальником Абакумов был заботливым: добился и повышения окладов для всех чинов министерства, и довольствие улучшил, и озаботился жилищными проблемами. Все эти благодеяния припомнили, когда выбивали из него признания в государственной измене, сионистском заговоре в МГБ: тормозил «дело врачей» или молодежной еврейской организации. Ну, и шпионаж, конечно. Как же без этого. Что поразительно: этот пытарь не сдался. Безжалостным служакой был выдвиженец Берии, но оказался мужественным человеком. Все выдержал. Нечеловеческое. Нацисты до таких изысков не додумывались, что, впрочем, естественно: советское – значит, отличное! Но не признался: ни в шпионаже, ни в наличии заговора врачей. В отличие от Антона Мануиловича, которого всего-то на?всего на дыбу вздернули и отвесили уже бывшему первому генерал-полицмейстеру Петербурга 25 ударов кнутом (это было ещё во время следствия, до того, как палач усердно полосовал его спину на «публике» по вынесенному приговору – то было уже наказание перед отправкой в пожизненную ссылку). Так Антон Мануилович после 25 ударов сразу же и раскололся: выложил все, что знал (а знал он мало), и, главное, все, чего не знал, но подсказали: и про Петра Толстого, и про Ивана Бутурлина, и про Ивана Долгорукого, и про генерал-лейтенанта Ушакова, и про многих других, и про заговор – или не заговор, а смущение, супротив всесильного и всебогатейшего Меншикова, собиравшегося всю власть прибрать к рукам по кончине императрицы Екатерины. Впрочем, не он – Девиер – первый, не он – последний. Железный Нарком с ежовой рукавицей, с которым работал знаменитый пытарь-виртуоз – тяжеловес, Помощник Начальника следственной части НКВД Борис Родос (сын портного-кустаря из Мелитополя), также признал все свои вины, не столько истинные (гомосексуализм, который тогда – при Гитлере и Сталине – преследовался по за кону, «излишнее рвение в проведении террора» и применение «незаконных средств» ведения розыска и др.), сколько вымышленные (агент разведок Польши, Германии, Японии, Англии и пр., подготовка антисталинского путча и т. д.) – Родос бил мастерски, с наслаждением.
Что не мог понять первый Санкт-Петербургский генерал – полицмейстер Антон Девиер (де Виейра) (как, впрочем, и я), так это то упоение, восторг, вдохновение и добровольное, непоказное рвение, с которыми пытали, истязали и казнили своих вчерашних властителей, идолов, небожителей. Казалось бы, «своему» – коллеге – можно и снисхождение оказать, полосовать аккуратнее, с нежностью. Эти небожители всячески прикармливали своих собак – чекистов и катов. Кровавый карлик, к примеру, что бы там ни было, в четыре раза повысил оклады всем сотрудникам НКВД, эти оклады при нем превышали соответствующие оклады в армии, в партийном аппарате и в государственных органах. Да и Антон Мануилович – большой любитель штрафов – весь прибыток – в казну, а стало быть, и в его полицейское ведомство. Все лишняя копеечка в карман полицейскому. Ан нет. Именно поэтому эти собаки так самозабвенно терзали кормящую руку. Ведь не каждый день выпадает сладостное счастье истязать такую фигуру, как грозный Глава Сыска. Ещё недавно чекистов бросало в дрожь, когда они видели «железного наркома», а сейчас он – абсолютно голый, в Сухановской тюрьме: «раздвинуть ягодицы», «рот разинь шире, тварь». И по яйцам, педерасту… Или распластанного Полицмейстера с истерзанной в кровавые клочья спиной, которого вывалили в телегу вместе с другим осужденным – обер-прокурором (тоже бывшим), Григорием Скорняком-Писаревым, и повезли из Петербурга в Жигановское зимовье. Далече. 800 миль северо-восточнее Якутска.
– Почему?! Нет, не кнут, кнут – понимаю, почему с таким наслаждением, что я ему сделал?! – Глаза Антона Мануиловича – мужчины статного, высокого, красивого, некогда сурового, властного, но и европейски обходительного (обходительность де Виейра отмечали и друзья его, и враги), любимца Петра – полны тоскливого недоумения, тихого ужаса.
– Так это ж Россия, голубчик! Слава Богу, не в Португалиях или Голландиях проживаем…
Требуйте полного налива пива!
Ленинград. Его уже нет. Он закончился. И Петербургом уже не будет. Никогда. Остался Ленинбург какой-то. Блистательный, вылизанный. Не хуже – лучше. Другой. Чужой. Современный.
Куда я еду? И еду ли, или меня везут…
Удивительная Россия страна. Я другой такой страны не знаю, где так вольно. Вольно, но без выезда. Петербург, по словам Достоевского, «самый умышленный и отвлеченный город на свете». Умышленный – и выдуманный, и искусственный, то есть рожденный по воле некоей идеи, умысла, и вместе с этим – умышленный – сделанный с умыслом, тем самым умыслом, с которым совершают преступление; город, преступления и наказания порождающий. Город «полусумасшедших», фанатиков, гениев; город-мираж, туман. «А что как разлетится этот туман, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?». Отвлеченный город, отвлеченный от человека, как, впрочем, и страна, не знавшая и не желавшая знать этого человека. Умышленный город, рождённый Императором, собственноручно пытавшим своего единокровного сына. Город, в котором убийцы одного законного Императора награждались высшими чинами, орденами, несметными поместьями и живыми душами, убийцы другого – продолжали нести службу – с повышением (Левин Август фон Беннигсен через год после страшного 1-го марта был произведен в генералы от кавалерии), а понесшие «наказание» в худшем случае были удалены в свои роскошные поместья (как граф Петр Алексеевич Пален – под Митаву, в свой дворец в Кауцминде). Молодые же офицеры, прежде всего, «вне разряда», невнятно рассуждавшие о цареубийстве, ничего не предпринявшие не только для этого кровавого акта (Пестель, при всей преступности намерений далекой юности, был взят под арест за полмесяца до Южного возмущения, Лунин узнал о восстании в Петербурге из газет – он служил в Варшаве адъютантом Великого Князя Константина и уже восемь лет не принадлежал к Обществу, практически не общался с его членами и т. д.), но даже для восшествия на престол законного наследника – второго сына Павла – безропотно простоявшие под картечью, хоть и с оружием в руках, были приговорены к четвертованию.
…Приговор, вынесенный 9 января 1775 года Емельке Пугачеву – душегубу, кровопийце, реальному смутьяну, садисту-убийце – вызвал оторопь в обществе и неудовольствие при Дворе. Все же конец осьмнадцатого века! А тут: «Емельку Пугачева четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырем частям города и положить на колеса, а после на тех местах сжечь», – определил суд, заседавший в московском Кремлевском дворце. Даже генерал-прокурор князь Александр Алексеевич Вяземский был фраппирован. Екатерина обтекаемо рассуждала в письме к князю: «Пожалуй, помогайте всем внушить умеренность как в числе, так и в казни преступников. Противное человеколюбию моему прискорбно будет. Недолжно быть лихим для того, что с варварами дело имеем». В ответном приватном письме князь сообщал «по инстанции», то есть Императрице: «Намерен я секретно сказать Архарову /тогда – обер-полицмейстеру Москвы/, чтоб он прежде приказал отсечь голову, а потом уж остальное /при четвертовании сначала отсекали руки и ноги, а только потом голову/; примеров же такому наказанию /давно/ ещё не было, следовательно, ежели и есть ошибка, оная извинительна». Николай Петрович Архаров всё выполнил, натурально возмущаясь ошибке палача: «Ах, сукин сын! Что ты это сделал!!» – за что был вознагражден вниманием Императрицы; в 1795 году он стал генерал-губернатором столицы. После же облегченного четвертования Пугачева этот вид казни не применялся, и вообще публичные экзекуции на Болотной площади прекратились. Это было в 1775 году…
…В XIX веке в Петербурге – просвещённой столице – вспомнили. Четвертовать. Причем приговор вынесли тогда, когда вознагражденное или прощенное цареубийство было на памяти всего лишь одного поколения: 1762 (убийство Петра III) – 1825; все декабристы были юношами или детьми во время убийства Павла, все видели, понимали, запоминали. Приговорены они были практически единогласно: 35 сенаторов и 13 особо назначенных чиновников во главе с престарелым незлобивым князем Петром Лопухиным, служившим пяти императорам, все повидавшем и всё одобрявшем, как и все остальные судьи. Четвертовать, писали Сперанский (которого декабристы в случае удачи планировали ввести в состав Временного правительства) и Нессельроде, Васильчиков и Балашов, Куракин и Ланской. Цвет Петербурга. Даже Петр Толстой – «добрый, честный, правдивый», известный бессребреник, правдолюб, бывший генерал-губернатор Петербурга «с долгами», а ныне – сенатор. Лишь адмирал Николай Семенович Мордвинов (который, по словам Пушкина, «заключал в себе всю русскую оппозицию») осмелился подать голос супротив этого варварства («лиша чинов и дворянского достоинства и положив голову на плаху, сослать в каторжную работу»), да адмирал и литератор Александр Семенович Шишков – обтекаемо, но не требуя четвертовать («принадлежат к первым преступникам» – слово «четвертовать» престарелый любитель древностей вывести не смог)…
Конечно, подписанты были уверены, что молодой царь приговор смягчит. Иначе быть не могло (и не может!). Правительство у нас единственный европеец, говаривал Пушкин. Эту полубыль-полунебыль по поводу «правительства-европейца» (в разные времена по-разному) создавали и создают рабы, загодя обеспечивая себе место в числе самых верноподданных, преданноподанных и выполняя тот негласный незримый заказ, который посылает единственный в России «европеец» – правительство. Может, действительно, единственный… В любом случае, так добродетельно, так пьяняще радостно быть тем самым навозным фоном, на котором появляется господин – весь в белом!
Умышленный город, где после бала возможен и закономерен прогон сквозь строй.
Прощай, холодный и бесстрастный,
Великолепный град рабов,
Казарм, борделей и дворцов,
С твоею ночью гнойно-ясной,
С твоей хладностью ужасной
К ударам палок и кнутов,
С твоею подлой царской службой,
С твоим тщеславьем мелочным,
С твоим…
………………………
Гордость страны – город на Неве, многолетняя столица Российской Империи, названа иноземным именем, по-голландски: Санкт-Питер-Бурх. Попробовал в Голландии найти название города с русским именем. Или французским, итальянским… Во Франции, в Германии. И так далее по атласу. Не нашел. Город Святого Петра. Но это не в Италии. Там – собор или площадь Святого Петра в Ватикане, а это – город в нынешней России. Впрочем, в этой стране все возможно, если Андреевский флаг или триколор – гражданский флаг Российской империи – поднимаются под звуки советского гимна на музыку бывшего регента храма Христа Спасителя, а впоследствии генерал-майора и дважды лауреата Сталинской премии Александра Александрова. Возможно все, если город, переживший жуткую блокаду, неслыханный голод, познавший даже людоедство, масштабов которого мы даже не представляем, потерявший более 650 тысяч жителей, умерших от голода, – этот город-герой, поистине герой, через 70 лет принимает нацистов со всех концов света, причем принимает не подпольно, а официально: высшие руководители, которые через пару месяцев будут стоять на победном громыхающем параде, жмут руки последышам нацистских убийц. Всё возможно, если в день Победы напяливают георгиевские ленточки (именно георгиевские, а не гвардейские!) – отличительный знак не только георгиевских кавалеров Российской империи и Добровольческой армии, которых чекисты – кумиры и учителя нынешних хозяев – за одну такую ленточку ставили к стенке или сначала прибивали гвоздями погоны и эти ленточки к плечам или груди, а уж потом ставили к стенке. Георгиевские ленты были отличительным знаком формы воинов Освободительной армии генерала Андрея Власова и обязательной деталью формы Русского Охранного корпуса в подчинении командования войск СС Третьего Рейха, то есть тех, кого вешали и гноили в советских лагерях. Гвардейские ленты с 1942 года присваивались Морской гвардии, стали деталью формы – бескозырок краснофлотцев, а также лентами колодки «Ордена Славы» и медали «За победу над Германией». Гвардейские ленты абсолютно походили на георгиевские. Что это было – безграмотность, потуги быть «как большие» или признаки шизофрении: советский воин с гвардейской – георгиевской – лентой ведет к стенке своего соплеменника с такой же лентой. В любом случае – сомнительный символ. Помню фотографию группенфюрера СС атамана Андрея Шкуро в генеральском мундире Третьего Рейха с георгиевской лентой на груди, полагавшейся ему как кавалеру Георгиевского оружия… Кто кого победил? Кто кого повесил: Сталин Шкуро или Шкуро Сталина? Что празднуют? И – празднуют или угрожают? Угрожают кому – побежденным или союзникам? Или всем, кому ни попадя… Зазеркалье. То прорубили декоративное оконце в Европу и всю историю этим гордятся, то перманентно завешивают железными занавесями – и тоже гордятся. И Новый год отмечают раньше Рождества. Два красных дня календаря: 1 и 7 января. Единственная страна в мире, где сначала празднуют обрезание еврейского мальчика, а затем Его рождение. То есть родившемуся Иешуа (Иисусу) сделали обрезание, началось новое летоисчисление – Новый Год, и это празднуют – Праздник «Обре?зание Господне» (1 января), а потом Он, уже обрезанный и проживший 7 дней, родился – Рождество Христово (7 января), и опять – торжество. Чему удивляться, если Храм Вознесения Господня в Колпино располагается на проспекте Ленина! Лимония…
Умышленный город. Любимый. Единственный. Русский намек на Европу. И нет ничего прекраснее на свете, нежели сиренево-розовый рассвет на Неве, шуршащие по асфальту поливалки, чайки на буйках, серебристая гладь Невы, маяки Ростральных колонн. Пивной ларек на углу Короленко и Артиллерийской. Запах отцветающей поздней сирени. Запах начала жизни.
«Чернышевская. Следующая станция – Площадь Ленина, Финляндский вокзал. Двери закрываются».
Партия сказала: «надо», комсомол ответил: «есть»!
Незаметно проскочили Клин. Грустно. Около пятидесяти лет прошло с той поры, как ранним солнечным прохладным июньским утром – часов 5 утра было – я сошел с поезда и побрел в сторону дома-музея Петра Ильича Чайковского. Было ещё безлюдно, пыль не поднялась, трава блестела росой. Впереди было лето, а может быть, и дальнейшая жизнь в Клину. Что ждет? Все казалось светлым и обнадеживающим. Рядом – Москва, тогда я любил этот город. Да и Тверь – то бишь Калинин – невдалеке. Не заскучаю. С Московского вокзала, через туалет, – на трамвай. Двадцать пятый или девятнадцатый от Московского вокзала шли прямо ко мне. Остановка «Угол Салтыкова Щедрина и Литейного». Нет, целовать холодные руки все же приятнее, нежели горячие или тепленькие. Холодные, пахнущие свежим цветочным мылом, снегом, утром. Помню… Запах, кожу. Легкий прозрачный пушок на внешней стороне запястья. Тонкий золотой обруч на кисти помню. Все дальнейшее забыл. Нельзя вспоминать. И не хочу.
…Почему Салтыкова-Щедрина, который никогда на этой улице не жил и, кажется, вообще не бывал? Мы все называли ее Кирочная. Она была и осталась Кирочной. Хотя и это название – неправильное. Когда-то это была 5-я Пушкарская (Артиллерийская) линия Литейной стороны Петербурга, в 1825 году переименованная в Кирошную улицу. Это мне рассказала Серафима Ивановна Барыкина, учительница литературы и русского языка в школе № 203 имени Грибоедова – знаменитая была школа! Анненшуле. Я ее поправил – Кирочная. Серафима Ивановна, маленький «колобок», – учительница властная, строгая, непререкаемая (чуть что: «Дневник на стол!») – непривычно смутилась, но повторила – Кирошная. Так как разговор проходил в неформальной обстановке уже после моего окончания школы, да и времена случайно и, естественно, кратковременно, наступили «вегетарианские» – начало 60-х – пояснила: «От слова «кирша» – Kirche – «кирха». И я вспомнил. Наш придворный кино театр «Спартак» ранее – до революции – был кирхой, то есть лютеранским храмом, одним из самых посещаемых в городе. Анненкирхе. Сначала звался – церковь Святого Петра. При окончательной перестройке был переименован. Чтобы не путать с евангелическо-лютеранской церковью Св. Петра – Петрикирхе на Невском, 22/24. И как было не переименовать в честь благодетельницы – Анны Иоанновны, жаловавшей лютеран, особливо германцев, и пожертвовавшей на строительство тогда деревянной церкви одну тысячу рублей. Освящение нового здания кирхи, взявшей имя Императрицы, почтили своим присутствием патроны церкви граф Миних и граф Ливен.
Анненкирхе, Анненшуле, Петрикирхе, Петришуле… Немецкий Петербург. Стержень города, его культуры. Исчез стержень – окислился, растворился, распался, – и ушла в прошлое та удивительная, неповторимая атмосфера этого города. Не только поэтому, но и поэтому тоже. В огромной степени поэтому.
Кому посчастливилось глотнуть последние капли этой культуры, тот поймет.
Немного ниже по течению в том же ряду живет его превосходительство господин вице-адмирал Корнелиус Крюйс, голландец, или же, во всяком случае, выросший среди голландцев. У него просторный двор и здание; во дворе поставлена лютеранская реформистская церковь, которую посещают преимущественно занятые при флоте и некоторые другие живущие там и временно пребывающие немцы. За неимением колокола перед началом богослужения на самом крайнем углу двора со стороны воды или берега поднимают обычный флаг господина вице-адмирала с голубым крестом в белом поле, с тем, чтобы живущие вокруг немцы и голландцы направлялись сюда. Первым пастором в этой церкви был немец из Геттингема, уроженец курфюршества Ганновер, он скончался осенью 1710 г., к величайшему прискорбию всей довольно многочисленной общины. Его звали Вильгельм Толле, он был благочестивым и ученым мужем, знавшим 14 языков и обычно читавшим проповеди на немецком, голландском или финском – для живущих там финнов.
сообщал пастор Симон Дитрих Геркенсон в 1711 году. В 1937 году кирха на Невском была закрыта, пасторы Пуль и Бруно Райхерты расстреляны в 1938-м, Храм превращен в склад для театральных декораций, а затем – овощей; в 1962 году помещение переоборудовали под плавательный бассейн. В 1977 году умер Павел Александрович Вульфиус. Прервалась связь времен.
Мама держит меня за руку. Мы стоим в очереди за билетами. Я волнуюсь, так как иду в кино первый раз в своей жизни. Название фильма помню. «Невидимка идет по городу». Фильм немецкий, трофейный. Очередь движется медленно. Кассы тогда размещались со стороны северного фасада бывшего лютеранского храма, фасада, выстроенного в виде апсиды с ионическими колоннами и куполом на шестигранном барабане. Фасад выходит на Петра Лаврова – некогда Фурштатскую. Кирха – творение Фельтена. Впрочем, от Фельтена осталась только оболочка. Когда-то был орган фирмы Валкер, в алтаре – картина «Вознесение Христа» кисти Липгарта. Сейчас, а на дворе 1947 год – год моего первого похода в кино – на месте алтарной картины – экран, а в фойе северного фасада – кассы. В кассах сумрачно, пыльно, гулко. И тени, тени.