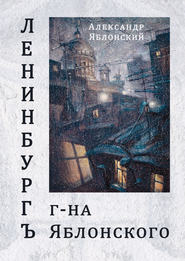скачать книгу бесплатно
…Мальчик со сборником шахматных этюдов в руках. «Эй, Корчной, давай-ка возвращайся в класс, хватит мечтать!». Ученикам Анненшуле, а ныне 203-й школы во время перемен на улицу выходить нельзя. Особенно осенью, зимой и весной. Летом можно. Но летом мы не учились. «И ты, Женя, давай пошевеливайся! Клячкин, ты что, оглох?!» Женя Клячкин не оглох, он только задумался. Кто мог предположить, что один станет не только выдающимся шахматистом, но и великой личностью, бросившей вызов могучей системе и выигравшей свое, казалось бы, обреченное противостояние с ней. Сражался Виктор Корчной не с Анатолием Карповым, а с советской системой, поддерживаемой всей мощью армии, флота и энтузиазмом патриотичного народонаселения. Клячкин же не сражался, а пел свои песни и стал кумиром целого поколения. О Бродском, который тоже учился в этой школе и которого также загоняли в класс или засекали в туалете с папиросой, никто не слышал, но его стихи знали, потому что их пел Клячкин – «Ни страны, ни погоста», «Пилигримы», «Римскому другу»…
(Курил ли Нобелевский лауреат в мужском туалете второго этажа, доподлинно не известно. Это – вольное предположение. Знаю, что там курили все старшеклассники, кроме спортсменов, а также примкнувшие ученики младших классов. Учительницы, а женский пол превалировал в преподавательском составе любой школы, к мальчикам не заходили. Иногда наведывался великий Лафер. Говорили, что он был самым блистательным учителем математики в городе. Охотно верю. Он входил в неизменной гимнастерке, оглядывал застывших в оцепенении курильщиков и произносил сакраментальное: «Курыть – здоровью врэдыть!». Со значением поднимал указательный палец, обозревал его при полном напряженном молчании и удалялся вместе со своим животом, поддерживаемым офицерским ремнем. Лафер в годы войны был военным летчиком. Также досконально известно, что уже значительно позже Клячкин звонил в Штаты Бродскому, спрашивая разрешения записать несколько песен на стихи прославленного соученика по школе № 203. «Ося, вы не возражаете, если я запишу диск песен на ваши стихи?» – «Женя, что хотите, то и делайте. Меня это уже совершенно не интересует…». Клячкин утонул, купаясь недалеко от Тель-Авива в Средиземном море).
Меня тоже загоняли с улицы в школу. Так было заманчиво вырваться из душного класса на мороз, на снег! Я не курил, так как был пловцом, подающим надежды, но этот недочет компенсировал всеми остальными пороками школьного возраста. В мое время Лафер сменил гимнастерку на видавший виды пиджак. Говорил с прежним акцэнтом. Математику давал так же гениально. Все его обожали.
Тени, тени… Из Анненкирхе выходит пастор Бахман. Он не один. С ним два чекиста. Чекисты молодые, застенчивые. Прихожане отворачиваются, будто ничего не произошло. Действительно, ничего особенного не произошло. Хотя ещё непривычно. 1934 год. Пастор сосредоточен, не суетлив. Он-то понимает, что это – конец не только ему, конец лютеранству и истинной вере в Совдепии. По поводу веры он не ошибся. Сам пастор выжил. Почти единственный. Пасторат Евангелической Церкви, состоявший более чем из 2000 членов, был уничтожен. Уцелело 3 человека. После лагерей в 1955 году пастор Евгений Бахман получил место для жительства в Акмоле, где создал единственную официально разрешенную в 1957 году лютеранскую общину. Кирха же ушла в небытие – 1-го августа 1935 года превратилась в кинотеатр имени восставшего раба. Улицу переименовали раньше – в 20-х годах.
Лютеранская община Петербурга сформировалась вокруг Литейного, позже Пушечного двора. Отечественных мастеров не было. Приглашали из Голландии, Дании, Германии, Шотландии. Мастера приезжали с семьями. Лютеранская община множилась, немцы, датчане, голландцы и прочие англичане ассимилировались. Анненкирхе при пасторе Артуре Мальмгрене к 17-му году была одним из самых крупных и посещаемых храмов города и центром евангелическо-лютеранского прихода Петрограда. Перед революцией в приходе Анненкирхе насчитывалось около 13 тысяч прихожан. Поэтому в 25-м году Кирошная улица была переименована в улицу «Воинствующих безбожников». В сотне метров от Анненкирхе – знаменитый Спасо-Преображенский собор. Перезвон колоколов этих храмов, как рассказывали старожилы, являл собой уникальный слаженный ансамбль. Разделяющая эти два храма улица – улица «Воинствующих Безбожников». Юморные люди были эти большевики! Не то, что нынешние: усердно молящиеся, со сморщенными лобиками.
Кукуруза – источник изобилия!
Воинствующие безбожники тоже были не бездарны. Свифтовские были ребята. Союз этих воинствующих безбожников в 1939 году предложил ввести новые названия месяцев. Так, январь назвать МЕСЯЦЕМ ЛЕНИНА, февраль – МЕСЯЦЕМ МАРКСА и т. д. Декабрь, конечно, – МЕСЯЦ СТАЛИНА. Самое точное название – август – МЕСЯЦ МИРА! «Пустеет воздух, птиц не слышно боле…» Не слышно. Не до августовских птиц было ни в Чехословакии 68-го года, ни в Москве 91-го или 98-го года, ни в Грузии 92-го или 2008 года, ни в Дагестане 99-го… «Я список кораблей прочел до середины: сей длинный выводок, сей поезд журавлиный…»
«Спартак» ненадолго пережил своего предка. Если Анненкирхе просуществовала около 215 лет (поначалу меняя свое место рас положение), то «Спартак» – всего лет 55. Собственно само здание на сквозном участке с Фурштатской на Пятую линию Литейной стороны было заложено в июле 1775 года по проекту Георга Фельтена – сына личного повара Петра Первого. «Спартак» же проектировали другие люди, к повару Петра отношения не имеющие, – А. И. Гегело и Л. С. Посвен. 1935 год – грань эпох. Последний епископ Евангелическо-Лютеранской церкви в России Артур Мальмгрен после допросов в НКВД был в 1936 году выслан в Германию, последние пасторы арестованы в 1937 году. В 1938-м – упразднены все лютеранские приходы. Побаловали, и буде… Зрительный зал размещался в вытянутом нефе, обрамленном по периметру ионическими колоннами, которые поддерживали балкон. Места в первом ряду на балконе считались лучшими. Билеты на них распродавались в первую очередь. В новую эпоху исчезли не только орган и картина, но и статуи Петра и Павла. На кой леший они в кинотеатре. Самые неудобные места – за колоннами. Там было не только не слышно, но и не видно. Вообще, акустика была паршивая. Точнее – акустика была великолепная, говорят, орган звучал поразительно, лучше звучал только орган в Капелле. Каждое слово проповеди долетало до всех уголков храма. Для кинотеатра акустика не годилась. Такая незадача. Поэтому мы с папой часто ходили в малюсенький «Луч», мест на 60, на Некрасова. Там слышимость была идеальная. Однако нашим придворным кинотеатром, «родным домом» для школ, расположенных в районе Кирочной, и для нашей семьи был «Спартак». В начале 90-х здание отдали законным владельцам. Но ненадолго. Прибыльнее оказалось оборудовать бар с игральными автоматами и взимать налог в казну. Верующие обойдутся. В чью казну взимали, история умалчивает, но доподлинно известно, что в декабре 2002 года рано утром здание сгорело. Гигантский пожар тушили расчеты из 150 пожарных. Здание сгорело дотла, даже подземные коммуникации выгорели. Власти предложили оставшуюся золу и место под ней передать в пользу лютеран города. Передали, чем долго и громко гордились. Нет, что ни говори, нынешние – тоже юморные ребята.
Лютеране, конечно, кирху возведут. Не будет органа Валкера, «Вознесения Христа», не будет той уникальной акустики, не будет тех прихожан и пастора Евгения Бахмана. Как не будет и «Спартака» – моего придворного кинотеатра с «Карнавальной ночью» в 1956 году, с концертами перед вечерними сеансами, с мороженым в хрустящем стаканчике и добродушной мороженщицей, опустошающей алюминиевый бидон, не будет контролеров, строго всматривающихся в лица юношей и девушек на вечерних сеансах: есть ли 16 лет. Не будет ничего из ушедшей эпохи. Будет нечто другое. Но не Анненкирхе. Не «Спартак».
И Фурштатская никогда не будет настоящей Фурштатской. Грациозные и мужественные лейб-гвардейцы Преображенского полка, фурштат (обоз) которого располагался в доме нумер 21, не будут поспешать по своим неотложными делам, не забывая оказывать знаки внимания дамами и девицам в проезжающих экипажах. Никогда не подкатит к дому Алымовой коляска, из которой выйдет уставший Пушкин и быстро вбежит по лестнице в свою квартиру. Не присядет на скамейку напротив дома № 14 страстный оппонент автора «Онегина», бывший адмирал, а ныне Президент Литературной Академии Российской Александр Семенович Шишков, обдумывая «Славянорусский корнеслов» и недовольно пыхтя при воспоминании о своем портрете кисти Джорджа Доу. Из дома купца Елисеева (№ 27) не выйдет Анатолий Федорович Кони, будущий действительный тайный советник и член Государственного совета империи, а пока что блистательный судебный оратор, глава Санкт-Петербургского окружного суда, ведущий дело Веры Засулич. Не будет молодая певица, выпускница Петербургской Консерватории Тамара Папиташвили гулять по бульвару, вынашивая свое дитя (которое вырастет и станет Георгием Товстоноговым) и обходя стороной дом № 40 – солидный каменный особняк в 17 осей с пристроенным четырехэтажным флигелем. Этот дом обходили все обитатели Фурштатской. В нем с 1900 года размещался Штаб Отдельного корпуса жандармов в подчинении Министерства внутренних дел. Любопытное было заведение, нам непонятное… Не будет подъезжать к нему на казенном авто фирмы «Руссо-Балт» «хозяин» «страшного дома» – бывший Московский губернатор, Товарищ Министра Внутренних дел Империи, Командующий Отдельным Корпусом Жандармов свитский генерал Владимир Федорович Джунковский. Тот самый Джунковский, который сделал феерическую карьеру: за неполных десять лет взлетел от капитана до Московского губернатора, генерала Свиты от гвардейской пехоты, и молниеносно рухнул с вершин в 1915-м из-за противостояния с Распутиным и его камарильей; тот самый Джунковский, который, возглавив российскую жандармерию, повел решительную борьбу с провокаторством – «этой страшной», по его словам, «язвой, разъедающей полицию, армию, все общество», провокаторством, так усердно насаждавшимся его предшественниками П. Г. Курловым и С. П. Белецким, в первую очередь; тот самый Джунковский, который считал величайшим позором сотрудничество с Азефом, Шорниковой и другими и был инициатором выведения из Думы полицейского провокатора, члена ЦК партии большевиков Р. В. Малиновского; тот самый Шеф жандармов, который по этому поводу писал в своих воспоминаниях: «Я слишком уважал звание депутата и не мог допустить, чтобы членом Госдумы было лицо, состоявшее на службе Департамента полиции…»; тот самый Джунковский, который запретил вербовать агентуру среди учащейся молодежи и прикрыл институт сексотов в армии и на флоте; тот самый, которому в апреле 1918 года – то есть уже при большевиках – определили пенсию в размере 3270 рублей в месяц «как офицеру, лояльному к новой власти»… И впрямь – лояльному. Как свидетельствовали на допросах Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного правительства его оппоненты, он был «известным либералом, прославившимся своим покровительством красным в 1905 году», а бывший начальник Петроградской охранки, куратор Азефа, генерал А. В. Герасимов писал: «/Джунковский/ – тот самый, о котором мне в свое время сообщали, что в октябрьские дни 1905 года он, будучи московским вице-губернатором, вместе с революционерами-демонстрантами под красным флагом ходил от тюрьмы к тюрьме для того, чтобы освобождать заключенных». Однако великодушием, милосердием и справедливостью чекисты страдали недолго. В сентябре 1918 Джунковского замели. Сидел он в Бутырках, в Таганской тюрьме. В 1921-м ВЦИК постановил Джунковского освободить. Неразбериха творилась, или кто-то вспомнил своего освободителя в 1905-м. На свободе работал церковным сторожем, давал частные уроки французского. В 1938 расстрелян на Бутовском полигоне. Так что уж точно он не подъедет к особняку с флигелем на Фурштатской на авто «Руссо-Балт». Нечего было господ револьюционэров освобождать. И перестанут этот дом № 40 обходить стороной… А в доме № 50 не будет подолгу гореть свет в окнах первого этажа, выходящих в садик: Николай Семенович Лесков не будет засиживаться над «Загоном», «Зимним вечером», «Дамой и фефелой» – своими новыми, во всех смыслах, творениями: «Мои последние произведения о русском обществе весьма жестоки…Эти вещи не нравятся публике за цинизм и прямоту. Да я и не хочу нравиться публике. Пусть она хоть давится моими рассказами, да читает». Председатель Совета министров Российской Империи, действительный тайный советник 1-го класса Иван Логгинович Горемыкин не будет неспешно прогуливаться по безлюдному бульвару поздним вечером, обдумывая свои невеселые мысли: дела Империи плохи, и он – второй человек государства Российского – бессилен что-либо предпринять. Да ещё эта зловещая и не совсем справедливая репутация креатуры Распутина… Какие-то предчувствия – мрачные, тяжелые. Кровь на стене, крик. Мог встретиться ему живущий по соседству князь Виктор Сергеевич Кочубей, бывший адъютант наследника цесаревича Николая, а ныне Начальник Главного управления министерства Императорского Двора и Уделов. Раскланиваются. Раскланивались…
Никогда не станет кирха Анненкирхе, Фурштатская Фурштатской. Как и Петербург Петербургом, а Ленинград… Будет Город, внешне похожий. Наверняка, красавец. Лощеный. Незнакомец.
Надо бы представиться. Надо бы понравиться ему… «Но мало времени уже…». Да и не нужно.
Так вот он, прежний чародей,
глядевший вдаль холодным взором
и гордый гулом и простором
своих волшебных площадей, —
теперь же, голодом томимый,
теперь же, падший властелин,
он умер, скорбен и один…
О город, Пушкиным любимый,
как эти годы далеки!
Ты пал, замученный, в пустыне…
О, город бледный, где же ныне
твои туманы, рысаки,
и сизокрылые шинели,
и разноцветные огни?
– Пиво Жигулевское свежее, лимонад, пирожки горячие с мясом, печенье.
– Пирожки не советую, Ваше высокородие. Поберегите здоровьице. Аполлон Аполлоныч изволил проявить заботу…
– Пошел вон!..
– Не извольте беспокоиться. Исчезаю-с!
Голос у дамы с пирожками и пивом густой, сытый. А зад… «Ой – йой – йой – У нее не зад, а праздничное шествие!» Аристофан бессмертен. Софокл и Еврипид со своим загробным антагонистом Эсхилом – культурное наследие. Дорогое и величественное. Аристофан – сегодняшний день. Можно перечитывать и наслаждаться, не думая о величии и бессмертии. Я бы на месте нынешних, то есть, после царского периода всплывших начальников его бы запретил. Слишком ассоциативен. Или, как нынче принято излагать в кругах номенклатурной аристократии, несет аллюзии. Сказать «намек» они не могли и не могут. Не навевает на статью. Аллюзия же… К стенке уже не поставить, но сломать жизнь, задушить в подворотне – раз плюнуть.
Где-то в самом конце 70-х (может быть, в 80-м) Лев Стукалов поставил «Лягушек». Стукалов – режиссер милостью Божьей. Естественно, каждая его работа в романовском Ленинграде воспринималась как вызов, провокация, эпатаж. Поэтому они были обречены на успех у театральной публики, особенно молодежи, равно как и на раздражение и обструкцию у присматривающих. Если и были фиги, то не в кармане, а на сцене, и произрастали они не от фантазий режиссера, а от внимательного прочтения текста. На самом же деле, это были талантливые, профессиональные и самобытные работы мыслящего художника. В те славные времена мыслить уже разрешалось, но только правильно. Естественно, что «Лягушкам» a priori гарантировались овации. Так и было. После первых реплик Ксанфия и Диониса в зале хохот. «…Вот шуточка отличная… А это: я издыхаю под тяжестью. / Снимите, а не то в штаны…». «Лягушки», Стукалов, а ещё и Романцов в главной роли.
Странно и несправедливо сложилась судьба Александра Романцова, прожившего всего 57 лет. Хотя и удачно – быть ведущим артистом в труппе Товстоногова – счастье, улыбнувшееся не каждому замечательному актеру. Однако попроси сегодняшнего театрала назвать артистов БДТ, всех вспомнят, но не Романцова. И вообще, кроме знатоков и его поклонников вряд ли кто вспомнит. Если только по «Бандитскому Петербургу». Вспомнят Бабочкина и Полицеймако – из старого состава. Владислав Стржельчик – да, Кирилл Лавров, Ефим Копелян, Евгений Лебедев – конечно, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих – бесспорно. Возможно, вспомнят Сергея Юрского, Татьяну Доронину, Наталью Тенякову, Иннокентия Смоктуновского – тех, кто ушел, или кого ушли. По воле великого Гоги или маленького Романова – «злобного гормонального карлика», как справедливо называл всемогущего диктатора Ленинграда заслуженный артист РФ Евгений Иванович Шевченко. В звездной труппе Товстоногова было нетрудно затеряться. Такого состава, пожалуй, не имел ни один драматический театр мира. Не повторяясь, прибавлю лишь Павла Луспекаева, Олега Борисова, Вадима Медведева, Николая Трофимова, Николая Корна, Михаила Данилова, Валерия Ивченко… Это – только мужчины и далеко не все. Однако дело было не только в этом – уникальном созвездии коллег Романцова. Он выпадал из общей атмосферы труппы, атмосферы глубокого, мудрого, реалистического психологизма, из той лучшей традиции русского театра с ее приверженностью к «искусству переживания», по Станиславскому, на которой были воспитаны и питомцы Товстоногова, и изысканная его публика. Романцов был парадоксален в решении даже хрестоматийных ролей, виртуозен (чем, кстати, отличалось большинство его товарищей по театру), но холодно виртуозен, подчас зло виртуозен, тяготел скорее к гротеску и абсурдизму, нежели к реализму, хотя всегда был предельно, болезненно достоверен, был обнаженно эмоционален, но всегда с очень мощным рациональным, интеллектуальным началом. Таким я его помню. Таким он был в «Лягушках». На такого Романцова и устремлялась его публика. Однако кроме него в «Лягушках» работала и прекрасная когорта профессиональных молодых актеров – подвижников Мастерской ленинградского ВТО: Кира Датешидзе – и актер превосходный, и, впоследствии, режиссер оригинальный. Владимир Курашкин и Светлана Шейченко из Пушкинского театра, Люся Кулешова, Ира Яблонская, Володя Сиваков. У каждого – и репутация, и свой шлейф поклонников. Так что успех, повторюсь, был предсказуем.
Однако такого «лома» не припомню. Каждый спектакль – толпа перед входом, милиция, бедная замученная Неля Бродская. Жила она, что ли, в бывшем особняке Зинаиды Ивановны Юсуповой!? Все, что происходило заметного, талантливого и молодого в ВТО было связано с Нелей: капустники, творческие вечера, экспериментальные постановки, творческие клубы и посиделки – она всегда была нервом, двигателем и… охранителем, ибо присматривающие имели тонкое чутье. Естественно, что «Лягушки» тоже лежали на ее плечах. Помимо всех других забот, она ещё головой отвечала за старинные входные двери, пережившие блокаду: чтобы жаждущие и страждущие не снесли их… Помню: проталкиваю жену сквозь плотную наэлектризованную массу агрессивных театралов. Неля, осторожно приоткрыв массивную дубовую дверь ВТО, кричит: «Пропустите, пропустите. Это – актриса, она участвует. А это – ее муж!» – «Знаем этих мужей! Блатные! Не пускай, ребята!»…И так каждый спектакль. Менты дурели, не понимая, в чем фишка. Народ ломился на Аристофана.
Раскаты смеха и аплодисментов сопровождали весь спектакль. Однако кульминационный взрыв случался к концу спектакля, в «Агоне». Казалось, что именно на эти реплики рвался питерский люд конца 70-х.
Эсхил.Город наш, ответь сперва,
Кем правится? Достойными людьми?
Дионис.Отнюдь!
Достойные в загоне.
Эсхил. А в чести воры?
Дионис.Да не в чести, выходит поневоле так.
Шквал.
………………………
Эсхил.…А в годы мои у гребцов только слышны и были
Благодушные крики над сытным горшком и веселая песня: «Эй, ухнем!»
Дионис.От натуги вдобавок воняли они
прямо в рожу соседям по трюму,
У товарищей крали похлебку тишком
и плащи у прохожих сдирали.
Хохот.
Но самый пик восторга публики – изысканной, профессиональной:
Дионис.Другой совет подайте мне, пожалуйста,
Про город: где и в чем найдет спасенье он?
Эсхил.Когда страну враждебную своей считать
Не станем, а свою – пределом вражеским…
Обвал.
Какая аллюзия?? Прямой авторский текст. А то, что Аристофан был провидцем, не вина Стукалова или Романцова. В это время советская армия утюжила просторы Афганщины, оказывая братскую интернациональную помощь местному пролетариату и лично товарищу Бабраку Кармалю.
Самолёт летит – крылья хлопают,
А в нём Кармаль сидит – водку лопает,
Водку лопает, рожа красная,
Он в Кабул летит – дело ясное!
Народ знал, что Бабрак был алкоголиком.
…Утюжила, утюжит, будет утюжить. И не армия, а ограниченный контингент. Всплывшие начальники пользоваться просто русским языком не могут. Только языком глубокого смысла. Не оккупация, а принуждение к миру, не аннексия, а восстановление исторических границ. Банда профессиональных головорезов и мародеров – миротворческие силы. И контингент был очень ограниченный. Только погибших «афганцев» – призывников и профессионалов – в конце концов насчитали около 26 тысяч. Армянское радио спрашивают: «Что такое татаро-монгольское иго?» – «Это временный ввод ограниченного контингента татаро-монгольских войск на территорию Руси». И не утюжит, а оказывает интернациональную помощь. Венгрии, Чехословакии, Анголе, Вьетнаму, Афгану, Грузии, Мозамбику, Украине, далее – везде. Правда, Аристофан этих стран не называл. Всех называть, комедий не хватит. «Почему наши войска послали в Афганистан? – Начали по алфавиту»…
Чудное было время. Народ смеялся. «С кем граничит СССР? – С кем хочет, с тем и граничит!» – смеялись. Замордованная, коммунистами опоганенная, но здоровая, все же, была страна. Нынче же спроси такое про Россию, люто и праведно вознегодуют, тряся бородами и пудовыми крестами на жирных грудях. Хорошо бы, если только бородатые и грудастые, но и утонченные интеллигенты – оппозиционеры и страдальцы туда же, блеснув очками или тюремной стрижкой: «И мы патриоты»… Суверенное, блядь, право. Аполлон Аполлоныч свое дело знает…
…Хотя… Авось и очухаются. Не может же начисто исчезнуть инстинкт самосохранения у великой нации. Ведь проклюнулось из будущего: «”Титаник” присоединил к себе Айсберг. Все в восторге: ”Айсберг наш, Айсберг наш!” Оркестр играет бравурную музыку. Дальнейшее известно»…
Когда-то истинный ленинградец Сергей Довлатов заметил: «Юмор – украшение нации. В самые дикие, самые беспросветные годы не умирала язвительная и горькая, простодушная и затейливая российская шутка. Хочется думать – пока мы способны шутить, мы остаемся великим народом». Времена беспросветные наступили, но что-то (не)затейливой шуткой не пахнет.
«Пиво свежее, остались пирожки с мясом, лимонад, печенье…» Лицо задумчивое, отрешенное, розовое. Глаза с поволокой. А зад… Надо же придумать: «… а праздничное шествие»…
Тени, тени… Генерал-фельдцейхмейстер шотландец Яков Брюс, младший брат Романа Брюса, первого обер-коменданта Санкт-Петербурга, осматривает окраину немецкой слободы. Топко, гибло. Однако вверенному ему Литейному двору необходима лютеранская церковь и школа при ней. Капля в море. Но капля и камень точит. Сам Яков Вилимович знает шесть европейских языков, его личная библиотека насчитывает полторы тысячи томов, сейчас он заканчивает русско-голландский словарь. Им созданный учебник по геометрии – первый в России – уже обязателен в Навигационной школе. Поэтому его не любят – белая ворона – называют чернокнижником, чародеем, масоном. Последнее – верно. Яков Вилимович – первый русский масон. Не любят, но держат. И Петр Лексеич жалует, и сам Яков Вилимович сторонкой держится, не в подозрении, что какой партии благоволит, но, главное, как без него артиллерию наладить и науки вводить… Стоп! Место для кирхи выбрано. Полностью достроенное здание было освящено в Вербное воскресенье 1722 года, Богослужение провел Пастор-на-Неве – Иоганн Леонард Шаттер. Яков Брюс, уже в графское достоинство возведенный в знак Высочайшей благодарности за дипломатическую викторию на Ништадтском конгрессе, был доволен своим выбором. Славная кирха…
…Бал выпускников Анненшуле – школы при Анненкирхе. Играет Преображенского лейб-гвардии полка духовой оркестр. Оркестр недавно вернулся из Франции. Там на Всемирной выставке 1897 года в Париже он был признан лучшим духовым оркестром. Командующий полком Великий князь Константин Константинович доволен своим детищем. Он также присутствует на балу. Директор Анненшуле, знаменитый педагог и администратор Йозеф Кениг, произносит в актовой зале на втором этаже (просторной – потолки в два пролета – гулкой, светлой) приветственное слово. Среди присутствующих выпускников прошлых лет В. В. Струве, П. Ф. Лесгафт, Э. Э. Эйхвальд, А. Ф. Кони, А. К. Беггров. Жаль, одноклассник наш, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, не дожил, но он – вместе с нами, господа… Царство теней.
…Тени, тени. Молодые энергичные люди гурьбой устремляются к «Спартаку». Два часа перерыв. Как раз успеют на сеанс. Заодно и сентябрьским бодрящим воздухом подышат. От Дома офицеров до «Спартака» – шагов сто – сто пятьдесят. Удобно! В просторном зале душно, так как процесс открытый, народу допущено чрезмерно. Поэтому работать трудно. Хохотать, свистеть, улюлюкать, аплодировать обвинителю. Заморишься в душегубке. А тут такой подарок судьбы – перерыв. Что там в «Спартаке»? «Искатели счастья». Отлично. Этот Пиня – умора. Уж эти еврейчики. Оп-па. Фильм заменен. Но и «Кубанские казаки» хорошо. Новое кино. Праздничное. Соответствует настроению. Сразу показалось странным, что ещё пускают фильм с арестованным Зюскиным и прочей братией. Ротозеи поплатятся, слов нет! Кубанские пролетели незаметно, и опять в зал. Выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР продолжает проведение открытого процесса участников «Ленинградского дела». Через четыре года, в 1954 году, в том же зале работать будет значительно легче. Публику на выездную сессию Военной коллегии почти не допустят. И правильно. Незачем афишировать процесс по делу организаторов «Ленинградского дела»: В. С. Абакумова, А. Г. Леонова и других членов банды Берия. Дышать в зале будет легко. Опять-таки можно сбегать по тонкому декабрьскому снежку в «Спартак», благо, недалеко – шагов сто – сто пятьдесят. Слов нет, хорошо работать в Доме офицеров. Вот если бы все процессы над врагами здесь проводили. А не танцы с концертами!
На работу – с радостью, с работы – с гордостью!
…Билеты, как сказала мама, нам достались хорошие. В двенадцатом ряду, середина. Мне будет плохо видно, но папа возьмет меня на руки. Я ещё не подозревал, что перед сеансом будет мороженое и концерт настоящих артистов. Я очень волновался. Нервный был мальчик. Волнительный.
Я волновался каждый раз, когда что-то делал впервые. Когда шел впервые в театр. Театр был самодеятельный, и мне очень понравилось. Название помню – «Слуга двух господ», а в чем там дело, забыл, да и не понял тогда, честно говоря. Помню, что очень понравилось. Самое хорошее было то, что с папой все здоровались, а папа говорил: «Это мой сын». И все восхищались. На сцене играли папины студенты. Мы сели на четырнадцатый троллейбус на остановке на углу Литейного и Пестеля, прямо напротив фотоателье, в витрине которого стояла большая моя фотография – я с белокурыми кудряшками. Мне эта фотография не нравилась: я был похож на девочку. Вообще, в очередях меня часто путали и называли девочкой. Поэтому я ненавидел очереди в магазинах, ломбарде, поликлинике и всюду. На четырнадцатом мы доехали до Технологического института, где папа работал, и пошли смотреть «Слугу двух господ».
Интересное тогда было время. В институтах были студенческие театры. Самый известный – театр-студия Университета. Ещё в 1949 там прозвучал студент философского факультета Игорь Горбачев. «Ревизор»! Я тогда этот феномен не заметил, но позже, в фильме, оценил. Философ из студийца Евгении Владимировны Карповой не получился, но Хлестаков – отменный. Лучшая роль народного артиста СССР. Пик. Будущий юрист – не состоявшийся, к счастью! – Сергей Юрский дебютировал в постановке «Тартюфа». Это уже, если не ошибаюсь, год 55–56-й. Премьера была шумной. Студент юридического факультета стал сразу же знаменит и любим. Помимо искрометного, умного и глубокого таланта за Юрским почему-то закрепился флер некоего слабовыявленного, но притягательного нонконформизма. Филологами Татьяна Щуко и Иван Краско не стали, как не стал юристом популярнейший в свое время Леонид Харитонов («Иван Бровкин») или физиком Нелли Подгорная – звезда театра Советской армии, блистательно дебютировавшая в популярном некогда фильме «Дело Румянцева», а затем исчезнувшая с экранов, но советское искусство без этих и многих других имен студийцев талантливого подвижника Карповой было бы ущербно. «Ивана Бровкина» я смотрел в «Спартаке» с мамой и папой, а «Дело Румянцева» в дощатом летнем кинотеатре в Репино. Смотрел, переживал. Что-то было свежее в этих фильмах. Не напыщенно-лубочное.
Техноложка таким обилием имен не блистала. Хотя один Андрей Мягков – актер уникальный и личность во всех отношениях безупречная – дорогого стоит. Мало того, что женат – раз и навсегда. Никаких склок, скандалов, громких разводов, пьяных дебошей. И не представить подпись Андрея Васильевича под какой-нибудь гнусью рядом с подписью, скажем, Ланового, Говорухина или Михалкова. Главное же, он учился у папы. Играл ли он в «Слуге» – не знаю, не помню. Помню, что обратил на себя внимание он в «Лесной песне». Хотя неотчетливо… А «Слуга» мне очень понравился, но главное – папу все любили. Так мне казалось, и я был горд, что он – мой папа. Я ещё был пару раз у папы на работе. Один раз, когда мама лежала в больнице с аппендицитом. Папа вел лабораторные работы, а я бегал. Вошел Петр Григорьевич Романков – папин большой начальник. Несмотря на это, папа его любил. Я это чувствовал. По интонациям в голосе, по глазам. Мне казалось, что Петр Григорьевич был, как и папа, из «старорежимных». Романков, судя по всему, отвечал папе взаимностью. Многолетний проректор по науке, впоследствии член-корр. АН, папин зав. кафедрой, он обладал непоколебимым авторитетом и реальной властью. Вот он, войдя, и сказал, показывая на меня: «Это наш будущий аспирант бегает!» Я расстроился и запомнил, так как знал, что Романков – это сила, и его слова могут воплотиться в жизнь, а это было нежелательно: я был уверен, что аспирант и лаборант – это примерно одно и то же. Я – блокадный ребенок – часто болел, и мы с мамой носили в баночках мои анализы в детскую поликлинику, дом № 24 по Петра Лаврова – ту самую Фурштатскую, в бывший особняк в стиле «модерн» князя Кочубея, который адъютант наследника цесаревича Николая, а затем генерал-адъютант Императора Николая Второго, Начальник Главного управления министерства Императорского Двора и Уделов, помните? Представить, что я всю жизнь буду анализировать содержимое ночных горошков незнакомых мальчиков и девочек, я не мог. Поэтому аспирантом на Кафедре процессов и аппаратов химической промышленности не стал. А кем я стал? Кто я? Агент Аполлона Аполлоныча? Или его повелитель? Наемный убийца или пианист? Или псих ненормальный? Залы в особняке князя Кочубея и его жены княгини Белосельской-Белозерской были оббиты дубом, помню шикарные изразцовые печи, камины, лепнину. Лепнина была серая от пыли и напоминала то ли рожу сказочного злодея, то ли карту фантастической страны, изразцы печей растрескались или отвалились, стены были загажены бумажными объявлениями, плакатами ДОСААФ, прошлогодними стенгазетами, портретами полоумных старцев со звездами на груди. Камины служили урнами для отходов. Врачи были, как всегда, нищими, но тогда лечили хорошо. Без аппаратуры. У них были чистые мягкие руки и добрые глаза.
…«Угол Салтыкова-Щедрина». Родные слова. Всю жизнь с ними. Когда-то эту новость сообщала женщина-кондуктор с разноцветными катушками билетов на перманентно полной груди, сидевшая в дощатом загончике у входа в деревянный трамвайный вагон. Позже – вожатый, в хриплый матюгальник. Вагон уже металлический. Слова были неразборчивы, но интонация доброжелательная. Иногда с шутками или в стихах. «Угол Восстания и Бассейной. Выходи, пассажир рассеянный». – «Следующая – Литейный. Выходи, пассажир питейный!». Действительно, там был лабаз и около него очередь. Затем – механический голос без интонации, в прозе: «Следщ остнк угол сщсщср и л-ит-т-т-ттт», – окончание загадочной фразы договаривалось непосредственно перед следующей остановкой «Улица Петра Лаврова». На углу Петра Лаврова и Литейного тоже был гастроном. Меня там – в винном отделе – знали в лицо. Со временем винный отдел исчез. Исчез и я.
Вот и Тверь. Долго стоять не будем. Это раньше можно было выйти и выпить пива. Почему-то кажется, что в Калинине – Твери пиво было неразбавленное. Неразбавленное пиво, молодая Волга, «Черное домино» – это моя Тверь. Знаменитая опера Обера была написана в 1837 году. А в 1965 году эту оперу привезли в славный град Калинин – не состоявшуюся, увы, столицу России – студенты Оперной студии Консерватории. Даниэль-Франсуа-Эспри был интересной личностью. Помимо нескольких десятков опер он – автор гимна Франции La Parisienne (1830–1848 гг.). Дуэт Amour sacre de la patrie из «Немой из Портичи» воспринимался как вторая Марсельеза, а представление этой оперы с великим Адольфом Нурри в главной партии в Брюсселе 26 августа 1830 года имело такой успех, такой резонанс, что вызвало революцию, приведшею к отделению Бельгии от Нидерландов. Сила искусства! Сам композитор – «автор второй Марсельезы» – умер от разрыва сердца в мае 1871 года, не выдержав ужасов Парижской коммуны.
Никаких политических потрясений «Черное домино» в Калинине не вызвало, да и Нурри уж давно ушел в мир иной. Но пили мы хорошо. Сначала труппу Оперной студии во главе с Юрием Симоновым (впоследствии – главным дирижером Большого театра) привезли в Клин. Тогда всех близлежащих возили поклониться Чайковскому – официальному гению. Экскурсию, конечно, я вел самолично. Говорить про соловья, разливавшегося не хуже того самого Нурри, бессмысленно. Это надо было видеть и слышать. Но после всех слов и надписей в книге почета, труппу увезли обратно в город к вечернему спектаклю. Но я не так был прост, чтобы упустить случай – и уже договорился…
Солнечное утро, набережная Афанасия Никитина, белеющий вдалеке Свято-Екатерининский монастырь с зеленоватыми куполом и шпилем, гладь ещё робкой, но набирающей мощь Волги, особенно после воссоединения с Тверцом и Тьмакой, цепляющаяся руками за нашу лодку девушка с ореолом распластанных по воде густых длинных волос. Ее зовут Аннушка. Она кокетливо смеется и обещает прийти на спектакль. Конечно, обманула. Мы – ещё трезвые. Утро. Памятник Михаилу Ярославовичу. Путевой дворец Екатерины Второй. Приветливые люди. Чистота. Покой.
Я в спектакле не пел и не танцевал, поэтому подкрепился заранее. Что там происходило в «Черном домино», не помню, да я и не прислушивался, не присматривался. Я ждал окончания. Ждал не напрасно.
…Как хорошо, что на фаготе в оркестре играл мой любимый фаготист и человек – Евгений Зильпер. Потом два дня голова напоминала гулкий чугунный колокол, и клинские экскурсанты ликовали от затейливо причудливой дикции экскурсовода, язык которого реагировал на нечеткую мысль в мозгу больной головы с опозданием и недоумением.
Чудный город Калинин. Чудный город Тверь. Ежели не сожгли бы его совместными усилиями монголы с москвичами Ивана Калиты в 1327 году, ежели бы не продолжавшееся изнурительное противостояние с Ордой и Москвой, противостояние героическое и успешное – в 1293 году ордынский полководец, царевич Дюдень со своей «Дюденевой ратью», разоривший Коломну, Владимир, Муром, Суздаль и другие мощно укреплённые города, не решился штурмовать Тверь. Сам Дмитрий Донской в 1375 году не смог взять этот город, – так вот ежели бы не противостояние, длившееся столетиями, когда Тверь была самым мощным и непримиримым противником Орды, то быть бы Твери столицей Российского государства (коей и была с 1304 по 1327 год). И жили бы мы в другой стране. В другом мире. Княгиня Тверская Анна (Ка?шинская – благоверная) – жена казненного в Орде князя Михаила Ярославовича Тверского, мать казненных там же князей Дмитрия Грозные Очи и Александра Тверского, а также бабушка казенного там же внука Федора Александровича – не случайно добивалась – и добилась брака своего сына Димитрия с дочерью Великого князя литовского Гедимина – Марией. Тесные связи развивались долго, пока последний тверской князь Михаил Борисович не бежал в Литву. Это было в 1488 году, когда Иван III, наконец, не отвоевал Тверь… Значит, не срослось. Не суждено было нам жить в Европе, а суждено оставаться громадным осколком почившей Золотой Орды.
Чудный город Тверь. Больше я там никогда не был.
Я приехал в Ленинград. На двадцать пятом или девятнадцатом добренчал до Дома офицеров и сошел.
Дом офицеров… Мимо него я ходил каждый день. В школу, фланируя с потрепанным портфельчиком в руках, надеясь, что пронесет. Чаще – из школы, когда домой лучше было не торопиться. Переваривая исключение из школы, помню, долго стоял и разглядывал рекламные щиты. «Курсы кройки и шитья. По вторникам и четвергам с шести до восьми вечера. Запись в билетной кассе». Билетная касса размещалась на углу Литейного и Кирочной, а за углом, со стороны Салтыкова-Щедрина, была моя придворная парикмахерская, пол-этажа вверх. «Вам полубоксик или полечку? Канадочку? С одеколончиком, конечно!.. Нет?!» – вздох разочарования. Стрижка рывками, больно. «Одеколоном поливать не надо, но запишите»! Руки делаются ласковыми, порхающими. Неужели и тогда были приписки? Ненавижу «Шипр» не менее «Тройного одеколона». Пахнет офицерами. «Лекция о международном положении. Лектор – канд. истор. наук полковник…» – фамилию кандидата-полковника не помню. «Вам – женщины! Концерт артистов Ленэстрады. Участвуют: засл. арт РСФСР Леонид Кострица, орденоносец Герман Орлов, артисты эстрады Аркадий Стручков и Юрий Аптекман, Алла Ким и Шалва Лаури, Генрих и Вера Сиухины, Михаил Павлов и др. Ведет концерт Владимир Дорошев». «Занятия Фотокружка отменяются». «Музы не молчали. К 15-летию снятия блокады Ленинграда. В концерте принимают участие: орденоносцы Ольга Нестерова и Анатолий Александро?вич, Александр Перельман, лаур. межд. конк. Валерий Васильев, Юрий Шахнов. Лектор – Григорий Полячек».
Какие имена! Классика советской эстрады! Однако тогда эти фамилии мне ничего не говорили. Я и не вчитывался. Не до того было. Значительно позже Судьба осчастливила меня знакомством и сотрудничеством с ними. Тогда же надо было являться домой с вызовом к директору. Знакомо было «Александро?вич», да и то потому, что был популярен Михаил Александро?вич, и я принимал Анатолия за Михаила. Мама его очень любила – Михаила. Тогда было три партии, кроме коммунистической. Партия Лемешева – «сыры» – самая многочисленная и шумная, фанатичная. Партия Козловского – я не был знаком с членами этой партии, и партия Михаила Александро?вича. Это была спокойная интеллигентная партия. Полуконспиративная, хотя Сталин и ценил этого синагогального кантора, любил его голос, действительно, уникальный. И ещё знал (я, а не Сталин) голос Перельмана. Я после войны часто болел и, лежа в кровати с завязанным горлом, слушал радио. Завораживающий голос. Голос с интонациями русского аристократа, говорок уральского – бажовского – мастерового, переливчатая вязь местечкового мыслителя или прованского хитреца – Брюньона. Всегда голос мудрого и благородного человека. Петербуржца. Короля Лира. Позже я понял, как мне повезло в те голодные послевоенные ленинградские годы, когда я часто болел. Александр Абрамович Перельман.
– Ну, что, голубчик пианист? Небось в штаны наложил. Боиш-ш-шься, Борис Николаевич на дуэль вызовет?! Боиш-ш-шься!
– Ничего я не боюсь!
– Отчего же-с, хотелось бы знать…
– В связях, голубчик посыльный Аполлона Аполлоныча, я с чужими женами, внучками великих химиков не состою. И не помышляю.
– Не состоите. Но в скважинку заглядываете. Его творением вдохновляетесь. Своего не хватает-с!
– Со свечей стояли?
– Из доносиков знаю. Стучите-с помаленьку…
– Но не по принуждению, а по велению сердца.
– Как Александр Александрович?
– Не хапай, сука, великого поэта!
– Это кто великий? «В белом венчике из роз» – большевикам продался.
– Он не продался – соблазнился, а ты, пидор македонский, запродан им.
– Нет, голубчик, я не запродан им. Я «им» и есть. А ты у меня на посылках.
Я и впрямь не боялся. Дуэль так дуэль. И не вызовет. Так как помер. А коль бы и не помер, Белый – это не Гумилев. Хотя и Гумилев промахнулся, стреляя в Волошина. Приспичило им из дуэльных пистолетов XIX века стреляться. Нет, чтобы из ППШ шарахнуть друг друга… Я одного боялся. До ужаса. До леденеющих кончиков пальцев. Вдруг прав Бунин?! Вдруг автор моего любимого «Петербурга» вернется в Совдепию?
Вернется.
Чудное было время. Жизнь состояла из событий. Хорошая передача по радио (скажем, «Театр у микрофона» с великими МХАТовскими актерами, или трансляция «Евгения Онегина», или «Невидимого града Китежа» из Большого театра) – событие. Письмо – событие. Тогда писали письма. Писали, переписывали, вымарывали, обдумывали, редактировали. Оставались черновики. Черновики, варианты – порой бесчисленные – художественных произведений, статей, воспоминаний. Вели дневники. Всё это – черновики, правки, зачеркнутые, но прочитываемые фрагменты черновиков и правок, – осталось, и все эти письма, дневники, варианты порой значили больше для понимания этих произведений, их авторов и того ушедшего времени, нежели беловые публикации.
Позвонить по телефону – событие. Небольшое, но событие. Надо было наменять пятнадцати-, а позже, с января 1961 года, двухкопеечные монеты, найти будку с работающим аппаратом, а лучше несколько будок рядом, чтобы никто не стоял над душой, сосредоточиться и набрать номер. А-1-11-83 – «Самарий Ильич, это Саша». И сердце выскакивает из груди. Или: «Алло, позовите Тамару, пожалуйста!» Номер этого телефона забыл. Все стал забывать.
Поход в кино был событием. Билеты брали заранее, иногда за несколько дней, часто выстаивая в очередях. Или покупали абонементы. Так было вернее. Иначе на некоторые фильмы было не попасть. На вечерние сеансы шли за полчаса. Как минимум. До сеанса был концерт. До концерта – мороженое. В нашем придворном «Спартаке» мороженое было в большом алюминиевом бидоне. Бидон помещался в тележке со льдом. Приветливая пожилая женщина, с которой мои родители всегда здоровались и перекидывались фразами о погоде или предстоящем фильме, – мороженщица сама была киноманом и разбиралась в кинопродукции, отдавая предпочтение трофейным фильмам, в чем сходилась с моими предками. Она выскребала большой, сделанной из того же алюминия ложкой необычайно вкусное мороженое – белые, розовые или бежевые крупные ребристые шарики со стружкой, – аккуратно, но плотно вдавливала его в хрустящий, почти прозрачный вафельный стаканчик и результат своих трудов взвешивала. Стаканчик был вкуснее самого мороженого и съедался на сладкое. Я больше никогда такого мороженого из такого стаканчика не ел. Как звали женщину, не помню. Помню фильмы и концерты перед сеансами, когда на сцену выходила женщина в длинном бархатном платье темно-зеленого цвета и громко пела: «Казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки…» или арию Марицы. Оркестры тогда были, как правило, высокого уровня, там часто играли музыканты лучших симфонических оркестров города – подхалтуривали. (Так, значительно позже, в начале 60-х, в кинотеатрах перед сеансами играли на альтах, будучи ещё студентами, Юрий Темирканов и Юрий Симонов, впоследствии – выдающиеся дирижеры). Исполнялась не только советская эстрадная музыка, но популярная классическая. Лучший камерный коллектив в то время работал в «Художественном» на Невском, там подрабатывали в свободное время оркестранты из Заслуженного коллектива или Кировского театра. (До войны в «Художественном» играл джаз Якова Скоморовского и пела Клавдия Шульженко, известная лишь завсегдатаям этого кинотеатра).
Интересная вещь – память. Избирательная и щадящая. Вот помню женщин-кондукторов только с перманентно полной грудью, хотя были и худенькие, изнеможденные. Но юный глаз останавливался на полногрудых. Поэтому и запомнил. Были и мужчины-кондукторы. Их почему-то было жалко. Мужчина-вагоновожатый – это нормально, а кондуктор – жаль. Поэтому и не запомнил. Так и с фильмами.
«У стен Малапаги» я не смотрел, но помню. Это – где-то 50-й год. Я пошел в первый класс. Меня на этот фильм не брали. Маленький ещё и не пойму. Но мама плакала после этого фильма. Это я знал. И они с папой смотрели его несколько раз. Перед «Спартаком» на чугунной ограде висели стенды с фотографиями из идущих и предполагаемых фильмов. С левой стороны от ворот то, что идет сегодня, а с правой – то, что планируется. Я долго стоял у фото, пытаясь домыслить, дофантазировать, что же там происходит, почему мама плакала. Запомнилось лицо мужчины. Это был молодой Жан Габен. Казалось, что он – какой-то преступник, но хороший. И ещё – лестница. Обшарпанная и безнадежная.
Мама плакала редко. Ещё раз после кино она плакала через несколько лет. Это были «Летят журавли». Папа никак не мог ее успокоить. У нее случилась истерика. Они стояли на Невском, и люди, покидавшие после сеанса кинотеатр «Нева», обходили их и не удивлялись. Многие плакали. Тогда, в 1957 году, прошло всего 12 лет после войны. И время было чудно?е – люди не разучились плакать и сопереживать. И фильмы вдруг стали способствовать состраданию, любви, пробуждению памяти. Даже если она горькая.
Все было событием. Не только поход в кино, но и сами фильмы. Некоторые становились вехами в сознании, определяли стиль поведения, вскрывали нечто потаенное и неосознанное. У разных людей, у людей разного социального положения, образования, уровня культуры это были разные фильмы, но были такие ленты, которые покоряли всех, причем совсем неожиданно и часто вопреки своим художественным достоинствам. Одним из первых таких фильмов был «Бродяга», ошеломивший советского человека в самом конце 1954 года. Стали одеваться «под Капура». Пацаны называли лидеров своих дворовых или школьных ватаг Джаггой. Девочки бредили Наргис. Мальчики тоже. Песенка бродяги – «Авараву» или что-то в этом духе – «Бродяга я – а-а-а-а» – возглавила список заказов «Концертов по заявкам». А это была самая популярная радиопередача.