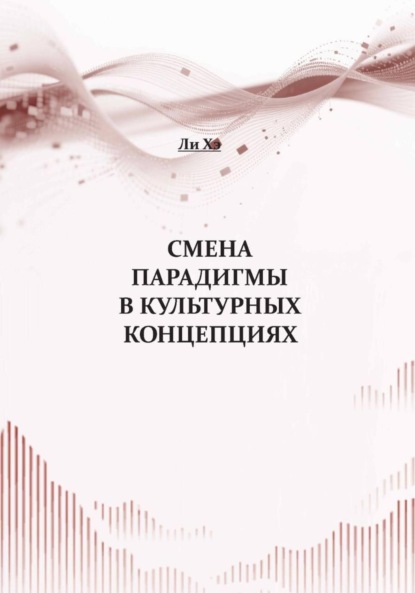
Полная версия:
Смена парадигмы в культурных концепциях
Раздел первый
Новые культурные концепции и современная китайская политика в области культуры
Развитие гуманитарных и общественных наук в эпоху “экономики знаний”
1
I. Однобокое понимание “экономики знаний”
В 1996 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в состав которой входят 24 развитые страны, подтвердила в докладе, озаглавленном “Экономика, основанная на знаниях”, что “знания” являются ключевым экономическим ресурсом, а “экономика знаний” – это “экономика, основанная на производстве, распределении и использовании знаний”. Такая формулировка точно раскрывает сущностную взаимосвязь между знаниями и современной экономикой.
Учитывая экономическую динамику развитых стран, отечественные ученые проделали значительную работу по переводу, представлению и обсуждению темы “экономики знаний”. Ее цель – разработать стратегию экономического развития нашей страны, которая все еще находится в переходном периоде, в соответствии с требованиями экономики знаний.
Однако мы заметили, что дискуссия внутри страны об “экономике знаний” за последние два года, хотя и носила ярко выраженный прагматический характер, вместе с тем продемонстрировала характерный недостаток глубины социально-исторического анализа и динамики аналитического переосмысления концепций. В результате возникает следующее однобокое отклонение:
Многие ученые привыкли сужать понятие “знания” до “научно-технических знаний”, поэтому они просто понимают “экономику знаний” как “интеллектуальную экономику” или “экономику научно-технических знаний”. Соответственно, они рассматривают знания в области гуманитарных и общественных наук, тесно связанные с культурными ценностями, как “неэкономический фактор”, далекий от сферы экономического развития.
Исходя из вышеизложенного, некоторые ученые проявляют склонность к “диспропорции” при разработке стратегий экономического и социального развития нашей страны, то есть придают большое значение высокотехнологичным характеристикам “экономики знаний” и пренебрегают ее высококультурными характеристиками; подчеркивают важность трансформации научно-технических знаний в производительные силы общества, но относительно игнорируют институциональную гарантию этой трансформации, не говоря уже о том, что эта гарантия в конечном счете зависит от потенциала институциональных инноваций, основанных на знаниях в области гуманитарных и общественных наук.
Принимая во внимание вышеуказанную однобокость, в данной статье мы намерены аргументировать важность развития гуманитарных и общественных наук в эпоху “экономики знаний” с точки зрения следующих двух аспектов:
Во-первых, “экономика знаний” – это не только экономика высоких технологий, но и экономика высокой культуры.
Во-вторых, чтобы соответствовать эпохе “экономики знаний”, необходимо не только развивать “производительные силы, основанные на знаниях”, но и повышать “потенциал институциональных инноваций, основанных на знаниях в области гуманитарных и общественных наук”.
II. “Экономика знаний” – это экономика, сочетающая высокие технологии и высокую культуру.
Когда речь заходит об “экономике знаний”, люди чаще всего обращают внимание на ее высокотехнологичные характеристики и систему показателей, выражающую эти характеристики, а не на ее гуманитарные особенности или культурное содержание. Это, несомненно, может привести к однобокому пониманию сути “экономики знаний”.
Итак, почему же может возникнуть такое восприятие с предпочтением технологий и принижением гуманитарной составляющей? Очевидно, это происходит не потому, что существование технологий более интуитивно понятно, чем культуры, и не потому, что степень кодирования технических знаний намного выше, чем гуманитарных знаний – ведь на самом деле понимание людьми музыки, видеозаписей или газет и периодических изданий намного проще, чем понимание технических носителей, на которые загружается эта информация.
Причина такого подхода кроется в том, что люди долгое время неизменно считали, что технологии и экономическое развитие имеют неотъемлемую причинно – следственную связь. В то время как гуманитарные знания, которые влияют на эстетические вкусы, нормы поведения, жизненные убеждения и различные ценностные суждения людей, всегда рассматривались как идеологические факторы, далекие от экономической сферы. Это “неэкономические факторы”, которые не могут принести экономической выгоды, и даже в традиционном китайском обществе они неизменно были сдерживающим фактором экономического развития.
Однако по мере комплексного развития современной экономики, общества и культуры, гуманитарные знания, которые всегда рассматривались как “неэкономический фактор”, начали вступать в новые, существенные взаимосвязи с технологиями, продуктами и отраслями, составляющими содержание традиционной экономики. Более того, в рамках отрасли знаний гуманитарные знания непосредственно превратились в ресурсы, приносящие огромные экономические выгоды. Это можно объяснить следующими четырьмя аспектами:
1. Относительно технологий, основанных на знаниях, в эпоху до “экономики знаний” единственной целью технологических инноваций было повышение производительности труда и снижение трудовых затрат. Однако с наступлением эпохи экономики изобилия, в связи со все больше растущим влиянием технологий на выживание человека и окружающую среду, а также в связи с улучшением вкусов и грамотности потребителей, технологии все больше перестают быть одним замкнутым процессом, который развивается по собственной инерции и логике, и превращаются в систему деятельности, тесно связанную с интересами человека, требованиями моды, экологическим сознанием и даже моральными оценками. Технологии должны не только удовлетворять материальные потребности людей, но и во все большей степени удовлетворять их духовные и культурные потребности. Точно так же люди, которые разрабатывают и осваивают технологии, как человеческий капитал, являются не только техническими специалистами, но и в большей степени деятелями культуры. В итоге, “предметно – ориентированные” технологии с единственной целью повышения производительности труда трансформируется в “человеко – ориентированные” технологии.
2. Относительно продуктов, основанных на знаниях, в эпоху до “экономики знаний” продукты, в основном, имели “предметную” форму, их потребительная стоимость, главным образом, определялась их физической полезностью, а срок службы продукта, главным образом, зависел от степени физического износа продукта. Однако в эпоху “экономики знаний” содержание знаний в продуктах значительно возросло. Оно включает в себя человеческие знания, которые помогают повысить степень комфортности, эстетику и культурное значение продукта, включая управление коммерческим предприятием, маркетинг и другие знания, связанные с человеком. Таким образом, физическая форма продукта всё больше становится носителем определенной потребительской концепции и даже образа жизни. А его рыночная жизнеспособность и жизненный цикл часто зависят не от его видимых физических свойств, а от его нематериальных культурных характеристик.
3. Относительно отраслей, основанных на знаниях, в эпоху индустриальной экономики трудоемкие и капиталоемкие отрасли, производящие материальную продукцию, а также тесно связанные с ними секторы транспорта и сбыта занимали доминирующее положение в распределении ВВП. Однако в конечном счете в эпоху экономики знаний, наукоёмкие отрасли производства и основанный на знаниях третичный сектор составляют основную часть структуры ВВП. Следует отметить, что упомянутые здесь “наукоемкие отрасли производства” относятся к высокотехнологичным отраслям, а также включают в себя отрасли “с высокой культурой”, представленные средствами массовой информации и индустрией развлечений (такими как радио и телевидение, аудио- и видео продукция, газеты и периодические издания, художественные представления, спортивные соревнования и т. д.), туризмом, образованием, консалтингом, юридическими услугами, дизайном одежды и т. д., то есть индустрией высокой культуры. Таким образом, “экономика знаний” – это именно экономика, сочетающая высокие технологии и высокую культуру.
Согласно публикации в еженедельнике «Кэсюе Синьвэнь» («Научный еженедельник») от 31 мая 1999 года, Североамериканская система классификации отраслей США пересмотрела критерии классификации “информационной индустрии”: промышленность по производству компьютерного и коммуникационного оборудования “исключена” из сферы информационной индустрии и причислена к новой отрасли традиционного промышленного производства; в то же время печатные, кино- и аудиовизуальные издания рассматриваются как основная часть “информационной индустрии”. Это означает, что “информационная индустрия” превратилась в “индустрию информационных продуктов”, то есть продуктов “высокой культуры”, представленных “высокими технологиями” в качестве основной отрасли.
4. Относительно современного глобального рынка, культурный рынок становится все более важной частью современного мирового рынка. В результате индустрия культуры начала оказывать беспрецедентное стратегическое влияние на мировое устройство: высокие технологии способствовали глобализации традиционных рынков; в ходе этого процесса продукты высокой культуры, производимые высокотехнологичными институтами развитых стран, вместе с их системами ценностей также увеличили свое проникновение и влияние на другие культуры. В эпоху экономики знаний прочные позиции развитых стран зависят не только от их высокотехнологичной мощи, но и от силы их культурного влияния.
Согласно “Чжунго Иньсян” (Китайские аудиовизуальные материалы), выпуск № 30 за 1998 год, индустрия культуры США с 1983 года и по сей день сохраняет тенденцию к постоянному росту. Среди них положение аудиовизуального сектора, который специализируется на производстве информационных и культурных продуктов, производимых с помощью информационных технологий, в национальной экономике стремительно поднялось с 11-го места в 1985 году до 6-го места в 1994 году, став вторым по величине экспортным товаром, уступая только экспорту самолетов и занимая 40% международного рынка.
По данным “Хуаньцю шибао” (Глобальные времена) от 6 августа 1999 года, более 90% новостей, распространяемых в настоящее время по всему миру, монополизированы США и западными странами; США контролируют производство и создание 75% мировых телевизионных программ. Во многих странах третьего мира от 60% до 80% программ поступают из США, что практически делает их основной вещательной станцией американского телевидения, в то время как на собственном телевидении США доля иностранных программ составляет всего 1-2%; на кинопродукцию США приходится 6-7% от общего объема мирового кинопроизводства, но она захватила более 50% всего экранного времени. По предварительным подсчетам в глобальном Интернете содержится менее одной десятитысячной доли информации на китайском языке, в то время как англоязычная информация, которая не контролируется Западом, также не достигает одной десятитысячной доли.
Эта агрессивная тенденция культурной экспансии вызвала беспокойство во многих странах. Недавно даже Канада, уровень экономического развития которой близок к уровню развития США, заявила о необходимости противостоять “гегемонии Голливуда”.
Для сравнения, индустрия культуры нашей страны демонстрирует стремительное развитие технических средств и серьезную нехватку творческой продукции. Также в аудиовизуальной индустрии в нашей стране сформировался огромный рынок технических средств: 350 миллионов телевизоров, более 100 миллионов магнитофонов, более 30 миллионов домашних видеомагнитофонов, более 10 миллионов CD-проигрывателей, более 5 миллионов проигрывателей LD DVD, более 10 миллионов VCD-плееров и более 15 миллионов мультимедийных компьютеров. Потенциальный спрос на различную медиапродукцию составляет более 100 миллиардов юаней. Однако из-за отсутствия четкой политики в индустрии культуры и эффективных мер управления рынок аудиовизуальной продукции нашей страны находится в состоянии крайнего хаоса, и он даже стал местом беззастенчивого демпинга и наводнения культурными продуктами (некоторые из которых являются культурным мусором) развитых стран. Согласно статистике, в 1996 году объем продаж лицензионной аудиовизуальной продукции в нашей стране составил всего 2 миллиарда юаней, в то время как объем пиратской продукции примерно в 10 раз превышал объем лицензионно выпускаемой продукции и составлял более 20 миллиардов юаней, а по оценкам некоторых экспертов, общая сумма составляла более 60 миллиардов юаней.
Приведенный выше анализ показывает, что в эпоху экономики знаний концепции технологий, продуктов, отраслей, рынков, будущая геополитическая структура мировой экономики и другие концепции претерпели фундаментальные изменения: “гуманитарные знания” не только оказывают все большее влияние на все аспекты современной экономики как проникающий фактор, но и также непосредственно превратились в объект индустриализации, который необходимо производить, распространять и потреблять. Что еще более важно, инновационный потенциал в области культуры, способность к оценке и коммуникации, представленная индустрией культуры, стали важным стратегическим ресурсом, который не может игнорировать любая страна, стоящая перед лицом “экономики знаний”, и который связан с расцветом и упадком страны.
Ввиду этого, если мы хотим построить нашу собственную “национальную инновационную систему”, мы должны обращать внимание на культуру как на экономический и стратегический ресурс; мы должны принять надлежащие меры, чтобы сбалансировать соотношение между высокими технологиями и высокой культурой. Концепция “экономики знаний”, которая фокусируется на высоких технологиях и игнорирует высокую культуру, в конечном счете, в ее понимании основана на концепции “знаний” “до экономики знаний”. Это уже серьезно ослабило жизнеспособность и конкурентоспособность индустрии культуры нашей страны и усугубило дисбаланс в экономическом, социальном и культурном развитии нашей страны. Если мы будем продолжать придерживаться этой концепции, рано или поздно возникнет ситуация, когда наши высокие технологии будут создавать базу, а другие люди будут проводить на ней мероприятия высокой культуры. На самом деле, это уже стало частью сегодняшней реальности. Это ставит нашу страну в стратегически пассивное положение в уже наступившей глобальной культурной конкуренции.
III. Создание “Национальной инновационной системы” – это основанный на знаниях проект институциональных инноваций
В качестве стратегического плана, направляющего нашу страну к достижению всеобъемлющих экономических и социальных трансформаций, “Национальная инновационная система” нашей страны должна не только акцентировать внимание на стратегической цели преобразования знаний в производительные силы, но и уделять внимание стратегической теме преобразования знаний (особенно гуманитарных знаний) в потенциал институциональных инноваций, а также реализовать институциональные инновации, основанные на знаниях.
Мы выдвинули идею “институциональных инноваций, основанных на знаниях”, которая уже вышла за рамки области изучения «Национальной инновационной системы» ОЭСР.
Основная цель программы ОЭСР заключается в том, чтобы в рамках организации и координации со стороны государства повысить степень всесторонних связей между научно – исследовательскими институтами, коммерческими предприятиями и рынками, улучшить институциональную среду для распространения и применения знаний и обеспечить “текучесть” (fluidity) знаний. Очевидно, что “Национальная инновационная система” ОЭСР содержит, как минимум, два основных положения:
Во-первых, цель заключается в повышении возможностей общества в области генерирования знаний, соответствующих потребностям коммерческих предприятий и рынка;
Во-вторых, метод заключается в дальнейшем совершенствовании существующего механизма генерирования знаний.
Мы выдвигаем идею “институциональных инноваций, основанных на знаниях”, которая также выходит за рамки понимания многими отечественными учеными понятия “национальная инновационная система”.
Как упоминалось ранее, поскольку некоторые отечественные ученые привыкли определять “знания” как “технические знания”, “связь между знаниями, коммерческими предприятиями и рынком”, упомянутая ОЭСР, естественно, понимается как “механизм инновационного создания, распространения и применения технических знаний”. Таким образом, вся “национальная инновационная система” ОЭСР интерпретируется как крупномасштабная “программа передачи технологических достижений”, основной целью которой является содействие преобразованию научно-технических достижений в производительные силы.
Нет никаких сомнений в том, что акцент на преобразовании научно-технических достижений в производительные силы очень важен для нашей страны, находящейся в состоянии отстающего развития. Как страна, выходящая из состояния экономики дефицита, наша страна обладает недостаточным запасом знаний, слабыми техническими возможностями и невысоким уровнем материальных производительных сил. Исходя из этой реальности и сталкиваясь с жесткой международной конкуренцией, экономическое развитие нашей страны уже давно имеет ярко выраженный характер “экономики военного времени”: мобилизация всех общественных сил для повышения материальных производительных сил всегда и везде была единственной стратегической целью социально – экономического развития нашей страны.
На самом деле, использование менталитета и средств военного времени для развития экономики является характерной чертой, присущей большинству отстающих в развитии стран в этом мире, где выживает сильнейший. Под руководством эффективного правительства, такого рода стратегия часто позволяет достичь фактических результатов, которые нельзя недооценивать, в течение достаточно длительного периода времени и на значительной территории.
Однако, с методологической точки зрения, рассмотрение степени развития производительных сил как единственного показателя для измерения экономического, социального и культурного развития, может привести к однобокости в анализе наших национальных условий и разработке программ:
Например, люди всегда считали, что главное различие между нашей страной и развитыми странами заключается только в том, что научно-технические возможности выше у других стран, а уровень производительных сил не идет ни в какое сравнение с другими странами. Поэтому мы, по-видимому, уделяем особое внимание постепенному развитию научно-технических знаний и производительных сил в нашей стране. Показатели научно-технического развития и экономического роста всегда имели в нашей стране “значение военного времени”, и их политическое значение даже больше, чем экономическое.
Кроме того, развитие производительных сил в нашей стране часто характеризуется направленностью в сторону количественных показателей в ущерб институциональному строительству. В частности, мы делаем упор на использование национальных административных средств или чрезвычайных мер для улучшения возможностей научно-технического развития и его коммерциализации, которые дают немедленные результаты и имеют характеристики системы генерирования знаний военного времени для достижения научно-технических инноваций и развития производительных сил, но мы не уделяем достаточного внимания системе генерирования знаний, которая является традиционной, имеет высокую степень коммерциализации и устойчивое развитие, и даже общим институциональным инновациям.
Только с точки зрения “холистического подхода”, основанного на экономической, социальной и культурной интеграции, мы можем четко осознать, что разрыв между нашей страной и развитыми странами проявляется не только в недостаточном уровне производительных сил, но и в серьезном отставании различных уровней и возможностей институциональных инноваций – этот аспект часто игнорируется при разработке долгосрочных национальных стратегий развития.
Так называемый уровень институциональных инноваций отражает степень посредничества в обществе и является важным показателем для определения степени развития цивилизации или общего уровня социального развития. За последние несколько столетий развитые страны не только создали высокий научно – технический потенциал и производительные силы, но, что более важно, сформировали сложную, полностью дифференцированную и устойчивую систему опосредованных институтов, а также сформировали высокую степень институциональных инноваций и способности к адаптации. Мы даже можем сказать, что возможности научно-технического развития и уровень производительных сил напрямую гарантируют такого рода потенциал институциональных инноваций.
Именно исходя из этой позиции “холистического подхода”, мы считаем, что для нашей страны, находящейся на этапе отстающего развития в переходный период, наша “национальная инновационная система” должна не только рассматривать повышение производительных сил в качестве своей стратегической цели, но и уделять не менее важное стратегическое внимание совершенствованию институционального потенциала. Нам следует не только обращать внимание на связь между знаниями, коммерческими предприятиями и рынками, чтобы развивать “экономику, основанную на знаниях”, но также следует учитывать связь между гуманитарными знаниями и социальным развитием, чтобы создать институциональную систему, основанную на знаниях, и более того – создать общество, основанное на знаниях.
Хотя наша концепция “холистического подхода” выходит за рамки исследования “национальной инновационной системы” ОЭСР, учитывая, что за текстом этого документа все еще стоят сотни лет социального и исторического развития, а также сотни лет концептуальной основы, совместимой с экономическим развитием и социальной эволюцией, следует отметить, что суть, содержащаяся в этом документе, гораздо сложнее, буквального содержания. Мы можем обобщить несколько универсальных принципов эпохи экономики знаний, которые имеют огромное просветительское значение для построения “национальной инновационной системы” нашей страны.
Во-первых, уровень производительных сил общества все больше зависит от его способности генерировать знания.
Документ ОЭСР подтверждает, что ее страны – члены развили отрасли высоких технологий, и более половины их ВВП приходится на отрасли, основанные на знаниях. Этот факт в корне изменил значение понятия производительных сил.
В эпоху “до экономики знаний” уровень производительных сил общества, в основном, зависел от возможностей данного общества по предоставлению рабочей силы и капитала. Такого рода “материальные производительные силы”, в основном, измеряются показателями расширения.
Однако в эпоху экономики знаний способность общества генерировать знания напрямую определяет его способность производить наукоемкую продукцию. Традиционная концепция “материальных производительных сил” будет заменена концепцией “производительных сил, основанных на знаниях”. Измерение такого рода производительных сил зависит не только от показателей расширения, но и от показателей внутреннего содержания.
Идея этой концепции заключается в том, что, хотя наша страна находится на этапе отстающего развития, она также должна сформулировать свою собственную стратегию развития производительных сил, ориентированную на эпоху экономики знаний: не только способствовать расширению и росту производительных сил, но и стремиться к созданию условий для развития “производительных сил, основанных на знаниях”. Только так мы не превратимся в “страну мускулов”, порабощенную “странами разума”. К этому сейчас пришли многие отечественные ученые.
Во-вторых, способность общества генерировать знания, в основном, зависит от институционального потенциала этого общества.
В документе ОЭСР подчеркивается, что потенциал генерирования знаний в эпоху экономики знаний, гарантируется социализированным и ориентированным на рынок механизмом генерирования знаний. В результате этой системы экономическое развитие приобретает внутренний импульс, а знания становятся “эндогенной переменной” экономического развития из-за гарантии эффективного рыночного спроса.
Следует отметить, что среди стран – членов ОЭСР рыночные механизмы генерирования знаний вовсе не новы, они уже имеют долгую историю и являются достаточно зрелыми. По этой причине в документе ОЭСР делается акцент на “усовершенствование”, а не на “создание” системы циркуляции знаний, и на устранение “несоответствий” (mismatches) в системе.
Напротив, наша страна не только находится на этапе “до экономики знаний”, но и совсем недавно была традиционным обществом, которое не так давно отвергло товарное хозяйство. Эта реальность предопределяет, что в процессе экономических и социальных трансформаций нашей стране придется взять на себя сложную задачу институциональных инноваций. Необходимо всесторонне создавать и совершенствовать современный рыночный механизм, а также создать механизм инновационного создания, распространения и применения знаний в эпоху экономики знаний. Такой механизм генерирования знаний должен быть социализированным и ориентированным на рынок, а не на систему “военного времени”, о которой мы упоминали ранее. Хотя такая система еще некоторое время будет работать на местном уровне, она, очевидно, отклоняется от основных требований эпохи экономики знаний – она не может ни превратить знания в “эндогенную переменную” во всем обществе, ни способствовать развитию институциональных инноваций в обществе или способности к институциональному выбору, что как раз и является наиболее востребованной способностью для нашего переходного общества.

