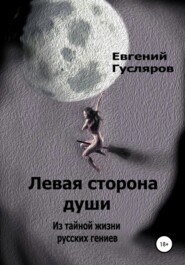 Полная версия
Полная версияЛевая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
А дальше и последовала официальная бумага союзного значения:
«В ВЧК. Заявление от президиума Всероссийского Союза Поэтов.
Президиум Всероссийского Союза поэтов заявляет, что выступление поэта Есенина, имевшее место в кафе при Союзе происходило не от Президиума и Президиум ВСП ни в коем случае не может брать ответственность за отдельные личные выступления членов Союза, всё же меры к тому, чтобы впредь подобные выступления не повторялись, Президиум обязуется принять.
Председатель ВСП Грузинов».
Черту в деле подводит выписка из протокола заседания коллегии следственного отдела МЧК от 27/ 1-1920 г.
«Слушали дело № 10055 – дело кафе “Домино”.
Постановили – Дело передать в Местный нар. суд».
Часто бывало, что и творческие вопросы решались скандалами. Не умея миром делить славу, дрались Пастернак и Есенин. «Хотя с Маяковским мы были на “вы”, – напишет Пастернак, а с Есениным на “ты”, – мои встречи с последним были… реже. Их можно пересчитать по пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние». Катаев, обозначив Есенина королевичем, а Пастернака мулатом, зафиксирует одно из таких поэтических неистовств, относящееся тоже к двадцатым годам: «Королевич, совсем по-деревенски, одной рукой держал интеллигентного мулата за грудки, а другой пытался дать ему в ухо, в то время как мулат – по ходячему выражению тех лет, похожий одновременно и на араба и на его лошадь, с пылающим лицом, в развевающемся пиджаке с оторванными пуговицами с интеллигентной неумелостью ловчился ткнуть королевича кулаком в скулу, что ему никак не удавалось». Всё это опять кончалось приводом в милицию. Приводили, почему-то одного Есенина. Впрочем, тому будет объяснение.
Забегая несколько вперёд, предупредим: считается, что Есенин страдал неким серьёзным психическим заболеванием. В пользу этого говорит тот факт, что он бывал пациентом психиатрической лечебницы. Но это тоже были своеобразные побеги от действительности, особенно тогда, когда назревала очередная гроза. Есть, например, свидетельство о том, подписанное знаменитым профессором Петром Ганнушкиным. На поверку все эти «болезни» легко объясняются следующим, например, местом из воспоминаний того же Василия Наседкина:
«Есенин ночевал тогда у своих сестёр в Замоскворечье.
– Тебе скоро суд, Сергей, – сказала утром Екатерина протрезвевшему брату. Есенин заметался, как в агонии.
– Выход есть, – продолжала сестра, – ложись в больницу. Больных не судят. А ты, кстати, поправишься.
Есенин печально молчал. Через несколько минут он, словно сдаваясь, промолвил:
– Хорошо, да… я лягу.
А через минуту ещё он принимал решение веселей.
– Правда. Ложусь. Я сразу покончу со всеми делами.
Дня через три после описанного разговора Есенин переехал в психиатрическую клинику. Ему отвели светлую и довольно просторную комнату на втором этаже. В окна глядели чёткие прутья предзимнего сада…».
Выходит, знаменитый психиатр Петр Борисович Ганнушкин, ученик С.С. Корсакова и В.П. Сербского спасал не раз Есенина не меньше, чем от расстрела. Его хулиганские выходки, как это мы увидим, вполне на это тянули.
Далее некоторое время дел с московской милицией он не имеет. Есенин попал в водоворот грандиозного романа с Айседорой Дункан и европейских злоключений. Необычайная пара произвела на Европу и Америку именно потрясающее впечатление, будто в застоявшуюся воду бросили камень. Круги и теперь расходятся в виде разного рода воспоминаний, книг… Увы, есть и полицейские протоколы, которых пока искать никто не догадался. Однако установить, что в них, довольно просто.
Вот что следует, например, из написанного о Есенине опять Софьей Виноградской:
«Когда приехали мы в Америку, – расказывал он, – закатили нам обед роскошный. Ну, блестели там скатерти, приборы. От вина, блюд и хрусталя всякого стол ломился, а кругом всё хари толстые, с крахмальными грудями сидели – смотреть было тошно. И так это мне скучно стало, и поделать ничего не могу. “Интернационал” – и тот спеть не стоит, – не поймут, не обозлятся даже. Я это с тоски взял, да и потянул скатерть со стола. Всё на пол поехало, да им на манишки. Вот дело-то было! Ха-ха-ха!
Это рассказано было мимоходом, когда к слову пришлось…».
Это, конечно, может показаться безумием, жуткой нелепицей. Но, в том-то и дело, что всякое, самое необъяснимое действие и поступок Есенина имели свой мотив. Одна из задач этого расследования мотивы те отыскать.
«Да, я скандалил, – говорил он, Есенин, однажды другу своему Льву Повицкому, – мне это нужно было. Мне нужно было, чтобы они меня знали, чтобы они меня запомнили. Что, я им стихи читать буду? Американцам – стихи? Я стал бы только смешон в их глазах. А вот скатерть со всей посудой стащить со стола, посвистеть в театре, нарушить порядок уличного движения – это им понятно. Если я это делаю, значит, я миллионер, мне, значит, можно. Вот и уважение готово, и слава и честь! О, меня они теперь лучше помнят, чем Дункан».
Так что американские толстосумы и праздные зрители его с Айседорой вечеров, были для Есенина не лучше и не интереснее отечественных нэпманов в богемных кафе «Домино» или «Стойло Пегаса».
Вот блестящий Париж в двадцать третьем году. Айседора и Есенин прибыли туда после скандальных поездок по Америке:
«Возвращение в Париж, в Европу, это было уже слишком для Есенина, – будет вспоминать Ирма Дункан, приёмная дочь Айседоры. – Он сразу же попытался утопить все свои воспоминания об Америке в вине, или, скорее, в водке. Но алкоголь, поглощаемый с его славянской неумеренностью, вместо того, чтобы приносить забвение, пробуждал всех его демонов. Подобно маньяку, он ворвался однажды ночью в свою спальню в отеле “Крийон” и сокрушил вдребезги все зеркала, рамы и двери. С трудом он был усмирён полицией и доставлен в ближайший участок… С каким ликованием американские газеты в Париже ухватились за эту сенсацию…».
Из письма Айседоры Дункан в парижское отделение «Нью-Йорк Геральд трибьюн» 17 февраля 1923 г.:
«…Вы утверждаете, что мой муж, Сергей Александрович Есенин, вернулся в наш номер в отеле “Крийон” и затем, перебив всё в номере, швырял предметами в туалетный столик и в меня. Это неправда, как может подтвердить ночной портье в “Крийоне”. Я вышла из отеля сразу же после прихода Есенина в сопровождении моей подруги мадам Говард Перч с тем, чтобы позвать для оказания помощи Есенину доктора Жюля Маркуса. Припадки бешенства, которыми страдает Есенин, обусловлены не одним лишь алкоголем, но частично являются результатом контузии, полученной во время войны…».
Чудесная эта Айседора присочинила тут о контузии. Есенин, действительно собирался на войну, даже форму получил. О том свидетельствует одна из его фотографий. Но в первые же дни службы он бесславно дезертировал.
С полицией Есенина доставили тогда в частную психиатрическую больницу «Maison de Sante» под Парижем, однако там он пробыл всего три дня (кстати, выписали его по заключению всемирно известного психолога и психиатра Пьера Жане, не нашедшего у Есенина никаких психических отклонений).
И после возвращения из Европы его поведение описывали в основном так: «Есенин опьянел после первого стакана вина. Тяжело и мрачно скандалил: кого-то ударил, матерщинил, бил посуду, ронял столы, рвал и расшвыривал червонцы». Этому тоже найдётся объяснение.
Маленький подвиг во имя литературы совершил некто В.Н. Полянский. В двадцатые годы он переписал несколько уголовных дел, в которых главным действующим лицом был Сергей Есенин. И лишь благодаря этому они дошли до наших дней. Может быть, в жизни этого В.Н. Полянского более замечательного дела и не было. Во всяком случае, его имя без всяких натяжек вошло в есениноведение.
«…В 1925 г. я работал в должности секретаря в Краснопресненском нарсуде гор. Москвы. Меня интересовало творчество Есенина, интересовала и его личность. С поэтом я не был знаком, хотя одно время и жил с ним в одном строении (дом 2, по Брюсовскому пер.).
Я знал, что Есенин был нередким гостем в отделении милиции, куда его приводили за различные хулиганские поступки, знал, что ему грозит суд, но обычно обвиняемый перед судом куда-нибудь исчезал, как говорят, не указав адреса. Начинался розыск и т.д.
Одним словом – к моменту трагической смерти поэта в суде скопилось пять неразобранных дел о нём и ни одно из этих дел не было предметом судебного разбирательства. Все дела были прекращены 30/ XII – 25г. за смертью поэта. Зная, что делопроизводство такого типа после некоторого хранения в архиве обычно уничтожается (на 3-й или 5-й год) и, полагая, что дела поэта могут иметь некоторый общественный интерес, я, с разрешения судьи, снял копии с производства…».
И правильно сделал этот замечательный В.Н. Полянский. Дела скопировал он и в самом деле интересные, способные в немалой степени дополнить образ великого русского поэта, пролить свет на некоторые трагические обстоятельства его жизни.
Выписка из протокола № 1382, составленного в 46-м отд. милиции г. Москвы 15 сентября 1923 года:
«Сего числа милиционер поста 228 Чудародов доставил неизвестного гражданина в нетрезвом виде и заявил следующее: Стоя на вышеуказанном посту услышал – раздались два свистка. Я побежал к тому месту – откуда были поданы свистки и увидал следующее. Свистки давал дежурный дворник, находившийся у кафе “Стойло Пегаса”, когда я посмотрел в окно кафе, то увидел, что столы и стулья были повалены, я зашёл в кафе и неизвестный гражданин набросился на меня махая кулаками перед моим лицом и ругал “сволочью”, “хулиганом” и “мерзавцем”, угрожал именем народных комиссаров, хотел этим запугать, но на всё это я попросил его следовать в отделение милиции. Неизвестный гражданин продолжал меня ругать, тогда я уже взял его за руку и привёл в отделение. Прошу привлечь к законной ответственности по ст. 176, 86, 88 Уг. Кодекса».
Протокольная запись от 15 сентября 1923 года дополнена объяснением участкового надзирателя Припутнева:
«15 сентября с/г в отделение был доставлен неизвестный гражданин, по выяснению означенный гражданин является поэтом Ясениным, по приводе в отделение вёл себя ужасно возмутительно, а именно, кричал на меня “хам”, “сволочь”, “взяточник”, “жандарм”, пытался наброситься на меня с кулаками, но благодаря присутствующим был задержан и не допущен к моему столу. На мои неоднократные предложения вести (два слова зачёркнуты) гр. Ясенина в надлежащем порядке, он не обращал внимания и продолжал меня ругать в том же духе. Считая такое явление недопустимым, прошу привлечь гр. Ясенина к законной ответственности по ст. 176, 86, 88 Уг. код. Кроме сего могу добавить следующее: минут через десять после задержания (привода) мне было позвонено по телефону и когда я доложил – что от дежурного по отделению с кем имею честь говорить, мне было отвечено, что говорит из Моссовета тов. Павлов, секретарь М. Г. С. П. С. и спрашивает меня – есть ли у нас задержанный Ясенин. Мною было отвечено: да, такой есть. Тогда лицо, говорившее от имени Павлова, приказало мне освободить тов. Ясенина, на что я ответил, что освободить его не могу, тогда он заявил, что я сам приеду и вы тогда его освободите. Звонивший мне гражданин положил трубку. Я тут же позвонил ответственному дежурному по Моссовету т. Ильину и доложил о происшедшем, мне тов. Ильин ответил, что он наведёт справку и мне позвонит. В этот момент в отделение милиции явились гр. Грандова Н.Д., Коненко Е.В. и гр. Мариенгоф А.Б. и стали требовать настойчиво освободить гр. Ясенина, на что я ответил в категорической форме, что Ясенина не освобожу. Тогда гр. Коненко попросила разрешение позвонить по телефону. Я разрешил, и она позвонила т. Калинину. После переговоров т. Калинин попросил передать трубку дежурному по отделению, что вышеназванная гр-ка и сделала, доложив, что у телефона дежурный по отделению; т. Калинин спросил: в чём дело? Объяснив ему вкратце в чём дело, он также подтвердил мои законные действия. После этого мне звонил ответ. дежур. по Моссовету т. Ильин и говорит, т. Павлова в Моссовете нет и что он не мог звонить.
Есенин был направлен в приёмный покой при МУРе, где доктор Перфильев дал такое заключение: “Гр-н Есенин по освидетельствовании оказался в полной степени опьянения, с возбуждением”».
Из личных ответов Есенина на протокольные вопросы картина становится вполне ясной:
«Протокол допроса обвиняемого.
Допрос производил учнадзиратель 46 отд. мил. т. Леонтьев.
Допрошенный показал: Я – Есенин Сергей Александрович, профессия – поэт.
До 1914 г. – учился. С 1914 – занимался поэтом.
После Октябрьской революции по настоящее время занимался – поэтом.
Родители: крестьяне, образование высшее. В какой школе учился – университет Шанявского, национальность – русский.
По существу дела могу сообщить: 15/IX с. г. в 11 ч. 30 м. вечера, сидя в кафе “Стойло Пегаса” на Тверской ул. дом 37, у меня вышел крупный разговор с одним из посетителей кафе “Стойло Пегаса”, который глубоко обидел моих друзей. Будучи в нетрезвом виде, я схватил стул, хотел ударить, но тут же прибыла милиция и я был отправлен в отделение. Виноватым себя в нанесении оскорбления представителям милиции не признаю, виновным в хулиганстве признаю, в сопротивлении власти виновным себя не признаю. Виновным в оскорблении представ. власти при исполнении служебных обязанностей не признаю. Больше показать ничего не могу. Показание моё точно, записано с моих слов и мне прочитано, в чём и раписуюсь.
Сергей Есенин».
Из пояснений поэта Василия Наседкина, шурина С. Есенина:
«Хмелея, Есенин становился задирой. Оскорбить, унизить своего собеседника тогда ему ничего не стоило. Но оскорблял он людей не всегда так, без разбору или по пьяному капризу. Чаще нападал на тех, на кого имел какой-нибудь “зуб”. Иногда вспоминал обиды, нанесенные ему два-три года назад…».
Далее скопировано дело покруче:
«Сего числа в отделение явился милиционер поста № 231 т. Громов, который, доставив с собой неизвестного гражданина в нетрезвом виде, заявил: Ко мне на пост пришёл служащий из кафе “Домино” и попросил взять гражданина, который произвёл драку. Когда я пришёл туда и попросил выйти его из кафе и следовать в отделение, на что он стал сопротивляться, то при помощи дворников его взяли и силой доставили в отделение. Дорогой он кричал: “бей жидов”, “жиды продали Россию” и т.д. Прошу привлечь гражданина к ответственности по ст. 176 и за погромный призыв.
Допрошенный по сему делу, по вытрезвлении, неизвестный назвался гражданином Есениным Сергеем Александровичем, проживающим в санатории для нервнобольных, Полянка, дом 52».
Сам Сергей Есенин объяснил случившееся так:
«В кафе “Стойло Пегаса” никакого скандала я не делал, хотя был немного выпивши. Сего числа, около 2-х часов ночи я встал от столика и хотел пойти в другую комнату, в это время ко мне подошёл какой-то неизвестный мне гражданин и сказал мне, что я известный скандалист Есенин и спросил меня: против ли жидов я или нет, – на что я выругался, послав его по матушке, и назвал его провокатором. В это время пришли милиционеры и забрали меня в 46 отделение милиции. Ругал ли я милиционеров взяточниками и проч., я не помню…».
Запомним тут есенинское слово «провокатор». Даже в донельзя пьяном состоянии поэт смог сделать далеко идущий вывод. Подобного рода провокации будут продолжаться и, как окажется, будут далеко не бесцельными. Таинственная воля грозных недоброжелателей исподволь начинала готовить Есенину убийственный ярлык не просто хулигана, а злостного нарушителя заповедей интернационализма и основополагающих пунктов революционной морали. Оберегаемых, кстати, весьма и весьма сурово.
Свердлову, ещё только вставшего у всероссийского пролетарского руля, первым делом пришло в голову усугубить общий невиданный в истории террор сугубо личной нотой, в которой выразилась его местечковая неутолимая ярость. Он единолично (Ленин не раз подчёркивал, что это ему позволялось) провёл законодательно давно лелеемую идею смертной казни за антисемитизм, за оскорбление чести комиссара-еврея, иудея вообще.
История этого почина требует ещё своего исследования. Сколько людей и за что именно пошло в распыл по этой статье? В чём, собственно, заключалось оскорбление еврея, достаточное, чтобы получить законную пулю в лоб? Насколько необходимо было подобное начинание тем евреям, которые вместе со всей страной содрогались от кошмаров революции и знать ничего о ней не хотели, только бы обошла она их дом стороной?
Я даже не могу сказать, сколько времени действовала эта смертная статья, и действует ли она сейчас? Чувствую, впрочем, что интерес мой ко всему этому и теперь небезопасен, оставим это…
Ещё один пример – заявление гр-на Нейман М. В. в 15-е отделение милиции г. Москвы 23 марта 1924 г.:
«Сего числа, идя со своим братом по Малой Бронной улице по направлению к Тверскому бульвару, я увидел стоявшего около извозчика гражданина в нетрезвом виде. Пройдя мимо этого гражданина, он же с оскорбительными словами по нашему адресу сказал “жиды”. Тогда я ему сказал: “если вы пьяны, то идите домой”. Он же стал ко мне приставать, я оттолкнул его от себя, после этого он вторично кинулся на меня и ударил по лицу, на что я вторично оттолкнул его от себя. Подоспевшим милиционером таковой был доставлен в комендатуру МУРа…».
Свидетелем этого нехорошего происшествия стал некий Пуговкин М.П. Из его уточнений картина выходит совсем иная: «Я заметил стоящего в нетрезвом виде гражданина, на которого напали двое граждан. Один из них схватил его за рукав, другой за воротник и, сдёрнув с него пальто, продолжали бить. Он же стал от них отрываться. За что они его били, – неизвестно…».
Позже окажется, что двое этих «потерпевших» были теми же чекистами, упорно продолжавшими навязывать общему мнению совершенно не свойственный Есенину образ.
В самом деле, ведь странно было считать антисемитом человека, который с изумлением повторял, как вспоминал В. Эрлих:
– Что они сговорились, что ли? Антисемит – антисемит! Ты – свидетель! Да у меня дети – евреи!..
Или вот как объяснялся он с той же Надеждой Вольпин, от которой у него был сын – А. Есенин-Вольпин – один из создателей (совместно с Сахаровым) известного Комитета прав человека. Ей донесли о его, якобы, очередной антисемитской выходке. Он влепил в пивной пощёчину какому-то типу, а тот отрекомендовался в милиции евреем. Всё произошло до примитива просто и разительно отдаёт тою же самой провокацией. Дело вышло такое: к Есенину подходит некто совершенно незнакомый и называет его «мужиком»:
– А для меня «мужик» всё равно как для еврея, если его назовут «жидом». Вы же знаете, не антисемит я, у меня все самые верные друзья – евреи, жёны все – еврейки…
Дело, между тем, приняло вдруг совершенно скверный, нечистый и опасный поворот. Один из самых громких скандалов подобного рода случился осенью 1923 года. 20 ноября поэты Есенин, А. Ганин, С. Клычков и П. Орешин зашли в столовую на Мясницкой улице, купили пива и обсуждали издательские дела и предстоящее вечером торжество. Тем вечером под председательством В. Брюсова должно было состояться торжественное заседание, посвященное пятилетию Всероссийского союза поэтов. После официальной части в клубе союза планировалась вечеринка. Но этим четырём поэтам ни на собрании, ни на вечеринке присутствовать не суждено было. Затеялся за пивным столиком разговор о насущном. Если Есенин ещё имел кое-какие средства для существования, то Ганин, Клычков и Орешин влачили вполне нищенский образ жизни. И, естественно, были недовольны этим, о чём, вероятно и толковали за кружкой пива. Вдруг сидевший за соседним столом незнакомец (оказавшийся неким М.В. Родкиным) выбежал на улицу, вызвал работников милиции и обвинил поэтов опять в антисемитских разговорах и даже в оскорблении вождя революции Троцкого. Так началось печальное в истории литературы дело «четырех поэтов». Оно получило большой резонанс, Есенин лично объяснялся с Троцким. И они, вероятно, поняли тогда друг друга. Во всяком случае, он, Троцкий, отметит в посмертном слове Есенину: «Поэт погиб потому, что был несроден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит его». Однако инцидент не рассасывался, общественное порицание было довольно дружным, поведение “крестьянских” поэтов вызывало особое беспокойство чекистов. Вот тут и окажется, что настойчиво навязываемый ярлык антисемитизма, только предлог для обвинения действительно страшного.
30 декабря 1923 года в «Правде» Михаил Кольцов объяснил, чем действительно опасны могут быть нетрезвые выходки в пивной: «…Надо наглухо забить гвоздями дверь из пивной в литературу. Что может дать пивная в наши дни и в прошлые времена – уже всем ясно. В мюнхенской пивной провозглашено фашистское правительство Кара и Людендорфа; в московской пивной основано национальное литературное объединение “Россияне”. Давайте будем грубы и нечутки, заявим, что всё это одно и то же…». Об антисемитизме ни слова. Да оно и не важно уже. Пугало русского фашизма ведомству Феликса Дзержинского показалось более выгодным и целесообразным.
Как теперь стало известно, ГПУ организовало тогда самую успешную провокацию против группы писателей, художников и артистов. Через подставных лиц устраивались “дружеские” пирушки, где вино лилось рекой, подспудно заводились разговоры о коварстве и бесчинствах большевиков. Из воспоминаний Владислава Ходасевича: «То, что публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в Советской России. Всякий сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, был бы давно расстрелян…». На одной такой разгульной встрече поэт Алексей Ганин, подстрекаемый агентом ГПУ, написал даже предполагаемый список министров нового правительства и министром просвещения назвал Сергея Есенина. Это политическое озорство оценено было по достоинству. Трое «крестьянских поэтов-фашистов» пошли за это в распыл. Таким оказался результат самой печальной хулиганской выходки Есенина и близких ему по духу друзей. И опять Есенина оставили в живых. Объяснить это революционное милосердие никому пока не удалось.
Всё это сказалось на здоровье поэта в самой безжалостной форме. По медицинским показателям выходило так, что был он уже обречён. Может, потому его и не убили? В конце 1923-го года, после товарищеского суда в Доме печати, Есенин лечился в санатории для нервнобольных в Подмосковье. Четыре раза – с декабря 1923 по декабрь 1925 гг. – его консультировал упоминавшийся профессор П.Б. Ганнушкин. В своём заключении от 24 марта 1924 г. в психиатрической клинике 1-го МГУ Ганнушкин пишет: «Страдает тяжёлым нервно-психическим заболеванием, выражающимся в тяжёлых приступах расстройства настроения и в навязчивых мыслях и влечениях. Означенное заболевание делает гр. Есенина не отдающим себе отчёта в совершаемых им поступках».
Этот вывод позже дополнен новыми диагностическими уточнениями: «делирий со зрительными галлюцинациями, вероятно, алкогольного происхождения» и «маниакально-депрессивный психоз».
Есенину из осторожности не сообщают подробности диагноза, но вскоре он сам его узнает. Воспользовавшись отсутствием врача, больные стащили из его шкафа папки с историями болезней. Каждый – свою. Таким образом Сергей Есенин уверился окончательно, что безнадёжно болен жутким психическим заболеванием. Это не могло добавить ему сил в борьбе с действительными недугами.
Ещё одно уголовное дело разбирает скандал в неизвестном театре:
Милицейский надзиратель 26-го московского отделения милиции Белоусов 6 апреля 1924-го года объяснил это новое дело так: «Я был вызван из зрительного зала инспектором театра Неровым М.Н. Во время спектакля в артистическую уборную к артистке Щербиновской в совершенно пьяном виде ворвался поэт Есенин, который вёл себя вызывающе и пытался прорваться на сцену, но был задержан. Во время задержания он учинил дебош…».
Возникшая мизансцена дополнена красочным эпизодом, приключившимся в тот день с работником неизвестного театра Богачёвым: «Я у двери, ведущей на сцену, задержал двух неизвестных. Я пропускал их. В это время Есенин размахнулся и ударил меня по носу. Я упал и ударился о стенку. После полученного удара я три дня чувствовал себя плохо…».
Ещё один служащий театра по фамилии В.М. Кузьмичёв добавил: «Я шёл в курилку артистов, по дороге встретился с неизвестным, который ударил меня в грудь, продолжая бежать к павильону. Суфлёр Дарьяльский кричал: “Держи его, держи!” Я бросился за неизвестным и с подоспевшим Дарьяльским задержал его…».
Ну и, конечно, опять интересно, как дополняет картину объяснение самого Есенина: «Я попал в театр с пропуском за кулисы, который мне передала артистка Щербиновская. Потом, желая выйти, заблудился и попал не в ту дверь. В театре я не дебоширил, но когда меня хотели взять под руки, я толкнул лиц. Один упал и разбил себе нос. Виноватым в появлении в нетрезвом виде в общественном месте себя признаю, в скандале нет…».



