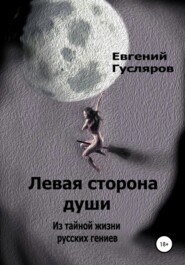 Полная версия
Полная версияЛевая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
Между тем у постели умирающего начинается нечто уже совершенно необъяснимое и противоестественное. Будто кто-то невидимый и страшно заинтересованный в особом исходе дела, употребил для того свою тайную безотказную режиссуру. Толстой оказывается полностью во власти толстовцев.
Они-то и решают дальнейшее.
Старец Варсонофий к Толстому не допущен. Даже Софье Андреевне было отказано в прощальном поцелуе и христианском благословении. Именно по той причине, что оставалась она истинно верующей и могла повлиять на мужа совсем не так, как хотелось того агрессивному толстовству.
Тут опять вся ответственность за происходящее ложиться на Александру Толстую, да ещё на тогдашнего главу лицемерных, в основном, сторонников толстовского учения Владимира Черткова. Фамилия говорящая.
В беседе епископа Тульского Парфения с жандармским офицером Савицким, который дежурил в день смерти Толстого на станции Астапово, есть знаменательные слова о том, что Толстого «буквально содержали в плену и делали с ним, что хотели».
То же подтвердил сын Толстого Андрей Львович.
Старец Варсонофий добавил свой штрих к картине: «Как ни силён был Лев, а вырваться из клетки так и не сумел».
Мне кажется, что уже этого достаточно, чтобы сделать однозначный вывод – Толстой не ответственен за то, что с ним происходило в последние мгновения жизни. Ни по земными законами, ни по небесным…
Нет, конечно, во всём этом прямого указания на то, что Толстой точно хотел мира своей измученной душе, но Ивану Бунину, например, то, что тогда происходило, дало повод задать вполне логический вопрос: «Но что было бы, если бы Александра Львовна допустила его (старца Варсонофия) к отцу?» – и отвечает: «Можно предположить примирение с Церковью».
Есть одно косвенное свидетельство того, что подобный исход последней драмы Толстого был бы именно таким.
Тут надо вернуться к событиям осени 1904 года. Тогда умирал младший брат писателя, тоже толстовец, Сергей Николаевич. И вот как это событие описано со слов сестры их, при том присутствовавшей, Марии Николаевны, той самой инокини, к которой Толстой приехал в последние свои дни: «Когда нынешнею осенью заболел к смерти брат наш Сергей, то о болезни его дали мне знать в Шамордино, и брату Лёвочке, в Ясную Поляну. Когда я приехала к брату в имение, то там уже застала Льва Николаевича, не отходившего от одра больного. Больной, видимо, умирал, но сознание было совершенно ясно, и он мог говорить обо всём. Сергей всю жизнь находился под влиянием и, можно сказать, обаянием Льва Николаевича, но в атеизме и кощунстве, кажется, превосходил брата. Перед смертью же его что-то таинственное совершилось в его душе, и бедную душу эту неудержимо повлекло к Церкви. И вот, у постели больного, мне пришлось присутствовать при таком разговоре между братьями: “Брат”, обращается неожиданно Сергей ко Льву Николаевичу: “как думаешь ты: не причаститься ли мне?” – Я со страхом взглянула на Лёвушку. К великому моему изумлению и радости, Лев Николаевич, не задумываясь ни минуты, ответил: “Это ты хорошо сделаешь, и чем скорее, тем лучше!”.
И вслед за этим сам Лев Николаевич распорядился послать за приходским священником.
Необыкновенно трогательно и чистосердечно было покаяние брата Сергея, и он, причастившись, тут же вслед и скончался, точно одного только этого и ждала душа его, чтобы выйти из измождённого болезнью тела».
И как жаль, что рядом с самим Толстым не оказалось в нужные мгновения столь же мудрого и независимого от земных непрочных истин человека.
И разве это не документ и не окончательная и фактическая бумага, на которой записаны последние слова его перед смертью: «Бог есть то неограниченное Всё, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлениями (жизнями) других существ, тем больше Он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью. Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет Бога, тем больше Он истинно существует».
Последние его мысли были о Боге и Царствии Небесном.
***
И тут мне проще уже говорить о том вечном в его учении, что непременно люди будут помнить, чтобы чувствовать себя уютнее и увереннее в земном своём пути…
…Открывать законы неживой природы занятие вполне достойное. Есть целый ряд великих людей, которые стали великими лишь потому, что догадались однажды – за каждым явлением природы скрыт определённый вечный порядок. Мы говорим – закон Ньютона – ясно сознавая, что не Ньютон его создатель. Природа всегда жила этим законом. Разница между природой и человеком та, что природа не может отринуть вечные законы без того, чтобы не погибнуть. Человек не раз догадывался о том, что он тоже не может жить без вечных законов, которые спасительны именно для него. Общественных законов в неживой природе нет. Их придумывает человек, и именно потому они в массе своей так недолговечны и слабы. Так что и для следующего поколения бывают уже не годны. Но есть и другие законы, которые оказываются так же прочны, как законы природы. И которые могут дать возможность человечеству уцелеть в бурном потоке жизни.
Люди помнят не всех, конечно, своих пророков и лучших людей, которые указали им на спасительные законы. Подвиг этих людей подлинно велик, поскольку они открывали не существующий уже порядок, а указывали тот, который должен стать вечным в будущем. Само человечество обрело бы будущее, если бы стало жить по этим законам.
Некогда впал я в смущение. Толстой был причиной. Я читал тогда Достоевского. И вот сомнение и соблазн вошли в мои мысли. Смущение это требовало выхода. Я мог сравнить два писательских инстинкта, способность той и другой великой души к роковому предчувствию… Мне показалось непонятным и необъяснимым, отчего так недостаточно, в сравнении, Толстой, этот величайший из печальников русского народа, каким мы его теперь называем, чувствовал инстинктом своим приближение великой грозы человечества. Ведь умер он всего за шесть лет до событий, опрокинувших не только Отечество, но потрясших весь устоявшийся мировой порядок. Он не выходил при этом из привычной творческой колеи. Жил безмятежием великана. В то время как Достоевский, например, испытывал величайшее напряжение каждым нервом и словом. Да что Достоевский… Лесков, Горький и даже сочинитель авантюрных бестселлеров Крестовский чуяли всё это и, каждый по-своему, предупреждали и предсказывали приход страшного российского времени.
Толстой, казалось мне, оставался в своих заоблачных высях и продолжал учить всё человечество общим вопросам. Этого бывает недостаточно, когда тень смертная застит душу.
Задним числом дело представлялось мне таким образом: вот шёл человек и упал по неосторожности с берега и тонет. Оставшийся на берегу вместо того, чтобы кинуться спасать его, делает всем другим, идущим по этой дороге выговоры, отчего это они так неосторожно ходят мимо крутых берегов…
Я испугался тогда этих своих мыслей.
Видно, это был грех мой.
И вот я стал искать самую больную мысль Толстого той поры.
И, кажется, нашёл.
Он так и назвал эту болевую мысль свою – законом.
На протяжении долгих зрелых лет он по-разному формулировал этот закон. Но разным был только порядок слов.
Закон же только уточнялся.
В окончательном виде он известен теперь многим: «зло никогда не уничтожается злом; но только добром уничтожается зло».
Это самая краткая и сжатая формула его Закона.
Формула эта может показаться сухой. Это свойство всякого окончательного ответа, в котором пропущен захватывающий промежуточный поиск решения.
Его можно восстановить. И тогда утраченное напряжение откроется в каждом знаке окончательной формулы.
«Только кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами: одно только дело для него важно и одно только дело оно делает – оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живёт. И это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества».
«Одно есть несомненное проявление Божества – это законы добра, которые человек чувствует в себе и в признании которых он не то что соединяется, а волею-неволею соединён с другими людьми».
«Как растёт человек, так растёт и человечество. Сознание любви росло, растёт в нём и доросло в наше время до того, что мы не можем видеть, что оно должно спасти нас и стать основой нашей жизни. Ведь то, что теперь делается это последние судороги умирающей насильнической, злобной, нелюбовной жизни».
«В любви есть жизнь. Как же тут быть? Любить других, близких, друзей, любящих? Сначала кажется, что это удовлетворяет потребности любви, но все эти люди, во-первых, несовершенны, во-вторых, изменяются, главное, умирают. Что же любить? И ответ один: любить всех, любить начало любви, любить любовь, любить Бога. Любить не для того, кого любишь, не для себя, а для любви. Стоит понять это, и сразу уничтожается всё зло человеческой жизни и становится явным и радостным смысл её».
«Постарайся полюбить того, кого ты не любил, осуждал, кто оскорбил тебя. И если тебе удастся это сделать, ты испытаешь совершенно новое и удивительное чувство радости. Ты сразу увидишь в этом человеке того же Бога, который живёт в тебе. И как свет ярче светит после темноты, так и в тебе, когда ты освободишься от нелюбви…».
«Ведь это так просто, так легко и так радостно. Только любя каждый человек, любя не одних любящих, а всех людей, особенно ненавидящих, как учил Христос, и жизнь – неперестающая радость, и все вопросы, которые заблудшие люди так тщетно пытаются разрешить насилием, не только разрешаются, а перестают существовать…».
Вот и всё. Высшее проявление добра есть любовь. Зло можно победить только любовью. На агрессию зла надо отвечать агрессией любви. Агрессия любви заключается в том, чтобы любить врага.
И вот что я чувствую, к сожалению. Даже авторитет Толстого не может уберечь меня от сомнения. Я не могу сохранить в себе к этому простому построению столько почтения, чтобы не считать их наивными. Рядом стоит требование Христа подставлять левую щеку, если тебя ударили по правой. Мне кажется, и с этим я не справлюсь, если случай такой произойдёт со мной, например, при шумном застолье. Рядом стоит открытие Швейцера о том, что крестьянин, скосивший на лугу тысячи цветов на корм своей корове, совершит преступление, если ради забавы сомнёт цветок на обочине дороги… Однако я не могу не понимать, что до тех пор, пока мы все это будем считать наивным, с порядком в душе и гармонией в мире у нас ничего не получится.
Я правильно догадался, что Толстой и для меня выводил этот свой закон. И не мог он не знать, что будут люди, не умеющие скрыть своей иронии.
И он просто объяснил мне природу этой моей иронии.
«Думай хорошо, – сказал он, – и мысли созреют в добрые поступки».
«Для того, чтобы человеку узнать тот закон, которому он подчинён и который даёт ему свободу, ему надо подняться из телесной жизни в духовную».
Значит, когда я реагирую на пощечину только болью своего тела, я не дозрел ни до заповеди Христовой, ни до Закона Толстого.
На ненависть чужую я реагирую сердцем и неразумием.
И тут я вовсе не смутно даже, догадываюсь – на Закон Толстого надо реагировать разумом.
И тогда всё станет на свои места.
И тут я вовсе не смутно даже, догадываюсь. Закон Толстого не наивен, а прав, стоит только переделать себя.
И дело тут во мне, а не в Толстом.
Сергей Есенин
Теневая сторона: Избранные скандалы
Мне лично кажется, что лучшие воспоминания о Есенине оставила Надежда Вольпин. Эта нерусская женщина, наверное, единственная, которая любила его искренно. Эта любовь помогла открыть ей русскую душу Есенина.
Вот как она однажды о нём точно сказала:
«Лето двадцатого. Ещё до отъезда Есенина и Мариенгофа на Кавказ.
Говорю Грузинову:
– Мне всегда страшно за Есенина. Такое чувство, точно он идёт с закрытыми глазами по канату. Окликнешь – сорвётся.
– Не у вас одной, – коротко и веско ответил Грузинов».
Есенин часто и срывался.
Удивительное дело, два великих поэта – Пушкин и Есенин схожи в одном, они постоянно чувствовали некую таинственную и глубокую угрозу себе, которая таилась во всей окружающей их жизни. Эта угроза существовала на самом деле. И это лишало обоих душевного, житейского комфорта, держало в постоянном напряжении. Пушкин от того был суеверен, до странности, до умопомрачения. Есенин развил в себе столь же жестокую, до мании, мнительность.
Вот что замечает Рюрик Ивнев: «…мы сидели у окна. Вдруг Есенин перебил меня на полуслове и, перейдя на шёпот, как-то странно оглядываясь по сторонам, сказал:
– Перейдём отсюда скорей. Здесь опасно, понимаешь? Мы здесь слишком на виду, у окна…».
Об этом же говорит В. Эрлих:
«Есенин стоит посередине комнаты, расставив ноги, и мнёт папиросу.
– Я не могу! Ты понимаешь? Не могу! Ты друг мне или нет? Друг! Так вот! Я хочу, чтобы мы спали в одной комнате! Не понимаешь? Господи! Я тебе в сотый раз говорю, что они хотят меня убить! Я как зверь чувствую это! Ну, говори! Согласен?
– Согласен.
– Ну, вот и ладно!
Он совершенно трезв…».
А вот из воспоминаний Софьи Виноградской:
«…он с М. отправился к ней. Вдруг ему показалось, что кто-то вошёл в дом, что это идут за ним; он заметался по комнате и выскочил в окно со второго этажа. На извозчике во весь опор, словно убегая от кого-то, он примчался домой. Он подробно рассказал, как за ним пришли, как он выскочил в окно; требовал скорее ужинать, так как “они” скоро явятся за ним сюда. Но он “их” перехитрит. Он уже заготовил верёвку, и, когда “они” придут, он спустится по верёвке с седьмого этажа, и – поминай, как звали. Он был весел, как мальчишка, радовался своей затее, предвкушая удовольствие надуть “их”. Уставши, он лёг спать, забыв наутро о ночном преследовании…».
С некоторых пор он панически и болезненно боится только двух вещей – сифилиса и милиционеров. Это для него материализовавшийся символ той неодолимой и постоянной угрозы, которую таит его жизнь.
Тот же В. Эрлих вспоминал:
«Идём вдвоём, идём мимо Летнего сада. У ворот стоит милиционер…
Он вдруг хватает меня за плечи так, что сам становится лицом к закату, и я вижу его пожелтевшие, полные непонятного страха глаза. Он тяжело дышит и хрипит:
– Слушай! Только никому ни слова! Я тебе правду скажу! Я боюсь милиции! Понимаешь? Боюсь!..».
В другом месте:
«Мы только что удрали от милиционера, который, по его мнению, следил за нами.
У ворот он останавливается, чтобы передохнуть.
– Фу! Понимаешь? Еле спаслись!..
– Сергей! Ты – болен! Подумай сам! Что тебе может сделать милиция?
– Молчи! Они следят за мной! Понимаешь! Следят!
Он оборачивается… и дрожащими руками берёт папиросу.
– А может быть и так: я в самом деле – болен…».
Василий Наседкин вспоминал:
«Идя в Госиздат через Кузнецкий мост, мы закурили. Минуты через две Есенин, замедляя шаги, стал осматриваться.
– Ты что ищешь, Сергей?
Есенин с озабоченным видом показал мне на смятый окурок в руке.
– Урны не видать.
Он нерешительно бросил окурок под сточную трубу, а, бросив, оглянулся на далеко стоящего милиционера.
Есенин накануне слышал, что окурки бросать на улице нельзя».
Возможно, болезненное в Есенине действительно было. Но болезнь эта была как раз не в том, что он боялся милиционеров. Болезнь, если она была, то была производной от этих самых милиционеров. Хроника тогдашней его жизни была такова, что милиция принимала в ней активное и живейшее участие. И это, конечно, не могло не отразиться на психическом состоянии поэта.
Опять В. Эрлих. Он изображает типичную картинку в каком-нибудь поэтическом кафе той поры: «Пока сидит Есенин все – настороже. Никто не знает, что случиться в ближайшую четверть часа: скандал, безобразие? В сущности говоря, все мечтают о той минуте, когда он, наконец, подымется и уйдёт. И всё становится глубоко бездарным, когда он уходит…».
То, что изложено будет дальше, может произвести непростое впечатление, потому тут надо кое-что пояснить. Срывы Есенина, которые призводили тяжёлое, шокирующее действие на современников, объяснить сложно, но и просто.
Галина Бениславская, знавшая дело, пожалуй, лучше других, поясняла следующее:
«Много, очень много уходило и ушло в стихи, но он сам говорил, что нельзя ему жить только стихами, надо отдыхать от них. Отдыхать было не на чем. Оставались женщины и вино. Женщины скоро надоели. Следовательно – только вино, от которого он тоже хотел бы избавиться, но не было сил, вернее, нечем было заменить, нечем было заполнить промежутки между стихами…».
В другом месте она вспомнила такие его слова:
– Не могу же я целый день писать стихи. Мне надо куда-то уйти от них, я должен забывать их, иначе я не смогу писать, – не раз говорил он в ответ на рассуждения, что нельзя такое дарование губить вином…
Тот же В. Эрлих:
«Утром он говорит:
– У меня нет соперников и потому я не могу работать.
В полдень он жалуется:
– Я потерял дар…».
«Вне стихов ему было скучно. Они словно высасывали из него все соки», – заметила Софья Виноградская.
Хочу предупредить, что у меня не было желания собрать «клубничку» о великом человеке. Есть желание показать, как непросто жить в России, на земле, с Божьим даром. Быть обречённым на одиночество, потому что одиночество разделить не с кем. Одиночество можно разделить с равным, а таковых нет, ни среди мужчин, и, что особенно тяжко, ни среди женщин. Остаётся возможность забыться в вине или буйстве. А то – сразу в том и другом. Это роднит все незаурядные русские натуры. Понимать и принимать их рядовому большинству бывает трудно. В столкновении меньшинства и большинства – проигрывает и гибнет меньшинство. А это и есть самая большая трагедия большинства – остаться лишь бесцветным количеством…
Вот первая из широко известных «хулиганских» сцен. Происходит она в известном кафе поэтов «Домино».
И само это кафе, и сцену в нём подробно описал поэт Николай Полетаев:
«В нём было два зала: один для публики, другой для поэтов. Оба зала в эти годы, когда было всё закрыто, а в “Домино” торговля производилась до двух часов ночи, были всегда переполнены. Здесь можно было разного рода спекулянтам и лицам неопределённых профессий послушать музыку, закусить хорошенько с “дамой”, подобранной с Тверской улицы, и т. д. Поэты, как объяснил мне потом один знакомый, были здесь “так, для блезиру”, но они, конечно, этого не думали. Наивные, они и не подозревали, как за их спиной набивали карманы содержатели всех этих кафе, да поэтам и деваться было некуда. Спекулянты и дамы их, шикарно одетые, были жирны, красны, много ели и пили. Бледные и дурно одетые поэты сидели за пустыми столами и вели бесконечные споры о том, кто из них гениальнее. Несмотря на жалкий вид, они сохранили ещё прежние привычки и церемонно целовали руки у своих жалких подруг. Стихи, звуки – они все любили до глупости. Вот обстановка, в которой в 1919 году царил Есенин…».
Далее излагается суть происшедшего:
«Нас, молодых, выдвигавшихся тогда поэтов из Пролеткульта, пригласили читать стихи в “Домино”. Есенин тогда гремел и сверкал, и мы очень обрадовались, узнав, что и он в этот вечер будет читать стихи. Он стоял, окружённый неведомыми миру “гениями” и “знаменитостями”, очаровывая всех своей необычной улыбкой. Характерная подробность: улыбка его не менялась в зависимости от того, разговаривал ли он с женщиной или с мужчиной, а это очень редко бывает. Как ни любезно говорил он со всеми, было заметно, что этот “крестьянский сын” смотрел на них как на подножие грядущей к нему славы. Нервности и неуверенности в нём не было. Он уже был “имажинистом” и ходил не в оперном костюме крестьянина, а в “цилиндре и лакированных башмаках”. Я полюбил его издалека, чтобы не обжечься. В этот вечер он сделал очередной большой скандал.
Когда мои товарищи читали, я с беспокойством смотрел на них и на публику. Они робели, старались читать лучше и оттого читали хуже, чем всегда, а публика, эта публика в мехах, награбленных с голодающего населения, лениво побалтывала ложечками в стаканах дрянного кофе с сахарином и даже переговаривалась между собой, нисколько не стесняясь. Мне пришлось читать последнему. После меня объявляют Есенина. Он выходит в меховой куртке, без шапки. Обычно улыбается, но вдруг неожиданно бледнеет, как-то отодвигается спиной к эстраде и говорит:
– Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел затем, чтобы послать вас к …! Спекулянты и шарлатаны!..
Публика повскакала с мест. Кричали, стучали, налезали на поэта, звонили по телефону, вызывали “чеку”. Нас задержали часов до трёх ночи для проверки документов. Есенин, всё так же улыбаясь, весёлый и взволнованный, притворно возмущался, отчаянно размахивал руками, стискивая кулаки и наклоняя голову “бычком” (поза дерущегося деревенского парня), странно, как-то по-ребячески морщил брови и оттопыривал красные, сочные красивые губы. Он был доволен…».
Сцена эта и есть, возможно, первая из тех, которая зафиксирована казёнными словами милицейских протоколов. Их разыскал профессиональный следователь Эдуард Хлысталов. Особенности протокольных текстов сохранены.
«Тов. Мессингу!
11 января 1920 года 11 часов вечера, когда я шёл домой от т. Эйдука по Тверской ул., я услышал, что публика кричит на поэтов, что с эстрады нельзя ругать по матушки, чуть дело не дошло до драки, я ликвидировал скандал, потом явился комиссар Рэкстейн и принял некоторые заявления от публики и протокол».
Это показания чекиста Шейкмана из уголовного дела № 10055 тогдашней Московской ЧК.
Явившаяся комиссар А. Рэкстень более обстоятельно описала произошедшее:
«11 января 1920 года по личному приказу дежурного по Комиссии тов. Тизенберга, я, комиссар М. Ч. К. опер. части А. Рекстень, прибыла на Тверскую улицу в кафе “Домино” Всероссийского Союза Поэтов и застала в нём большую крайне возбуждённую толпу посетителей, обсуждающих только что происшедший инцидент. Из опроса публики я установила следующее: около 11 часов вечера на эстраде появился член Союза Сергей Есенин и, обращаясь к публике, произнёс площадную грубую до последней возможности брань. Поднялся сильный шум, раздались крики, едва не дошедшие до драки. Кто-то из публики позвонил в М. Ч. К. и просил прислать комиссара для ареста Есенина. Скандал до некоторой степени до моего прихода в кафе был ликвидирован случайно проходившим по улице товарищем из В. Ч. К. Шейкманом. Ко мне поступило заявление от президиума Союза Поэтов, в котором они снимают с себя ответственность за грубое выступление своего члена и обещаются не допускать подобных выступлений в дальнейшем.
Мои личные впечатления от всей этой скандальной истории сложились в крайне определённую форму и связаны не только с недопустимым выступлением Есенина, но и о кафе как таковом. По характеру своему это кафе является местом, в котором такие хулиганские выступления являются почти неизбежными, так как и состав публики и содержание читаемых поэтами своих произведений вполне соответствуют друг другу. Мне удалось установить из проверки документов публики, что кафе посещается лицами, ищущими скандальных выступлений против Советской власти, любителями грязных безнравственных выражений и т.п. И поэты, именующие себя футуристами и имажинистами, не жалеют слов и сравнений, нередко настолько нецензурных и грубых, что в печати недопустимых, оскорбляющих нравственное чувство, напоминающих о кабаках самого низкого свойства. В публике находились и женщины – и явно – хулиганские выступления лиц, называющих себя поэтами, становятся тем более невозможными и недопустимыми в центре Советской России.
Единственная мера, возможная к данному кафе – это скорейшее его закрытие.
Комиссар М. Ч. К. А. Рэкстень».
В деле есть несколько листов с показаниями «потерпевших»:
«Леви Семён Захарович, мещанин Таврической губ. 28 лет, сотрудник Наркомпрод показал следующее: В воскресенье 11 января 1920 года я с компанией моих знакомых Надежда и Татьяна Лобиновых (Страстной бульвар) и т. Карпов сотрудник Наркомпрода организационного отдела, сидя в кафе поэтов по Тверской дом 18. Один из поэтов Союза Есенин выражался с руганью по матушке…».
«ВЧК
Заявление.
Мы, присутствующие посетители в кафе поэтов по Тверской ул. “Домино” заявляем, 11/1-20 г. выступал на эстраде член союза поэт Сергей Есенин и в первых словах своих ко всей публике сказал: “Я вошёл на эстраду для того, чтобы послать вас всех к … матери” и затем продолжал и дальше грубить публике по поводу невнимания её к поэтам. Считаю подобную форму обращения к публике Советской республики возмутительным, просим принять по сему соответствующий предел (фамилии неразборчивы)».



