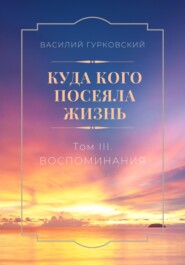скачать книгу бесплатно
Дело в том, что как только выехали из Шемонаихи и проехали километров десять, пришлось остановиться. У Алексея Кравцова (при тридцатиградусном морозе!), закипела вода в радиаторе. Посмотрели – а у него полностью забит радиатор, намертво. Видимо раньше, на малых расстояниях, он не успевал нагреваться, а как выехали на трассу, скорость повысилась – сразу перегрев.
Возвращаться в Шемонаиху уже не стали. Кравцов Александр, взял на прицеп своего двоюродного брата, Алексея. В тот первый день буран стих, дорога укатана, как стекло, не только тормозить, скорость сбрасывать и то опасно. Тяжелее была Александру, но в ночь проскочили Семипалатинск. Подзаправились горючим. Кроме всего прочего, чем был хорош Советский Союз, – талоны на бензин принимали везде, неважно какой республики, тем более области. Мороз ночью дошел до сорока градусов, я, при заправке, держал шланг, попало несколько капель бензина на руку, обожгло, как серной кислотой.
Ночь ехали, не останавливаясь, пока дорога была хорошая. Я по очереди подменял за рулем нашу молодежь. На машинах Газ-51, печек в кабине не было, окно все залеплено снегом, одно маленькое чистое пятнышко, которое беспрерывно протираешь большим пальцем руки и так, на «одном глазу», и едешь. Перед самым утром, заехали в село Лебяжье (прочитал на указателе при въезде). Там какой-то крупный совхоз был. Попали на совхозный двор, зашли в сторожку погреться. Забегает Аманжол Мукатов, –снова нас «радует»: пока мы пошли к сторожу, он задремал, а потом машина заглохла, он её завел, нечаянно включил заднюю скорость…и- въехал задним бортом в радиатор машины Малюченко. Ну что тут скажешь, ехали всю ночь, в таких условиях….Взяли на буксир еще одну машину. На ходу осталось –три, и еще 2500 километров, декабря.
Думали чем-то разживемся в совхозе, не получилось, – они нам посоветовали проехать немного дальше, там районный центр и есть отделение «Сельхозтехники». Большое село, Белогорье. Нашли мы там сельхозтехнику, помогли они нам с радиатором для Газ-51, я рассчитался чеком, на ЗИЛ у них радиаторов не было, даже говорили, что и в Павлодаре (их областном центре), их тоже не найдешь. И здесь началось то, из-за чего я собственно и начал этот рассказ. Трое наших ребят- ащелисайцев, Николай Дмитрюк, Володя Клевако и Кравцов Алексей, на улице! При таком морозе! Срезали ножовкой по металлу верхний и нижний латунные баки радиатора от машины Алексея Кравцова, расплескали медную проволоку и прочистили ею все соты забитого радиатора! Потом сами припаяли обе части тех баков, залили воду, и мы в ночь, – снова двинулись, уже – на Павлодар.
Проскочили ночью Экибастуз, взяли курс на Караганду, я опять был подменным водителем, практически на всех машинах, кроме ЗИЛа –вездехода, Кравцова Александра. Он все время ехал за рулем сам. На рассвете поднялся сильнейший буран, мы куда-то свернули – непонятно, темень, снег, холод, и – тут случилось главное дорожное несчастье: рассыпалась раздаточная коробка у ЗИЛа -131!. Затрещало, заурчало – и все, остановились, не знаем, где и что. Начало рассветать, ну а говорят, что Бога нет! Он – таки есть! Оказывается, мы остановились напротив огромного гаража, в поселке Молодежный или как его все называли – Тракторист. А этот огромный утепленный гараж появился здесь, когда строили канал Иртыш-Караганда. Теперь канал уже построен и гараж использовался только частично. Но нас туда впустили, погреться. Удача обычно ходит не одна: я узнал, что начальник того гаража мой земляк, молдаванин. Я его нашел, переговорил и он разрешил нам поставить ЗИЛ- со сломанной раздаточной коробкой, на смотровую яму, помог кое-чем из запасных частей, короче говоря – пустили его в работу. Послали одного из молодых водителей, в магазин, а там какой-то местный участковый, увидел, что машина чужая, тут же приклеился к парню, почему, мол, путевка одна на много дней выписана и т.п..Ну, тогда еще был Советский Союз, да и нас было семеро измученных и не очень веселых ребят, так что мы с тем участковым, быстро разобрались….
Решили не заезжать в Караганду, не делать лишний дорожный треугольник, поэтому пошли напрямую, через Осакаровку, Вишневку – на Целиноград. Самый трудный участок пути оказался от Атбасара, через Жаксы, Рузаевку – на Кустанай. Там все было похуже – и дороги, и заправочные станции, да и погода тоже. От Кустаная – до Рудного, и дальше до Джетыгары, стало полегче, там большие города расположены чаще, и сообщение между ними, более менее интенсивнее, по прочищенным дорогам. А потом, до самого Ащелисая, – опять было тяжело, но мы-то уже были рядом с домом!
Как бы там ни было, но мы ехали – Семь суток. Небритые, немытые, озябшие, но добрались домой…довольные. Привели все машины в целости и сохранности, и даже никого не простудили. Мне, конечно, было не очень комфортно, так как я не предполагал, что буду ехать через весь огромный Казахстан на грузовой машине и в декабре, поэтому, и одет был не совсем по сезону, но, все, слава Богу, обошлось. Мне об этом ребята не говорили, но через родственников и жен водителей, доходило, что они были очень довольны тем, что я с ними поехал. Получилось удачно с трех сторон сразу – я одновременно выступал, как представитель руководства колхоза, как сменный водитель и как один из ребят группы, среди которой были и те, с кем вместе провели молодость, и просто родственники, уже ащелисайцы. Меня считали всегда за местного жителя, а это и почетно было, и ко многому обязывало. А ребята показали, что они – команда! Команда колхоза «Передовик», из Ащелисая. И что такие испытания для них – обычная текущая работа, которой они на самом деле занимались всю свою рабочую жизнь. И я им всем очень благодарен за это, надеюсь –и Ащелисай, -тоже.
А все потому, что основной девиз лучших людей нашего села, всегда был один : «Надо – значит Надо!».
«КОММИВОЯЖЕР»
Считается, что увлечения или, как их еще часто называют, хобби, в жизни людей занимают не главное место. Это что-то вроде процесса удовлетворения духовных потребностей, хотя если вникнуть в суть любого увлечения, то очень часто можно проследить его материальную основу. У рыбака, увлекающегося рыбалкой, вроде бы обожающего сам процесс, тоже подспудно присутствует мысль о пойманной рыбе. У какого-нибудь коллекционера, дрожащими руками достающего из потайного места редкую монету, марку или этикетку, любующегося ею дома под одеялом и пылающего от гордости за обладание ею, всегда присутствует какой-то материальный интерес
К еще большему сожалению, приходится констатировать факт довольно быстрой коммерциализации «хоббизма», то есть ускоренной трансформации духовных увлечений-интересов в чисто материальный интерес
Люди есть люди. И сколько людей – сколько и интересов, хороших и плохих, разных и безобразных. На смену джентльменам по духу пришли «джентльмены удачи» со своими интересами и увлечениями. Часто материальная сторона увлечения настолько превалировала, что просто «втягивала» в себя людей и уже не выпускала, засасывая их все глубже. Увлечение, таким образом, становилось бизнесом, не всегда законным, и превращалось в обычную жажду наживы.
Расскажу об одном таком увлеченном любителе, жизнь которого стала ярким примером никчемности и бесполезности. В принципе хорошего мастерового, поддавшегося на соблазн выгоды от безобидных поначалу увлечений.
Человека звали Федор, по фамилии Карпов. Жил он в городе Орске Оренбургской области, в частном доме, недалеко от Никелькомбината. По национальности – мордвин. Я это узнал из его неоднократных заявлений о том, что мордва – основа России, и что Ленин тоже имел мордовские корни. С молодых лет он работал на одном из Орских заводов, был действительно мастером – «золотые руки», рано вышел на пенсию по горячему цеху. Тогда и пришел расцвет его увлечениям. Он действительно мог сделать, что угодно, тем более в Орске, где столько различных предприятий и столько возможностей.
Начал он с необычного хобби, но довольно приземленного и практичного. Он сконструировал и собрал уникальный стационарный самогонный аппарат и установил его на кухне. Казалось бы, эка невидаль – аппарат! Да их в Орске сотни, и все уникальные. Но нет. Аппарат Федора, весь из хромированной и нержавеющей стали, имел такие системы фильтрации, сепарирования, дубляжа и отстоя, что ни один ликероводочный завод не мог и мечтать об этом. Самогон, а точнее спирт, выработанный им, на несколько порядков превышал по качеству все подобное, производимое в области и за ее пределами.
Неудачное, прямо скажем, получилось у Карпова хобби. Он увлеченно сделал аппарат, затем еще более увлеченно запустил его в работу, а дальше увлечение столкнулось с необходимостью выбора. Он задумался: если запускать аппарат для себя, то тогда никакого здоровья не хватит, а если привлечь интерес окружающей рабочей среды, которой в Орске полгорода и которая за стакан водки растащит любой завод, любое производство, то тогда дело пойдет. И Федор выбрал второй путь.
И количеством, и качеством продукции своего спиртового цеха он привлек довольно приличную, по меркам заводского поселка, армию любителей выпить, у которых «хобби» было примитивно-простым – похитить с завода заказанную Федором деталь, инструмент или запасную часть и обменять у него же на водку. Карпов знал толк в дефиците, и барахло не принимал. К нему стекалось за бесценок все новое, хромированное, никелированное и кому-то необходимое. Обороты росли, а так как коллекционировать ворованное он не собирался, надо было выходить на рынок и, конечно же, не на орский, где все изделия были известны. Надо было находить сбыт вне города. Врожденная жадность не позволяла привлекать и к рекламе, и к реализации посторонних. И он решил все это делать сам
Поручив сыновьям производство спиртного и обменные операции, Федор занялся коммивояжерством, то есть развозил и предлагал всякую всячину, договаривался о поставках в объеме и ассортименте, а потом уже реализовал все заказанное. В основном он имел дело с колхозами-совхозами соседнего Казахстана и, надо сказать, оказывал им довольно ощутимую помощь, так как хорошие изделия по сантехнике, некоторые инструменты были недоступны сельским жителям в свободной продаже.
Вот тогда мы его и узнали. Он пришел и предложил свой «товар». Из-за острой нужды в нем – мы согласились. И несколько лет поддерживали с ним обменные связи. Приезжал он к нам не часто, всегда по субботам, на автобусе или на машине с сыном, привозил десятка два-три вентилей, кранов, резцов и другие мелочи. Мы с инженером их проверяли, составляли акты на приход, передавали в склад, а Карпову, исходя из пересчета, отпускали мясо, иногда зерно и т. п.
Мы, в принципе, брали то, что нам было крайне необходимо, а отдавали то, что было в избытке, то есть обе стороны- оставались довольны. Но я в этой были хотел показать совсем другое – саму суть трансформации человеческих увлечений, поведать о том, как мастеровой человек, потомственный рабочий, через свое первичное хобби, втянулся совсем в другую жизнь. В нем проснулась доселе неизвестная ни окружению, ни ему самому, врожденная смекалка, переро-дившаяся в корысть на благоприятной почве всеобщей бесконтрольности, вседозволенности и безнаказанности.
Он поднялся на несколько ступеней выше даже в своих глазах и уже смотрел на город, как на свою вотчину. Перестал принимать мелких воришек-несунов, а начал искать, где что плохо лежит в целом по городу. Больше не носил в сумке вентиля, а предлагал уже что-то объемное. Я сперва не придавал значения слухам из других колхозов, что Федор то-то и то-то привез к ним, то какой-то вагон, то троллейбус и т. п. Но когда к нам в колхоз инженер привез от Карпова огромную цистерну с остатками какой-то жидкости, и ее начали за селом разрезать на части, потравив телят, кур и вообще всю живность в ближайших дворах, я понял, что Федор начал нашими руками – не красть, нет, а просто брать все, что бесхозно лежит, где угодно, даже на подсобных территориях заводов. Еще понял, что с такими обменными операциями мы скоро потеряем авторитет и поссоримся с городскими властями Орска.
Надо было найти повод для разрыва. И он подвернулся, даже с неожиданной стороны. Приезжает как-то Федор, уже без мелочей, и говорит: «Есть новый двухосный прицеп, за триста рублей, если хотите – берите».
Меня как осенило. «Стой, – думаю, – на выезде из города у предпоследнего дома улицы, выходящей к старому переезду через реку Орь, несколько месяцев стоит новый прицеп, без переднего правого колеса, камень под передний мост подложен. Не об этом ли прицепе идет речь?».
Несколько раз проезжая мимо, удивлялся, почему хозяин уже год его не забирает. Если воры смотрят, где что плохо лежит, чтобы украсть, то я, как бухгалтер, смотрю, где что плохо лежит,чтобы положить на нужное место.
Чувствую, Карпов именно этот прицеп имеет ввиду. Пообещал поговорить с председателем на эту тему, и мы расстались. Дело было в воскресенье. В понедельник пригласил с утра заведующего гаражом и сказал: «Если машина идет в Орск, то хорошо, а если нет – пошли специально. Возьми с собой запасное колесо от ГАЗ—51, увидишь прицеп на окраине города, поставишь колесо и притянешь прицеп в гараж. Найдется хозяин – отдадим, а если кто-то из целинных совхозов колесо пробил и бросил, то добро пригодится нам».
В тот же день прицеп был в колхозе. А Карпов больше у нас не появился. Когда он увидел, что прицеп исчез, интуитивно понял, кто его прибрал к рукам.
Больше я Федора не видел, но слышал, что взбунтовавшиеся мелкие «поставщики», из-за его противности, то ли дом подожгли, то ли по-другому «нейтрализовали» его, но «обменного» пункта не стало.
Как видите, не всегда трансформация духовного увлечения в более прозаическое, материальное, проходит удачно. Здесь важно вовремя остановится и не переступить ту грань, которая отделяет добро от зла, увлечение от преступления.
ОЧЕРЕДЬ
Слово-то какое в русском языке – «пулеметно-убивающее», его так и хочется произносить в растяжку, длинно: о-че-ре-дь. Наверное, потому, что у нас всегда очереди были длинными и долгими, хоть за хлебом, хоть за водкой, хоть за автомобилем или стиральной машиной. Не могли мы без очереди.
И все было у нас не так, как у людей. В других странах очереди только на биржах труда были, за всем остальным чего им было стоять: все, что необходимо, можно купить, где угодно и сколько угодно, были бы деньги. Поэтому там люди и стояли в очередь за работой, чтобы заработать деньги – других проблем в этом направлении у них не было. У нас, повторяю, наоборот, проще всего было устроиться на работу, а уж как кто работал и что производил, не столь важно.
Зарплату получали, даже гарантированную, как в нашем несчастном сельском хозяйстве, а купить на нее было нечего. Не стыковались два основных экономических понятия – зарплата и производство, точнее производительность.
За свою жизнь в каких только очередях мне не довелось стоять! От хлебных всенощных в голодные сороковые, до автомобильных в семидесятые-восьмидесятые. Дела «очередные» доходили иногда до откровенного идиотизма или просто необъяснимого маразма. Очередь, к примеру, на автомобили, курировал райком партии, на уровне первых лиц.
Вот я, работник аппарата районного звена, добросовестно отработавший на разных участках 25—30 лет, стою в районной очереди на автомобиль, и чем дольше стою, тем дальше отодвигается моя очередь. Раз в четыре-пять лет пытаюсь напомнить тем, кто распределяет, что, мол, пора и на меня внимание обратить. А в ответ всегда стандартное: «А что скажут люди?» А те «люди» уже по три машины поменяли, и ничего, никакая совесть их не мучает. А меня мучает от того, что я такой несознательный. Потом опять три-четыре года проходит, снова обращаюсь, и опять меня стыдят за несознательность.
В общем, перестоял я много очередей, как и все другие наши несчастные люди. И за сахаром, и за пивом-водкой, и за чем угодно, так как у нас всегда чего-то не хватало. По этому поводу один старик-казах как-то в разговоре очень мудрую фактуру выдал. «Эх, – говорит, – неромно живом, шай есть, сахар нету, сахар есть, шай нету, а вот брат мине ромно живет – ни сахара, ни шая нету!»
К сожалению, мы сейчас уже близки именно к такому уровню жизни. И очередей поубавилось. Все можно купить, те же автомобили, бери – не хочу, вернее не могу, так как все есть, да чужое, а деньги нужны наши, а их как раз и нет, по разным причинам.
Но задача данной были об очередях – показать, как мы бестолково жили раньше, сами себя загоняли в эти позорные очереди, теряя лицо страны перед всем миром. Достаточно вспомнить московские винно-водочные очереди восемьдесят шестого-седьмого годов. По правде говоря, жаль, что люди в те времена так и не растерзали хотя бы одного из бывших антиалкогольных идеологов-перестройщиков. Может, другим неповадно было. А вообще-то мы еще долго без очередей просто жить не сможем, и сегодня их порождаем, где только можем, правда, уже больше на чиновничьем уровне. Ну, никак они не хотят расставаться с таким источником дохода, каким всегда являлась очередь.
С точки зрения материализованной философии, нашу людскую очередь можно представить себе в виде кабеля сверхвысокого напряжения, обращаться с которым надо с особой осторожностью, соблюдая все меры безопасности.
Тронуть любую нашу очередь могут только очень недальновидные люди. Это классика. Расскажу несколько случаев из жизни, просто для иллюстрации.
В конце шестидесятых годов прошлого уже века довелось мне учиться в Москве в институте. Позвонил один земляк, сказал, что будет на выставке достижений народного хозяйства и хотел бы пообщаться. Встретились мы в его номере в привыставочной гостинице «Ярославская», потом погуляли по Москве. Помню, купили ему домой упаковку стирального порошка «Лотос» и уже шли от метро к гостинице. Был теплый весенний день. Снег интенсивно таял, в зимней одежде уже стало жарко. Между корпусами гостиниц «Ярославская» и «Золотой колос», был деревянный, довольно старый по виду, пивной ларек. Земляк говорит: «Давай, по кружке пива выпьем. Жар-
ко!» Подошли. Он встал в очередь, а я отошел немного в сторону с его ящиком «Лотоса» и просто наблюдал за очередью. А она, очередь, состоявшая из возбужденных жаждущих мужиков, была чем-то похожа на виляющую хвостом змею, которая головой упиралась в ларек и как бы всасывала в себя то, что в нем было. Наэлектризованная до предела, она не терпела резкого слова, тем более действия, замедляющего ее продвижение к заветному окошку, где жонглировал бокалами некто Боря – огромный, с лиловым лицом, усыпанным разно-размерными болячками.
Многие из состава очереди, скорее всего, были завсегдатаями этого ларька. Они нервно подбадривали Борю, стараясь как-то ускорить процесс и быстрее получить вожделенную кружку с пивом. Со стороны я почти физически чувствовал наэлектризованность очереди и чего-то ждал, сам не понимая чего. Дождался. К мужикам, стоящим где-то в середине очереди, подошел изрядно помятый средних лет мужчина, с маленькой собачкой на руках. Он имел неосторожность тронуть очередь: мол, пропустите вперед, а то собачку вроде как кормить или лечить надо, что-то в этом роде.
Очередь тут же сжалась: «Это ребенок, что ли?» Любителя собак тут же выбросили в самый конец. Тот опустил собаку на снег и грустно держал ее на поводке. Но очередь уже не могла просто так успокоиться. Впереди мужика с собакой, стоял молодой парень, держа за руку девочку лет пяти. Она обернулась и хотела погладить злополучную виновницу скандала. Но собачонка оказалась неприветливой, и ухватила зубами её за варежку. Девочка, естественно, испугалась и закричала во весь голос. Очереди этого только и надо было. Отец девочки, наверное, футболистом был. Резко развернувшись, он размахнулся и так двинул по собачке правой ногой, что она вместе с поводком перелетела на другую сторону неширокой в том месте проезжей части улицы. Очередь словно сломалась и вскоре закольцевалась вокруг того неразумного владельца собаки. С криками: «Дай и хозяину!» – самые ретивые пустили в ход кулаки. Все это действие заняло минуту, не более.
Но очередь помнила главную свою задачу, и, выбросив нарушителя вслед за собакой, снова все свое внимание перенесла на ларек, на Борю и вожделенную пивную струю.
Через пять минут опять сбой. Опять завиляла хвостом очередь. Какой-то мужчина, явно не местный, взяв в руки две кружки пива, вдруг в сердцах заявил продавцу: что ж ты, мол, одну пену гонишь! И здесь случилось уже чисто московское, столичное.
Услышав обвинения в свой адрес, Боря озверел, высунул из окошка свои огромные волосатые руки, схватил недовольного покупателя за воротник полупальто-«москвички», притянул к окошку и громовым голосом заорал: «Ах, ты…, наверное, ростовский, да я тебя… Ты знаешь, что я подполковник милиции в отставке (да, в Москве не только подполковники могут торговать пивом). Ребята, держите этого козла, пока я выйду!» И понеслось. «Боря, – умоляла очередь, – брось его и наливай». Но не тут-то было.
Несчастный покупатель, притянутый лицом к окошку, уже не рад был тому пиву и, скорее всего, проклинал день, когда его послали в Москву на выставку. Но дело было сделано. Очередь оторвала его от Бори и буквально вышвырнула из своей зоны.
Хорошо, что подошла очередь моего земляка Мы выпили по бокалу пива, обсудили ситуацию и на всю жизнь зареклись трогать наши очереди, любые, за чем бы они ни стояли.
Никогда нельзя вступать в конфликт с нашей очередью. Это достаточно полно характеризует еще один случай.
В далекие теперь семидесятые годы, в той же Москве, в виде эксперимента, давали в магазинах спиртное с 11 утра до семи вечера Ну, с утра как с утра, а вечером перед этими злосчастными семью часами, как правило, в магазине было битком – и в основном мужики. Кому-то не хватило, кто-то не успел. Но очередь в это время была всегда.
Помню, после занятий заходим в магазин, взять что-то на ужин. Полагали, что после семи в магазине никого не будет. И вот картина. Без пяти семь. Очередь – человек двадцать, а один наш классический аспирант, в огромных очках, стоит первым с целой сеткой пустых бутылок. Когда он начал их, не спеша, выкладывать, очередь не выдержала и взорвалась. Какой-то огромный заросший работяга, подбежал с криком к тому аспиранту-сдатчику: «Ты что, гад, издеваешься, не видишь, без пяти семь!». Сгреб его в охапку и вместе с бутылками отшвырнул в сторону. Очередь благодарно охнула и осуждающе смотрела, как аспирант искал очки и собирал свою посуду.
Мы сами породили этот позор, приучились к нему и уже не могли без него жить. Скучно, когда нет очередей, когда нет оснований брать взятки на всех уровнях за «внеочередное» обслуживание.
К сожалению, наш менталитет еще долгое время будет, даже подспудно, требовать очередей. Скорее всего, мы будем их придумывать, даже если стоять незачем будет, и не будет необходимости терять время и человеческое достоинство. Но лучше не стоит этого делать.
Очень бы хотелось, чтобы наши будущие поколения знали только понятие «очередность» – без этого в жизни не обойтись, и никогда не знали очередей, тех, в которых выстаивали мы. Дай-то Бог!
КАК ЛЕЧИЛИ ОТ ВОРОВСТВА
Сегодня вор – это звучит гордо. Воры в законе, в переводе на русский, – это воры при власти. Это не прежние "джентльмены удачи" – сегодня сама удача у них в руках, власть то есть.
Но это сейчас. Конечно, так не будет вечно, потому, что просто быть такого не может. По жизни. Если в лесу был один волк, то он выступал в роли "чистильщика", санитара леса. Он убирал больных, павших животных и т.п. А если в лесу основная масса – волки? Если в селе был один воровитый или два, то все их знали, иногда ловили, били, сажали. Они приходили из тюрем, снова воровали, но с этим селу можно было жить. А представьте себе, что в селе стала жить основная масса воров, которая, естественно, не сеет, не пашет. Так что красть-то будут? Вор у вора красть будет? Поэтому, когда-то это все закончится. А закончится это тогда, когда людям это окончательно надоест. И не коррумпированные на всех уровнях органы власти, а сами люди, и очень быстро, воровство ликвидируют. Но только, если захотят, так как, в принципе, эта проблема решаема.
Но оставим эти общие рассуждения, раскроем альбом фотографий из ащелисайской жизни и перевернем очередную страницу, связанную с темой воровства. Покажем реальные меры по борьбе с этим злом на живом примере.
С начала семидесятых годов прошлого века, в связи с различными проблемами, возникшими в отрасли животноводства, в стране начались перебои с мясом. Я не буду останавливаться на причине этого явления, не та тема, но одно скажу – это было чистое издевательство над людьми.
1973-й год. Все происходит на моих глазах. С утра у центрального продовольственного магазина города Актюбинска, областного центра животноводческой области!, стоит очередь, за мясом! Привозят – две небольшие бараньи туши…. Давка, крики, драки. Но, по отчетам, мясо в магазине было. Мало, но это уже второй вопрос. Те, кто съедали семьей по барану в день, выбрасывали людям по два барана в день, на крупный город!
Мясо тогда не только поднялось в несколько раз по цене, оно стало сказочно невидимым! Его простым людям не было видно! Куда его девали, это отдельный вопрос, но до людей оно не доходило.
Такое положение не могло обойти и нас, колхоз в Ащелисае. Пошли недостачи поголовья по фермам. В соседних колхозах, видимо, было больше любителей мяса, так как у них недостачи в целом по хозяйству, пошли на сотни голов. Начали в районе искать причины, вспомнили про волков, болезни и т.п. Но причина была в двуногих волках, кризис с мясом дошел до первоисточника.
В нашем колхозе таких "рывков" не было, но где-то в начале года, пришел к нам на работу чабаном некто Муханов(фамилию я изменил, специально). До этого он работал чабаном в соседнем совхозе, села Алимбетовка. Каструбин не хотел брать его на работу в колхоз, но пошли звонки "сверху", и пришлось согласиться. Дали ему отару овцематок в 1000 голов, и пас он их в горах, на нашей отгонной точке – Бугумбай. Он ни заведующему фермой, ни другим чабанам не нравился, но пасет себе овец, – и пусть пасет.
Раздумывая над тем, как обезопасить хозяйство от воров, особенно по части овец, я, как главный бухгалтер, решил сделать простые такие расписки, в которых чабан, принимая в свой подотчет какое-то поголовье овец, обещал в случае недостачи возместить колхозу стоимость пропавшего поголовья по балансу, т.е. по себестоимости.
Обговорили мы все нюансы с главным экономистом колхоза ,С.У. Смаиловым, он был очень понимающим и толковым специалистом. Заготовили такие расписки, в двух экземплярах на каждого чабана, и где-то в мае объехали все отары. Пересчитали поголовье, внесли данные в расписки, чабаны их подписали, и как бы правовая база была определена. Чабаны, в т.ч. Муханов, легко подписали эти расписки потому, что по себестоимости (по бухгалтерскому балансу), к примеру, овцематка стоила 10-11 рублей, а на рынке 50-60 рублей. Есть разница? И все-таки, чтобы все было еще более официально, я заверил подписи чабанов в нашем сельском Совете подписью председателя и гербовой печатью.
При подписании расписок мы показали и разъяснили чабанам разработанные нами, -мной и главным экономистом, хозрасчетные задания и расценки за продукцию по итогам года, согласно которым они получали в виде аванса стопроцентную тарифную ставку, а по итогам года – перерасчет с учетом полученной и оприходованной продукции. Это было введено в нашем овцеводстве впервые, но чабаны нас давно и хорошо знали, так что поверили.
Пришел конец года. И здесь, признаюсь, я совершил умышленное нарушение, для пользы дела. Хотя вряд ли это можно было назвать нарушением, так как заведующие фермами часто условно распределяли затраты по направлениям, и не всегда объективно. На овцеводстве, где мы не блистали особыми показателями, искусственно занижались фактические затраты. За все "отдувались"– молоко ,и мясо КРС и свиней.
Я это хорошо знал, поэтому при составлении годового отчета перенес часть затрат молочного стада на овец, в таком пределе, что голова овцематки стала стоить по балансу 55 рублей с копейками.
А перед Новым годом мы провели обычную инвентаризацию, пересчитали поголовье и выяснили, что в отаре Муханова недостает 60 овцематок. Плановый отдел сделал ему расчет по продукции, ему причиталось 1800 рублей по итогам года Затем мы с него удержали за недостающее поголовье более трех тысяч рублей, и остался он должен колхозу около полутора тысяч.
Я сообщил об этом заведующему фермой – Акраму Садыкову. Сообщил также, что всем чабанам сделан перерасчет за продукцию, они впервые получат солидные доплаты, а вот Муханов – или пусть достает где-то недостающих овцематок, или будет погашать долг перед колхозом. Акрам уехал в Бугумбай, и уже наутро Муханов, естественно, был у меня.
"По какому праву! Кто ты такой! Да ты знаешь, кто я?" – начал он. Его возгласы я выслушал спокойно и повторил то, что сказал Акраму, – верни недостающих овцематок. Если бы они пали, были бы трупы и акты, а так, извини, платить надо.
Он мне много каких угроз наобещал, но, думай, читатель, что хочешь, а я никогда и никого не боялся, потому что никому ничем обязан не был. Я его вежливо выпроводил, и на том инцидент был вроде исчерпан.
Дело было в субботу. А уже утром в понедельник, в окно кабинета увидел пришедшую машину, из которой вышли Муханов и помощник районного прокурора, не самый приятный для общения человек. Я сразу позвонил Серику (главному экономисту), попросил зайти. Он зашел, и я ему отдал вторые экземпляры чабанских расписок. Мы их хранили в двух экземплярах на всякий случай. Отдал расписки и сижу, работаю. Через пару минут, естественно, без стука, в кабинет быстро заходит помощник прокурора, за ним – Муханов. Они были какими-то родственниками, что ли. И сразу: "Кто вам дал право, вы что суд?", и т.д. Выслушав его, ответил, что чабан Муханов сам, по доброй воле, дал расписку, где указал, что недостающее поголовье без суда и следствия обязуется вернуть по балансовой стоимости колхозу. Ну, или вернуть поголовье недостающего вида. "Что вы тут несете, какие еще расписки?!" И тут я медленно позвонил Серику: "Принесите, пожалуйста, из вашего сейфа чабанские расписки!" Серик принес. Я вынул один экземпляр расписки Муханова, где стояла, естественно, его подпись, протянул помощнику прокурора. Тот долго читал ее, переворачивал и снова читал, потом положил расписку на стол, повернулся к Муханову и выдал ему длинную тираду по-казахски, с русским матом в конце. Потом развернулся и вышел. Больше я ни его, ни Муханова, по этому поводу не видел. Серик мне сразу дословно перевел тираду районного гостя, но я ее излагать не буду. Неудобно, да и так все ясно. Можете не верить, но резонанс этого действа был на весь район. Больше овцы у нас не пропадали. Невыгодно стало их "пропадать".
Это, конечно, мелкий штрих. Но воровство, не то, мелкое, голодное, когда человек или ребенок ворует что-то, чтобы съесть, хишническое воровство будет, как уже было сказано, до тех пор, пока люди его терпят. Захотят – быстро уничтожат, не захотят, воровство уничтожит их.
И вот что хотел еще добавить. Вор не должен сидеть в тюрьме. Надо эту цепочку – "украл, напился, наелся, надрался, сел, вышел, снова украл и т.д." – не просто разрывать, надо ее хоронить, то есть зарывать в землю. Зачем нам держать вора в тюрьме, кормить, поить за счет общества? Это что, вроде как наша плата за то, что он изолирован и нас пока (!) не трогает? Но он снова выйдет, и снова начнет делать то, что делал до тюрьмы. Подобного просто не должно быть в нашем обществе. А вот как этого добиться, – думайте все.
НЮРА
О таких людях мало пишут, да и мало рассказывают. Глупые смеются, умные и добрые жалеют, другие не замечают, или боятся, а ведь они есть, живут среди нас, и никуда их не денешь. Речь идет о людях с какими-либо дефектами, физическими или умственными. Природа очень жестоко поступила с такими людьми. Во-первых, допуская их появление на свет, во-вторых, обрекая их и их близких, на продолжительные и невыносимые муки. Хотя людям с какими-либо умственными проблемами находиться в человеческом обществе условно проще, так как они не осознают сути происходящего и не ощущают проблем, возникших с их нахождением в этом мире.
Гораздо тяжелее переносить это тем, кто имеет недостатки чисто «хирургического» характера и в то же время ясную голову. Такие или впадают в меланхолию и становятся деспотами по отношению к окружающим их людям, или начинают усиленно заниматься собой, образованием и совершенствованием, чтобы компенсировать свою ущербность, и жить, что-то творить, делать по возможному максимуму. Многие из таких людей добиваются замечательных результатов и заслуживают самой высокой похвалы.
Часто бездушные люди заявляют: «Ну, зачем, мол, появляются такие, на свет? Может, их как-то надо при рождении…». Кощунство это. Появление таких людей – скорее всего наказание Господне, чтобы люди искали и понимали суть жизни, а своим поведением не способствовали таким явлениям прямо или косвенно. Хотя таких людей не так уж много, но они есть в каждом городе и селе, разные по степени, но одинаковые по судьбе.
В нашем, Ащелисае, жила одна женщина. Звали ее Нюра. Нюра Стрекачева. Крепкая, дородная, симпатичная, внешне, женщина.
Не могу говорить грубо, но она буквально чуть-чуть не дотягивала до нормальной крестьянки. Все у нее было – порядочность, добросовестность, абсолютная честность, преданность, хозяйская чистоплотность и аккуратность, доброта и жалость, отзывчивость и желание помочь, но было и другое – примитивное на уровне детства мышление, и такая же, хоть и примитивная, но мудрость. Мудрость самой первозданной природы.
Она была как бы человеком из какого-нибудь прежнего века – такой пришла в нашу современность, такой в ней и жила, не развивалась. У нее было многое из того, чего уже не было у нас. Она не знала лжи и изворотливости, поэтому действительно выдавала истину в первой инстанции: что видела или знала, то и выдавала. Такие люди врать не могут, поэтому какие-либо ее замечания или просьбы окружающие принимали как должное, не сомневаясь в искренности и достоверности.
Первый раз я ее увидел, когда приехал в одну из тракторных бригад, куда меня направили на работу комбайнером. Нюра работала там поваром. Как-то в уборку едем утром на работу, машина из тех, что возили зерно. Скамеек нет, стоят в кузове человек пятнадцать. Заехали попутно в колхозную кладовую, там Нюра продукты для бригады получала, загрузились и поехали дальше. Получили молоко в обычном алюминиевом бидоне. Я взял да и сел на него, подстелив телогрейку. Вроде как удобнее ехать. Подходит Нюра: «Вацька, нэ цидай на молоко, а то дзопа теплий, и молоко прокици». Ну, вполне обоснованное предупреждение. Я тут же встал с бидона, зато все, кто стоял, упали в кузов от хохота. А мне как-то не было смешно тогда, больше было неудобно и стыдно. Как за себя, так и за ребят.
Это было мое первое знакомство с ней, тогда еще молодой девушкой. Прошли годы. Жили мы в одном поселке, потому, нет-нет, да и доходили слухи о Нюре. Она жила с сестрой и матерью. Потом вышла замуж, родила сына. Она всегда работала и добросовестно работала на разных несложных работах. Потом муж ее уехал. К ней начали прибиваться разные приезжие мужчины. Она же и накормит, и обогреет, и обстирает по доброте и наивности своей.
Я не интересовался всем этим и не знал, кого она там принимает, так как такая публика долго на одном месте не задерживалась. Да и зачем мне это было знать? Но судьба опять свела нас с Нюрой, причем, самым обычным образом.
В 1966 году был хороший урожай, последний год в колхозе начисляли трудодни, – на каждый трудодень, пришлось по два рубля. Так что, кто хорошо работал, неплохо и получил. У Нюры в тот год, еще с зимы, поселился какой-то Саша с Западной Украины. Жил он у нее со всеми доступными сельскими удобствами и удовольствиями. Обещал осенью после вспашки зяби жениться, а сам, немного подработав, потихоньку уехал. Не предполагал он, что будет хорошая доплата по итогам года, а когда узнал через друзей, что ему начислено более тысячи рублей, написал письмо Нюре. Ей сестра прочитала письмо, и Нюра пришла к нам домой, благо мы жили почти рядом, и естественной мудростью, выдала следующее: «Вацька, – услышал я, как и много лет назад, – ты колхози начальнык, бачиш Цаца (Саша) пыцэ (пишет), Нюра, я тэбэ любу, пиды до Вацькы, хай дасть мое племя (премию), а ты мэни ии прыслы (пришли), и я до тэбэ прыиду». И продолжила: «Вацька, ты грамотна, пыцы (пиши), Цаца, куй тоби, а нэ племя, гуляй на своий Бендерии. Вин Нюру любу, кажэ. Брэшэ вин, Вацька, так и пыцы!»
Вот вам и Нюра. Своим умом дошла до истины. Никогда никого не обманывавшая сама и не понимавшая лжи, она почувствовала ее интуитивно и даже поняла. Это было интересно, и это надо было видеть.
Нет больше Нюры на свете. Она прожила довольно долгую для своего состояния жизнь и внешне практически не менялась. Всегда с улыбкой на лице, не глупой, а приветливой, осмысленной и доброй. Всегда аккуратная и подтянутая, она так и осталась в моей памяти, да и в памяти всех, кто ее знал. Просто уверен, что у людей, кроме хорошего, о ней ничего другого не осталось, да и быть не могло.
Вообще-то, к таким людям надо относиться не как к обузе, а извинительно, с чувством сострадания и сознания определенной всеобщей вины. Но только так, чтобы они этого не замечали.
СТАТИСТИКА
То, что статистика знает все – все об этом знают… Статистика на базе оперативного или бухгалтерского учета стала основой практически всей нашей жизни.
Бедой государственной, особенно советских лет, было то, что верховные руководители охотно верили представленным им проектным и итоговым статистическим показателям Я хорошо помню, как выступая на очередном пленуме ЦК КПСС, Н.С. Хрущев на всю страну заявил, что недавно, когда он был в Минске, ему позвонили из редакции газеты «Правда» и просили согласовать публикацию обязательства Рязанского обкома партии о том, что область в следующем году выполнит план госзакупок мяса на 380%! Редакция боялась публиковать такие авантюрные соцобязательства. «Я, – продолжал Никита Сергеевич, – сказал редакции: публикуйте. Ларионов (первый секретарь тогда на Рязанщине. В.Г.) – человек ответственный и он слово сдержит». Чем все закончилось – известно. Во-первых целый год тот секретарь ходил в фаворе, его звали на работу в ЦК КПСС, а он жеманно так отказывался, подождем, мол, конца года. Да, область Рязанская тогда сдала четыре годовых плана по мясу. Они выбили весь скот. Дело доходило до того, что крестьянин забивая дома курицу, должен был сдать ее государству (на бумаге) в счет плана госзакупок, а потом выкупить ее обратно и съесть.
Ларионова взяли-таки на работу в ЦК КПСС, а когда он понял, что в очередном году область вообще мяса сдавать не будет по причине его полного отсутствия, то там же на работе и застрелился. Зато год ходил в супергероях. Вообще, зная ситуацию со статистикой советских лет изнутри, могу сказать, что лучше бы ее вообще не было, чем такая, доведенная до абсурда.
Помню, после правления Л.И. Брежнева в Молдавии в районах ходил такой анекдот – быль. Получил колхоз по два поросенка от свиноматок, ну мало же – отчитался в район, что получил четыре, ну опять мало – в районе еще два добавили, в Кишинев пришла сводка на шесть поросят, вместо фактических двух. Ну, положили на стол Брежневу ту сводку, он посмотрел и говорит: «Чтобы было справедливо, мы две головы заберем в счет плана госзакупок, а остальные четыре головы пусть пускают на воспроизводство»…
Борьба за нужную информацию, за какую-нибудь десятую долю процента была чуть ли не главной целью всей властной иерархической лестницы.
Все от тебя ждут больше и больше, чуть ли не вытягивают из тебя – только отчитайся, только давай прирост. Что потом будет – неважно, ведь той десятой доли процента ждут все и никто потом ничего выяснять не будет, давай сейчас. А каких только не было видов отчетности! Работал я главным бухгалтером. Казахстан, начало лета, зерновое хозяйство. Телефонограмма, вводится оперативная сводка о лете бабочек зерновой совки. Есть такой вредитель, когда комбайном убираешь, вместе с зерном в бункер сыпятся такие светлые червячки, в 10-15 миллиметров длиной. Они наносят солидный ущерб и вот еще до уборки вводят отчетность о наличии таких вредителей, ежедневно. Технология определения наличия совки довольно проста. Агроном-семеновод расставляет по полю небольшие корытца со свекольной патокой, в разных местах, в определенной последовательности. Затем объезжает поля и считает, сколько совки попало в корытца, и составляет информацию. На наших огромных полях, по 1000 и более гектаров, сбор такой информации был типичной «филькиной грамотой», но никуда не денешься – надо отчитываться. Агроном наш пару раз сводку составил, потом перестал ходить в бухгалтерию, то ли корытца закончились, то ли совка пропала. А район продолжает сводку требовать, доводя женщин нашей бухгалтерии до нервных срывов.
Как говорил наш главный агроном Лысенко И.Т., утро начинается… с водки. Он пропустил предлог «со». Один раз я взял трубку -требуют сводку о зерновой совке. Я посмотрел в журнал, переставил числа местами и передал. И тут девушка-агроном из райсельхозуправления,уточняет, а сколько среди совок мужских и женских особей? Я наугад назвал цифры, а она еще уточняет, для себя что ли, а как вы определяете их пол? А черт его знает, но тут же выдаю – а мы их, мол, про-пускаем через зубы, если яички в зубах застревают, значит пол мужской, если нет, значит женский. Девушка бросила трубку и больше из района сводку о лете зерновой совки от нашего колхоза не требовали. Видно, уже сами на месте определяли, кто к какому полу относится.
Была у меня еще и более прозаическая история, хочу уже, как ныне профессор, поделиться с молодежью, особенно студенческой.
На третьем курсе в институте был у нас обычный программный предмет «Общая статистика». Позже, на пятом курсе уже была своя «родная» сельскохозяйственная статистика, а на третьем пока общая. Так как я учился в Москве, а жил на расстоянии почти в две тысячи километров, где не было в полном объеме специальной литературы, а в библиотеке института в сессионные дни не протолкнуться, то приходилось много учебников покупать в Москве. Мне это было удобно, так как я работал главным бухгалтером, учился по своей же специальности, и закупаемая литература не только помогала в учебе, но и была необходима в повседневной работе. Перед каждой сессией, я шел в магазин «Глобус» возле музея Маяковского и покупал недостающие по данной сессии и вообще учебники, пособия и справочные материалы. Так я и поступил, приехав на учебную сессию за третий курс Купил несколько учебников, в том числе «Статистику» Хазанова. Нет, не того «Хазанова», а другого, профессора-статистика. Приходим на первое занятие по этому предмету. Заходит сухонький аккуратненький такой преподаватель, уже в возрасте и говорит: «Я буду читать вам общую статистику, фамилия моя Хазанов. Есть много учебников по общей теории статистики, но я вам все-таки рекомендую мой недавно вышедший учебник, он еще есть в книжных магазинах, там-то и там-то». Показывает нам свой учебник. Синяя та- кая обложка и белым написано «Статистика». Именно такую книгу я и купил несколько дней назад, ни у кого другого во время первого знакомства с профессором такого учебника не было. Надо отдать должное тому Хазанову, он блестяще знал статистику, умел ее преподать и именно от него я услышал замечательную определяющую фразу: «Главное в статистике – правильно сделать форму, а уже заполнить ее легче». Что тут добавить? А вот в конце сессии случился у меня с ним казус.
Приходим на экзамен. И вот здесь проявилась наша раболепская сермяжность, причем групповая. Вся группа, тридцать один человек, пришла на экзамен с книгой Хазанова, и все выложили книги на стол, как выражение покорности и благоговения. Один я не принес книгу, стыдно было нести ее на экзамен. Профессор обошел аудиторию, потом оставил пятерых студентов, остальные вышли, и экзамен начался. Где бы я ни учился, на экзамен всегда шел первым и это не обсуждалось. Так было и в тот раз. Взяв билет и быстро решив задачу, я пошел отвечать. Статистика для меня, ежедневно с ней сталкивающегося, не представляла каких-либо проблем.