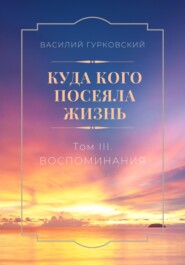скачать книгу бесплатно
Мне жаль тех ребят, жаль того невероятного трудного времени и жаль всего, что было нами достигнуто всего за два месяца. Мы при этом не пытались стремиться к чему-то возвышенному, кого-то или что-то исправить, мы просто хотели нормально жить. И это у нас, простых сельских ребят, получалось, и нам хватало свобод и вольностей. Когда ты при деле, настоящем, полезном людям и тебе, для тебя есть одна свобода – делать жизнь лучше, а не ждать, пока это сделают для тебя другие, те кто-то, глупые и неразумные, которых ты под ногами не видишь, но на них и благодаря им стоишь, да и живешь. Любая мразь может одним мазком, одним росчерком пера или словом, все уничтожить, как было в нашем случае.
Эти были из альбома 30 и 50 – летней давности. Я не знаю, что сейчас творится в лесном хозяйстве, но чувствую, что происходившее полвека назад было лишь цветочки, а сегодня «ягодки лесные» наверняка прибраны к рукам, но не Бабой-Ягой – с ней хотя бы договориться можно.
НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ…
Не имей сто рублей, а имей сто друзей», – говорили в старину. Позже «сто друзей» заменили на «сто тысяч». Сегодня от этой поговорки осталось собственно ничего, ни количественной со-ставляющей, что там те сто рублей, даже сто тысяч, да и качественная часть выражения испарилась, выветрилась, что делать – «ничего личного», только бизнес, а в нем – ни друзей, ни родственников, только выгода, выгода, выгода. Этот принцип, вернее беспринципность, культивируется в нашем обществе все круче и есть реальные опасения, что выйдя за предельные рамки дозволенного, такие подходы поставят крест и на самом обществе.
Это сегодня, а мы продолжаем листать простую, обычную и все же удивительную книгу жизни, и откроем страницу, где как раз идет речь о людях, наших друзьях, с которыми волею судьбы приходилось пересекаться по жизни, контактировать по разным вопросам, и насколько это оказалось полезным для нашей семьи. Абсолютно бескорыстная человеческая дружба, когда ты кому-то просто близок и приятен, как человек, и у тебя все это тоже взаимно – вот одна из вер-шин человеческого счастья. Ты никому ничего не должен и не обязан, и тебе тоже никто ничего не должен – вот основа настоящей дружбы между людьми. Все остальное – лишь производное от этого базиса. Много лет назад у нас появились проблемы со здоровьем жены, особенно в зимние периоды. В Казахстане, в северной его части, «зимние» периоды – это холод, бураны, бездорожье. В нашем селе был свой фельдшер Мартын Мартынович Вибе, он был на голову выше любого районного врача и без всяких анализов говорил, что у жены проблемы с почками. Но районные доктора это отрицали и при очередном приступе, когда я привозил ее в район на машине, в сопровождении гусеничных тракторов, в страшнейшие бураны, обязательно что-нибудь у нее выщипывали или удаляли, то аппендикс, то какую-нибудь кисту и т.п. Дошло до того, что хорошо знакомый мне хирург, главврач районной больницы, после очередной операции заявил мне, что знает мою жену лучше, чем я. То, что он вообще ничего не знает, несколько позже убедились все. За многие случаи почти окончательных приступов, когда жена уже была на грани самого плохого, в райбольнице, оказывается, даже не удосужились сделать снимки почек, хотя бы для того, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. То у них аппарат не работал, то пленки не было, то рентгенолога, то головы у кого-то, неважно. А я продолжал возить туда жену при очередном приступе. Это перешло в такую стадию, что и жена, и мы все, начали бояться очередного приступа, как последнего.
И вот в мае семьдесят четвертого года, я как раз в понедельник должен был ехать в Москву на сессию, а в субботу вечером позвонил Каструбин Г.И., председатель колхоза, предложил поехать с ним на реку Урал и посадить там бахчу, для себя. Территория нашего колхоза не выходила к реке, но соседний колхоз «Доброволец» выделил нам целый остров на реке, который по карте отходил к Казахстану и числился за соседним колхозом. Собственно, это был полуостров, весной его вода вообще весь заливала, потом уходила, оставляя с нашей стороны небольшую протоку, делающую выступ островом, а летом вода высыхала, и полуостров становился доступным для техники и пригодным для посевов и посадок.
Почва была лессовая супесь, с севера территория омывалась Уралом, за рекой уже была Россия. То было идеальное место для посадки бахчи. Арбузы, дыни, тыквы,там росли превосходно, для этого были все условия. Мы даже не всегда могли убирать весь урожай, и после нашей уборки, там еще лакомилась треть расположенного на правом берегу города Новотроицка.
Вот туда мы и поехали с председателем в воскресное утро, прихватив с собой семена бахчевых и четыре сапы, так как ожидалось еще двое гостей из города Орска. Приехали на Урал, встретились с городскими гостями. Один был хорошо знакомый мне Горожанов Михаил Максимович, представитель одного из крупных орских заводов, второго я видел впервые, он назвался Рудольфом Рудольфовичем. Посадили бахчу, разместились на берегу, май, тепло, трава зеленая. Сидим, закусываем, обмениваемся новостями и впечатлениями. Я спросил Рудольфа, почему он не пьет? За рулем, говорит, а через город ехать. А ты чего не пьешь,спрашивает, не из-за того же ведь, что тоже за рулем, кто тебя в этих горах остановит? Да, говорю, мне ехать завтра, с женой не все в порядке, и дома трое детей. И тогда он говорит – я главврач одной из орских больниц, ты привези ко мне жену, я ее просмотрю, может, что-то определим. Вот что такое судьба. Не пригласи меня председатель на посадку бахчи, я бы не поехал, не будь знакомым моим Горожанов, а он в свою очередь знакомый с Рудольфом – мы бы никогда и не встретились. Сейчас даже страшно подумать, как бы развивались события, если бы все было не так.
Недолго думая, я рано утром в понедельник отвез жену в Орск, к Рудольфу Рудольфовичу Пиддэ, он работал главврачом туберкулезной больницы в старом городе, оставил ее там, а сам уехал в Москву. Уже в институте меня нагнала срочная телеграмма с просьбой немедленно появиться в Орске, жене необходима сложная операция. На второй день я был там, взяв академический отпуск в институте. Ситуация был сложной. Пиддэ Р.Р., сам рентгенолог, сделал в своей больнице снимки почек жены, и оказалось, что вместо правой почки у нее огромный камень – коралл, заполнивший все почечное гнездо.
В городе Орске еще тогда была довольно разумная специализация среди заводских больниц, одни занимались чистой хирургией, и к ним везли нуждающихся со всех заводов, другие занимались урологией и т.д. Пиддэ отвез жену в другую больницу, где главврач Шиянов А.Н. был прекрасным урологом и сам оперировал по этому профилю. Он только посмотрел снимки, сразу же положил жену в больницу, сделал анализы и стал готовить к срочной операции, а затем вызвал меня. Операция прошла успешно, мы получили в подарок огромный серый коралл, чуть не стоивший жене жизни. По словам Шиянова, вся нечисть уничтоженной почки начали поступать и в здоровую, и жить жене оставалось месяц-полтора…
Вот вам и бахча, вот вам и наш районный главврач, не удосужившийся за столько лет даже снимок почек сделать, а только вырезавший каждый раз какую-то мелочь, как поганый телемастер из первых наших телевизионных лет. Слава Богу, все обошлось. Нет на свете уже ни Каструбина, ни Горожанова, ни Пиддэ, ни Шиянова, а жена, благодаря им, живет, и мы с ней будем благодарны этим людям, сколько будем жить. Они того достойны.
А вы говорите «ничего личного – только бизнес» – да провались он пропадом тот бизнес без хороших людей рядом.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА
В последние годы только ленивый не бросил камень в адрес правившей в советские времена компартии. Я не ставлю перед собой задачу говорить о партии, вспомним о людях, из которых эта партия состояла, особенно о тех, кто занимал в ней высокие руководящие посты.
Рядовые члены партии, в большинстве своем, добросовестно работали, часто показывая пример во всем. Основная партийная работа шла на уровне райкома, а уже с областных комитетов, ЦК республик и далее – шла совсем другая работа, с другими подходами, методами и способами. Номенклатурные работники, начиная с областного уровня, подбирались далеко не по качественным показателям и, попав в эту номенклатурную сеть, как правило, из нее не выпускались. Надо было что-то очень уж страшное совершить, чтобы быть из этих кругов изгнанным. Практически такого не случалось: если удары и наносились, то по первым лицам, остальная номенклатурная масса лишь туда-сюда ротировалась внутри своей зоны (области, республики, центра).
Все зависело от людей. Какие люди – такая и организация, такая и партия. Мы это хорошо знаем, так как на наших глазах те, кто раньше рьяно защищал коммунистические идеалы, теперь (опять почему-то оказавшись у власти), столь же решительно их опровергают.
Так получается, что нынешние «избираемо-назначаемые» лидеры ничем не отличаются от прежних «назначаемо-избираемых». Высокомерие, чванство, абсолютное пренебрежение и неуважение к тем, кто ниже их по иерархической лестнице, хамство, отсутствие собственного мнения (ни «да» – ни «нет»), запрограммированная тупость и в то же время – подхалимаж, угодливость к вышестоящим. Все это – классическая характеристика подавляющего большинства крупных партийных функционеров прежних, да и не только прежних, лет.
Мне по жизни не так часто приходилось иметь дело с высоким партийным начальством непосредственно. Так, разовые встречи. Но расскажу одну быль, которую можно считать классическим образцом партийно-производственных отношений.
Я никого не обвиняю. Понятно, что иногда уговаривать некогда, что необходимо и власть употребить. Но разумно.
Было это давно, а запомнилось на всю жизнь. После блестящего тысяча девятьсот шестьдесят шестого года, когда Казахстан выдал государству, как тогда модно было считать, миллиард пудов зерна, наступил сухой шестьдесят седьмой. Урожая практически не было, все выгорело. Сидим мы вдвоем в кабинете председателя колхоза. Считаем зерно, а что считать – на семена отбить не можем. Полтора центнера с гектара вместе с половой и землей. Дело к вечеру. И тут вдруг, как снег на голову, в кабинет буквально вваливается третий секретарь обкома. Я не буду называть его фамилии. Он и сегодня живет в городе Актюбинске. Раньше первый секретарь обкома занимался общими вопросами, второй – идеологией, третий – сельским хозяйством, четвертый – всем остальным.
Поздоровавшись, секретарь сразу набросился на председателя: «Сколько сдали хлеба государству?» Каструбин посмотрел на него и говорит: «Да что там сдавать, на семена отобрать не можем, а еще скот кормить, да и людям что-то дать надо». Секретарь вскочил: «Семена, люди – это не ваша забота! Немедленно начинайте возить зерно на элеватор!»
«А чья ж это забота, если не наша? – спокойно говорит председатель, – Вы же людям хлеба не дадите».
«Вы – кулак! – буквально закричал секретарь. – Зажимаете зерно в кулак (он показал, как мы его зажимаем), а то, что между пальцами капает (он снова показал), оставляете государству!»
«Да у нас и зажимать-то нечего, я же вам показываю все наличие зерна – и на бумаге, и в натуре», – не выдержал Каструбин.
«Я буду звонить Журину! (В то время первый секретарь обкома). Где телефон?»
Аппарат был у нас еще довоенный. С вращающейся ручкой. Секретарь начал с остервенением эту ручку крутить. Телефон молчал. После пятого или шестого захода он вдруг ожил и голосом старшего брата моей жены – Петра (ныне покойного) сказал: «Телефон не работает, обрыв, я сейчас на линии, постараюсь скоро исправить».
Секретарь еще более энергично закрутил ручку телефона. Через время Петр отозвался.
«Дайте мне Актюбинск!» – заорал секретарь. «Ты, шо, не пони-мешь, шо линия оборвана», – закричал ему в ответ Петро. «Ты зна- ешь, что я (называет фамилию) секретарь обкома? Немедленно соедини меня с Актюбинском!»
«Ты шо, кыргыз, чи турок? – обиделся Петро, – не понимаешь по-русски, что обрыв?»
Телефон у него полевой, мощный, и ругань заполнила весь кабинет председателя. Нам было неудобно, секретарь из темно-коричневого стал синим от злости, и снова завертел ручку телефона. Аппарат молчал. Тогда за ручку взялся я. Минут через пять Петро, не дожидаясь вопроса, вылил на меня ведро матов, но, услышав мой голос, успокоился. Я попросил его, как угодно, соединить меня с нашим бывшим райцентром Ленинским, чтоб через него выйти на область.
Уже ради меня Петро сделал все, что мог, и с Ленинским соединил Я передал трубку секретарю обкома. Он яростно схватил ее и тут же приказал набрать обком партии. Телефонистка сказала, что Актюбинск занят.
«Кем занят? – позеленел секретарь обкома. «Нашим первым секретарем райкома», – испуганно ответила телефонистка. «Рассоединить!» – заорал секретарь обкома. «Не могу, меня с работы выгонят», – умоляла телефонистка.
В конце концов, соединили его с обкомом партии. К счастью для нас, первого секретаря уже не было. И вот тогда секретарь обкома пошел в разнос. Позвонил начальнику связи области – тот в отпуске. Заместителя начальника, женщину, нашли уже дома Он над ней измывался минут сорок, обещая все кары небесные по приезде. Бедная женщина получила за всех.
Секретарь даже забыл, зачем приезжал. Не попрощавшись, он выскочил из кабинета и уехал. Шофер нашего председателя потом рассказал, что водитель секретаря обкома три часа, выпятив губу, просидел в машине, ни с кем не общаясь, а когда секретарь вышел из конторы и сел в машину, рванул с места и погнал машину, как на пожар.
Через неделю на нашу почту пришло грозное письмо из области с требованием самым жестоким образом наказать связиста, но так как начальником отделения связи была его жена, то наказание закончилось простой отпиской.
Вот такая зарисовка из жизни тех лет.
Всякие были люди, всякие, а нам нужно было работать.
ОН НЭРЬВНЫЙ…
В прежние наши советские времена очень модными были общественные нагрузки. Было их бесчисленное множество, плодились они в какой-то непонятной прогрессии; и так как их исполнение (любое – хорошее или плохое) происходило без оплаты, то и распределять их было проблемно.
Как правило, распределение шло под нажимом. Тут уж привлекалось в порядке аргументов все, что можно, – и патриотизм, и долг, и партийно-комсомольская обязанность, и все, что угодно, по этой части.
Причем, над всем этим многообразием поручений и нагрузок довлел старинный, но достаточно верный девиз: «Кто тянет, того и погоняют». Одним вообще ничего не поручали, бесполезно, мол, все равно не сделает, а на других «навешивали» по нескольку поручений, зная, что они будут исполняться. Другой вопрос, – как и когда?
Когда я работал в колхозе, то незаметно перенес на себя основную массу общественных нагрузок, не потому, что любил эти самые нагрузки, а потому, что легче и быстрее было что-то сделать самому, чем убеждать, уговаривать и помогать кому-то, это делать.
В многочисленном перечне поручений было такое, как ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Придумают же такое название – «общество содействия». Кроме распространения лотерейных билетов этой организации и сбора членских взносов (что ценилось больше всего!), надо было что-то еще делать. Добился изготовления сейфа для оружия, закупил малокалиберные винтовки, патроны, различные мишени, думал кружок стрелковый организовать, но все никак не получалось. Прошло довольно много времени – вроде бы все уже было для занятий стрельбой, а сдвигов никаких…
И вот однажды заходит ко мне Николай Гончар, он возглавлял ДОСААФ в другой сельской организации – СРМ. Предлагает в воскресенье коллективно выйти в горы и пострелять по мишеням. У него в организации был малокалиберный пистолет, а винтовок и патронов не хватало. У нас же все это было, и мы быстро договорились. В воскресенье утром я взял в гараже машину, вызвал кассира, взяли из кассы, там стоял оружейный сейф, винтовки и поехали в скалы.
Целый день мы провели на импровизированном стрельбище. Перестреляли не только все мишени, но и все то, что можно было использовать, как мишень. Ребята остались довольны. Все прошло нормально.
Возвратились в село, когда уже стемнело. Гончар попросил положить пистолет до утра в какой-нибудь сейф. Вызывать кассира ночью и вскрывать помещение кассы я не стал, просто положил пистолет в свой рабочий сейф, а винтовки взял на ночь домой.
Летом на работу выходили к шести утра. Я принес из дому винтовки, достал из сейфа пистолет, положил на стол и позвонил в гараж, чтобы послали за кассиром. В это время ко мне зашел бригадир асфальтировщиков, Феликс Егшатян. Он тоже выезжал с нами на стрельбище, поэтому мы в нескольких словах обсудили прошедшие стрельбы. Потом он попросил аванс в тысячу рублей, у кого-то из бригады дома были проблемы, и требовалось его срочно отправить. Я выписал ему ордер. Как раз привезли кассира, и Феликс, получив деньги, зашел ко мне сообщить, что можно нести оружие на место хранения.
В это время в кабинет буквально ввалился бригадир одной чеченской бригады. Высокий, заросший, в грязной рабочей одежде, и с ходу: «Слушай, дай аванс тисача рублей!» Я ответил, что денег в кассе сейчас нет. «А ты армяну давал! Ест денги». Я повторил снова, что сейчас в кассе нет денег, кассир поедет в банк, если привезет, тогда и решим вопросы аванса.
Бригадир оказался странным: «Дай пятьсот, ну дай триста, сто! Дай три рубля, видиш, у меня геморрой, кровь идет!» – он начал шарить рукой сзади себя.
Пока он кричал, я сидел, но по окончании его надрывной тирады, медленно начал подниматься. На столе передо мной – пистолет Марголина, отдельно лежала деревянная коробка, в которую он упаковывался. Стол с приставкой довольно длинный, и бригадир сперва, не видел, что у меня на столе. Когда увидел мое лицо и протянутую к пистолету руку, начал пятиться задом, не спуская с меня глаз. Через мгновение, он через бухгалтерию, вылетел на улицу. Я, конечно, не собирался в него стрелять, да и пистолет был не заряжен, но довел он меня до крайности.
Феликс вышел за ним. Уже позже, один из колхозников, стоявших в то время у колхозной конторы и ожидавших председателя, со смехом рассказал, чем все закончилось. Феликс, выйдя на улицу, подошел к тому бригадиру, что просил аванс, и в присутствии всех сказал: «Ты что, дурной? Ты чего на главбуха прешь, не знаешь, что он нэрьвный? У него и справка есть. Видел, какой пистолет в сейфе лежит? На полтора километра убойная сила! Хоть немного думать надо!»
Вот так с его легкой руки, все наемные бригады, а это сотни людей разных национальностей, многих из которых разыскивали различные органы, знали, что я «нэрьвный», и у меня в сейфе лежит пистолет. Мне имидж эдакого, сельского боевика, был не особо нужен. Беспокоило другое, все-таки первый этаж, сейф у меня – одно название, полезут за пистолетом, а там колхозная печать… Назло заберут.
Но, слава Богу, все обошлось. Все годы, пока я работал в колхозе, ходил по селу в любое время суток и никогда никого не боялся, потому что и сам никогда никого не трогал. А легенда о моей справке и пистолете так и кочевала из сезона в сезон среди приезжих бригад. Наши-то, знали, что и как, а чужие верили в легенду. Даже спрашивали, а, правда, и т. д. Я никогда не подтверждал, но и не опровергал такие слухи. Так было удобнее…
Имидж, оказывается, дело серьезное и довольно липкое, трудно-отмываемое. Но, выходит, иногда и полезное.
ПРОСТО СЛУЧАЙ
…Два года жесточайшей засухи, семьдесят четвертый и семьдесят пятый, запомнились многим людям, проживавшим в те времена на огромном пространстве к востоку от Волги и до самого Иртыша. На территории, где с успехом можно разместить не одну Европу, почти два года практически не было дождей, и стояли бесснежные зимы. В эту зону попали основные хлебообеспечивающие регионы Поволжья, южный и средний Урал, почти весь Казахстан и Средняя Азия. Два года подряд выгорало буквально все. Не было ни травы, ни зерна.
Травостой зерновых не превышал 10—15 см., комбайны не могли убирать их, даже при самом низком срезе.
Для людей не было проблем с хлебом. В зерновых районах, а они, повторяю, как раз и попали в зону бедствия, зерно для продовольствия в запасе было. А вот для животноводства – ни сена, ни соломы не было. И если в первый год засухи, кое-как вышли из зимовки, используя запасы предыдущего года, то на второй год стало ясно, что скот кормить будет нечем Ведь основную массу в рационе животных составляют грубые и сочные корма, которых просто не стало. Все сгорело на полях еще в июне. Ликвидировать животноводство в зоне бедствия, а это миллионы голов скота и овец, никто бы не решился, поэтому власти начали искать выход. Упор сделали, естественно, на местные возможности, а затем на заготовку соломы, хотя бы на стороне. Наша Актюбинская область заготавливала ее в Восточно-Казахстанской области – почти за 3000 километров. С учетом затрат на заготовку и доставку, тонна такой соломы, стоила дороже тонны макарон, но большое государство шло на это, чтобы сохранить поголовье животных.
Если бы это было сейчас, то животные, конечно же, пошли бы под нож. Мы, нынешние, в гораздо лучших условиях, сумели ликвидировать животноводство почти полностью.
А тогда было по-другому. Конечно, делалось много ненужного и затратного, но все-таки делалось. Была проблема во всеобщем идейном идиотизме, то есть любая хорошая для одних и неприемлемая для других, идея, культивировалась везде, без разговора. И горе было тому, кто пытался кого-то вразумить и говорил что-то – против. Таких не только власти, но и их окружение, как правило, угодливо-недалекое, неспособное ни на что, кроме устройства банкетов, приемов, охот и рыбалок, старались избивать по любому поводу и ущемлять, дергать и сталкивать, где и с чем (кем) только можно.
В нашем хозяйстве хватило бы своей соломы еще на две зимовки. Но если бы мы об этом заявили, то выпали из всеобщей обоймы «борьбы за корма». И у нас или изъяли бы излишки кормов, или на нас же, в случае чего, свалили бы все свои и чужие грехи.
Поэтому и мы заготавливали за тридевять земель ту золотую и ненужную нам солому, лишь бы не стоять на пути спущенной «сверху» идеи.
Как было уже сказано, параллельно с заготовкой на стороне, интенсивно велась работа по использованию местных возможностей. Так как косить было нечего, то была начата заготовка нового вида, например, «веточного корма». В ход пошли ветви деревьев и кустарников. А так как в казахстанской степи, этого добра не так уж много, то вырубили все насаждения по балкам и ущельям, лесополосы и т. п.. Специальным решением обкома партии, за каждым хозяйством, (колхозом, совхозом) было закреплено различное количество организаций, им был доведен план заготовки веток на корм, который контролировался специальными штабами на разных уровнях. Штаб в области возглавлял секретарь обкома, курирующий АПК, меры за неисполнение доведенных заданий принимались сверхжесткие.
За нашим колхозом закрепили десять организаций, в том числе – родное РОВД и областную больницу.
РОВД как РОВД – милиция сразу же обложила село постами и начала отлавливать наших же колхозников за различные нарушения общественного порядка. Оперативно сажали людей на пятнадцать суток и направляли к нам же на заготовку кормов, снимая с себя проблемы по доставке задержанных, их питанию, размещению.
Наши и чужие «зэки», выполняя доведенный план по тоннам, пилили под корень деревья любой толщины и «по-свойски» сдавали их на скирдование. Такой корм не брала не одна дробилка, кроме щебеночной, и ни одно животное, включая овец, не брало такую «дробленку» в рот, даже если ее сдабривали отрубями и патокой. Скирды веточного корма, после опадения листьев, стали штабелями дров и рассадниками для грызунов, но так как они были очень дорогими по стоимости, то стояли года четыре, пока мы их потихоньку списывали в расход, не используя.
Впрочем, это уже история. Но именно в то время был случай. Просто случай из жизни. Жизнь-то ведь шла, невзирая на погодные условия. А мы живем не только космосом, а больше по мелочам.
Как я уже сказал, в числе прочих, за нашим колхозом была закреплена областная больница. Врачи и медсестры, работая по – недельно, вахтовым способом, неплохо потрудились и за месяц выполнили доведенное им задание. Так как ветки нам не особо были нужны, мы их не стали задерживать. Оперативно сделали расчет, но когда я послал кассира в банк, она по какой-то банковской причине денег в этот день не привезла. Сказала, что дадут завтра.
Июль, жара, температура под сорок. Десять человек, уже настроившихся ехать домой, не захотели оставаться еще на сутки. Старший из них, зам. главврача областной больницы, перед отъездом подошел ко мне и попросил привезти деньги в Актюбинск. Мои люди, мол, заранее распишутся в ведомости, что получили свои деньги, и ведомость мы оставим вам, так как доверяем и вам, и вообще вашему хозяйству. А будут деньги – привезете. И дал адрес. С тем и уехали. Я, хоть это и нельзя, согласился, чтобы не гонять кассира по жаре за 150 километров.
На второй день, мы получили деньги. Следующим утром я повез их в областной центр, приурочив поездку к другим колхозным делам. В городе быстро нашел указанный адрес, был это частный дом, но никого в нем не оказалось – ни утром, когда я первый раз заехал, ни вечером. Пришлось везти деньги обратно.
Вечером звонит тот же зам. главврача Их, оказывается, еще вчера направили заготавливать те же ветки, но уже в другом районе. Поэтому, дома никого не было. Узнав, что я приезжал с деньгами, посокрушался, что так получилось. Но его группе, очень нужны деньги в командировке, и он убедительно просил на следующий день постараться привезти их по тому же адресу. Если никого не будет дома, то бросить их в форточку, которая специально будет приоткрыта.
На следующий день в Актюбинск направлялся главный ветврач колхоза по своим делам. «Слушай, Сарсен, – сказал я, – вот тебе адрес, и вот тебе конверт с деньгами. Найдешь дом, и если никого в нем не будет, бросишь конверт в форточку.
Сарсен уехал. А когда пришел ко мне отчитаться за доверенности, то на мой вопрос, долго ли пришлось искать дом, мгновенно ответил: «А что его искать – он прямо на углу!» «На каком углу?» – вскочил я со стула. «На обыкновенном углу». Я понял, что наш «доктор» подбросил деньги кому-то другому. Тут же позвонил в гараж, вызвал закрепленный за бухгалтерией «РАФ», взял с собой главного экономиста на всякий случай, посадил в салон Сарсена, и мы помчались в Актюбинск. Формально вроде бы все ничего, ну, так получилось, но людям же это не расскажешь!
По дороге, Сарсен вспомнил, что когда бросал конверт в форточку, то не попал в комнату, так как окно было завешено одеялом, и конверт упал между оконными рамами. «Ну, – думаю, – еще веселее стало – конверт видно с улицы». Еду – не знаю, за чем. Прошли сутки. Для чужих денег, в чужом доме, это слишком много времени.
Часам к десяти утра, подъезжаем к тому злополучному дому. Старинный, дореволюционной постройки частный дом, с большими нераскрывающимися окнами. Почти подбегаю к окну, куда Сарсен бросил деньги. Волнуюсь. И – о, радость: лежит он, родненький конвертик, у всех прохожих на виду, в двух метрах от тротуара. Окно так и занавешено одеялом. Хозяева, скорее всего, конверта просто не видели.
«Ну, – думаю, – все, я его теперь никому не отдам». Поставив у окна врача и экономиста в качестве охраны, пошел звать хозяев, так как окно было высоким и не открываемым. Чтобы достать конверт, надо было вынимать довольно большое стекло. Без хозяев я это сделать не мог. Требовалось срочно найти какое-то объяснение, почему мы будем снимать стекло. Все это я обдумывал, пока стучал в дверь.
А стучать пришлось не менее получаса… Я уж подумал, что никого нет, и хотел возвращаться к окну. Вдруг на веранде что-то загрохотало, похоже, выдергивали солидный засов. Дверь распахнулась, и на пороге появилось нечто в больших трусах, с отвисшим животом, опухшей лохматой головой на сплошь усыпанном татуировками теле.
«Какого…», – заорало это существо, увидев меня на ступеньках крыльца. Тут нельзя было терять ни секунды, пока он не проснулся окончательно. «Слушай друг, – напал я на него, увлекая к выходу со двора, – тут один парень тебе письмо по ошибке в окно бросил ,Мы его сейчас при тебе достанем».
Отвертку, плоскозубцы и молоток водитель уже держал у окна. Я что-то там говорю хозяину, чтобы не дать ему опомниться, а сам снимаю штапики, вынимаю стекло, беру конверт, прячу его в карман и начинаю ставить стекло обратно.
Солнце уже поднялось, жарко, хозяин стоит рядом, тупо смотрит на мои действия и никак ничего не поймет. Мимо по тротуару проходят трое мужчин. «Привет, Рудик, что тут у тебя делается?» – кричит один из них. Похоже, были раньше друзьями по зоне. «Да вот, пришли какие-то… Спать не дают», – наконец-то проснулся «Рудик». К этому времени я уже прибивал последний штапик. Деньги были в кармане, и меня так и подмывало сказать хозяину, что же на самом деле произошло. Но промолчал, «пожалел».
Можно было представить картину: деньги упали в комнату, и Рудик – нашел их на похмелье… Он бы, наверное, лишился рассудка от радости, или не знал бы, кого благодарить, Бога или Дьявола, за такой подарок…
Но, скорее всего, именно Бог и не допустил такого. Потому что деньги нам все-таки пришлось бы отдавать, подтверждая репутацию.
А почему все-таки ветврач бросил конверт именно в этот дом, а не туда, куда надо? Дело в том, что в те времена кому-то из городских властей Актюбинска,пришла в голову идея разбить город на пронумерованные кварталы. И так совпало, что тот квартал частных домов носил 22-й номер. А деньги надо было принести на улицу Джамбула, 22. На угловом доме, по этой же улице, который имел номер 8, с лицевой стороны висела металлическая табличка с номером квартала – 22. Сарсен, увидев это число, долго не раздумывал, что вообще свойственно людям его профессии, и бросил конверт, посчитав поручение выполненным. И чуть не поставил меня в очень неприятное положение.
Вспоминая этот мелкий случай, показывая это фото людям, я хочу сказать: никогда не теряйте надежды и боритесь до конца даже в самой нелепой ситуации, когда кажется, что ничего уже спасти нельзя, и вы обязательно измените ее к лучшему.
ТАК БЫЛО НАДО
Как-то так сложилось, что меня не раз посылали от колхоза в дальние командировки, когда надо было не только сделать или завершить какую-то работу, а и произвести окончательные расчеты или разобраться в каких-то возникших проблемах, вытекающих из разных договорных отношений, участником которых, выступало наше хозяйство.
Так было в 1965 году, при обмене семенами с одним из хозяйств в Узбекистане, в 1970 году, при разборках с лесными договорами в Красноярском крае, в 1975 году – урегулирование вопросов по изготовлению памятника на мемориальный комплекс в Ащелисае, в Краснодаре, и, в том же 1975-ом – завершение эпопеи с заготовкой соломы для нашего колхоза. Были и другие выезды, но мы остановимся на одном, самом дальнем, и оказавшимся – самым трудным в физическом исполнении. Хотя, я этот случай не отношу на себя, а на наших земляков, группу настоящих коренных ащелисайцев. Я там был просто с ними рядом….Открываем альбом:
В тот год, на всей территории Заволжья, включая Запад Казахстана, была жесточайшая засуха. Ситуацию усугубило еще и то, что предыдущий, 1974 год, тоже был далеко не лучшим, в плане климатических условий, а следующий, 1975 год, был сверх засушливым для нашего региона. Высохло все – и травы и посевы. Не было ни сена, ни соломы. Если вопросы обеспечения скота и птицы зернофуражом, в пострадавших регионах, в принципе можно было решить за счет имеющихся запасов и подвоза, то проблемы обеспечении животных даже элементарными грубыми кормами –сеном и соломой, необходимо было решать на местах- областном и республиканском уровнях. Или пускать скот под нож.
Но времена тогда были другие, поэтому республиканские власти начали изыскивать внутренние резервы и перемещать корма в порядке межобластного обмена или просто заготовки и перевозки. Соломы в тот год оказалось достаточно в Восточно-Казахстанской области и наши районы, а через них хозяйства, выполняя распоряжение республиканского руководства, – направили на Восток технику и людей, для заготовки соломы и отправки в нашу область. Был организован областной штаб в Актюбинске и его филиал в Усть-Каменогорске, специально для координации всего комплекса по организации работ– прессованию соломы, перевозке, отгрузке по железной дороге и, естественно, решения всех текущих вопросов по обеспечению рабочей силой, техникой, жильем, питанием и всем сопутствующим.
Нам та солома не была нужна абсолютно. Тем более, такая «золотая», по затратам на все работы по её заготовке и доставке. У нас хватило бы своей соломы на год с лишним. Но. Республика и область, объявили « фронтальную борьбу за обеспечение кормами». Летом прошла кампания по заготовке «веточного корма», вырезали все кусты и деревья по балкам, а осенью – «вторым фронтом», была объявлена заготовка соломы от нас почти за 3000 километров. Та солома обходилась дороже высококачественных макаронных изделий….
Мы не могли выпадать из общей обоймы борьбы за корма, иначе могли «выпасть» вообще из этой жизни. Заяви мы тогда о том, что нам чужие корма не надо, тем более такая солома, мы бы сразу стали изгоями – нас бы заставили с кем-то «делиться», а не дай Бог каких-то неувязок – на наши головы высыпали все грехи, в том числе общие и частные, свои и чужие.
Поэтому, колхоз «Передовик» тоже собрал бригаду заготовителей соломы. Вооружил их тракторами с пресс подборщиками, автомобилями для перевозки тюков соломы и всем необходимым сопутствующим. Меняясь по установленному графику и напряженно работая, наши люди выполнили положенное задание и готовились ехать домой. Их не отпускали представители нашей области, базирующиеся в Усть-Каменогорске. Заготовка соломы шла несколько месяцев. За это время, там побывали и главный инженер колхоза – Клинк В.А., и председатель колхоза Каструбин Г.И.. Трактора и прессподборщики, удалось отправить домой, механизаторов – тоже, оставались пять грузовых машин с водителями и руководитель бригады.
В конце ноября туда направили – меня. Задача была поставлена – разобраться с расчетами, уточнить все объемы наших заготовок – отправок, и отправить домой людей и автомобили. Все просто и ясно…со стороны. Конец ноября, в тех при – алтайских горах выдался очень холодным. Координационный центр по заготовкам от нашего района находился в районном центре, Шемонаихе (помните по фильму «Тени исчезают в полдень, там этот райцентр называли Шандара), но так как мы свое задание выполнили, технику отправили, то представители Ленинского (тогда) района, к нам ничего не имели. Закончили – свободны, а что и как дальше, – это пусть областной штаб решает. На другой день мы выехали в Усть-Каменногорск. Мы – это старший нашей группы, –Дмитрюк Николай Александрович, его помощник и попутно водитель, – Клевако Владимир Григорьевич и –я. Нашли мы представителей нашей области, они знали, что мы все сделали, что было задано, но отпускать нас не собирались. Рекомендовали помочь другим хозяйствам с перевозкой тюков, ставили еще другие мелкие проблемы, например, не могли нам выделить платформы для погрузки автомобилей, так как солому надо возить. Предлагали или оставить автомобили и их после всего, отправят в колхоз, или ждать очереди на свободные платформы и потом самим грузить свои машины, только когда это будет, – никто не знает. Короче говоря, разговор у нас с нашим же областным начальством, получился никакой. Они боялись сказать и – Да, и Нет. Ну, как обычно. Мы вышли в коридор, переговорили. Оставить машины здесь или даже отправить их в такую даль без охраны, – равносильно тому, что выбросить их на свалку. Что делать?. Николай и Володя предложили – будем ехать сами, своим ходом!…. Почти 3000 километров и в самое неподходящее, для переездов по северному Казахстану, время. «А как остальные ребята?»– спросил я. « Та воны ж тожэ ащелисайские, договорымся!…»– убежденно сказал Клевако..
Мы снова вернулись к начальству и заявили, что поедем домой на автомобилях, своим ходом. «Вы в своем уме, – выгляньте на улицу!» – изумилось начальство. «А мы как раз оттуда пришли!» – поставил точку Дмитрюк. Руководство быстренько подписало нам командировочные удостоверения, поставило соответствующие штампы и мы получили карт-бланш отправляться на все четыре стороны, лишь бы не морочили больше начальству головы.
Приехав на свою базу при станции Предгорная, объявили остальным водителям, что нам предстоит дальняя дорога…домой. Никаких возражений мы не услышали. Ребята сразу начали готовиться – проверили автомобили, заправили, смазали, все что надо, ибо в дороге, при такой погоде, все это делать будет проблемно, да и некогда.
Когда мы были на складе местного совхоза, я увидел там большой ворох семян подсолнечника. Подошел к директору и выпросил две тонны семян, на развод. Крупные такие были, «мясистые», я их потом передал Лысенко И.Т., не помню, посеяли их или нет, но мы их привезли. Вечером, мы на собрании нашей группы уточнили предполагаемый маршрут нашего автопробега: Шемонаиха – Семипалатинск – Павлодар – Караганда – Акмолинск – Кустанай –Джетыгара – Орск- Ащелисай.
Туда я приехал поездом из Орска. Как раз состав «Днепропетовск-Барнаул», ходил через Орск. Очень удобно, – от Шемонаихи до Барнаула – на пригородном поезде, они ходят часто, а в Барнауле сел – до Орска, без пересадки. Но я не мог оставить ребят, их было шестеро –пять водителей –Клевако, Кравцов Александр, Кравцов Алексей (муж младшей сестры моей жены), Мукатов Аманжол и Малюченко Виктор, и с ними –Николай Дмитрюк, за старшего.
Я заявил им, что поеду вместе с ними, а не на поезде или самолете. У меня есть разные колхозные чистые бланки, есть лимитированная чековая книжка, да у меня есть и определенные права, как главного специалиста колхоза, и соответствующие полномочия. Все ребята были против, но я настоял на своем.
Ранним утром первого декабря мы тронулись в далекий путь. Подъезжая к Шемонаихе, остановились на берегу речки, и я показал ребятам, тот, так называемый «Марьин утес», который тянулся по правому берегу реки. Именно там снимали отдельные сцены в фильме, что я назвал раньше- «Тени исчезают в полдень». Я знал об этом, из новостей по телевизору. Заехав на несколько минут в наш районный штаб по заготовкам соломы, поставили их в известность, что мы двигаем домой. Они нам посочувствовали и передали приветы родным. Кстати, старшим от района, там тогда был тоже наш родственник, муж уже старшей сестры моей жены, Заверталюк Петр Федорович, он тогда работал бригадиром в совхозе «Степной» и ему поручили представлять там наш район.
Проследовав через Шемонаиху, мы повернули на запад . В передней машине ЗИЛ- 585, за рулем ехал Клевако, мы с Николаем с ним рядом, – начинали пассажирами. Следом ехал ЗИЛ Кравцова Алексея, за ним Газ-51- Мукатова, еще Газ-51- Малюченко, замыкала колонну главная наша надежда – вездеход ЗИЛ-131, Кравцова Александра. Такой кавалькадой, мы двинулись на Семипалатинск. Все машины шли груженными., кто чем, на одной – семена подсолнечника, на других – все, что угодно, из того что брали с собой из дому –столы, скамейки, инструменты, посуда и т.п. , Дмитрюк Николай, человек хозяйственный – сказал ребятам: –забирайте все, что попадется вокруг нашей многомесячной базы, нам нужен груз для машин, надежнее будут держаться на дороге. А так, как на месте стоянки двух бригад, много чего оставалось полезного –тюки проволоки, тяги прицепные разные и т.п., то все оно пригодится дома, решили ребята и собирали все. Особенно ценными приобретениями, как после оказалось, были жесткие автомобильные сцепки для буксировки. Ребята их вначале брать не хотели, грузить было тяжело, но Дмитрюк настоял и их забрали, все. А как потом вспоминали это с благодарностью!