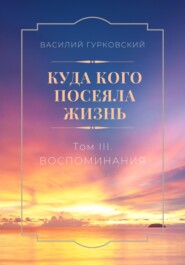скачать книгу бесплатно
И все-таки мы говорим о том, что было в нашей прежней жизни. Какая бы она ни была, но такая она и была. Не инопланетяне, а мы, ныне живущие, так жили.
За свою трудовую жизнь довелось работать с многими сотнями работников учета, на всех уровнях. Вначале вместе работали, потом надо было руководить их деятельностью, учить, направлять и даже наказывать.
Много прошло бухгалтеров перед глазами. И грамотных, ответственных, толковых и переживающих за порученное дело, что-то предлагающих, ищущих и явно инертных, отбывающих время. Если классический главный бухгалтер пятидесятых – солидный мужчина, всегда слегка «подшофе», с коробкой папирос «Казбек» на столе, вызывающе-уверенным выражением лица и вообще независимым внешним видом, который сам не ведет ни один бухгалтерский счет, только подписывает документы, ездит в Госбанк, в район и представляет свою организацию, то уже бухгалтер шестидесятых-восьмидесятых – гораздо более приземлен и «прибитый». Он уже не личность, он поддакивающий исполнитель. Он делает то, что ему говорят, надеясь, что те, кто ему приказывают – в случае чего его «отмажут». И, наконец, самая черная и беспросветная жизнь главных бухгалтеров сельхозорганизаций пошла с конца восьмидесятых и весь период девяностых. Из бухгалтера сделали пешку-автомат, он ведет две-три бухгалтерии в смысле учета – для себя, для налоговой службы и для пайщиков-инвесторов. Конечно, когда вокруг все и вся покупается и продается, бухгалтеру тоже что-то перепадает.
На фоне печальнейшего итога сельской жизни, когда все движимое имущество, поголовье и запасы были растащены, можно сделать вывод, что сельские экономические и учетные службы полностью деградировали и стали сообщниками грабителей-руководителей. Да, контроль государственный был полностью искусственно уничтожен, но ведь нормальный бухгалтерский учет – это уже 75 % контроля. Мы же уничтожили учет и контроль полностью, и за это учетному сословию на селе нет и никогда не будет прощения. Все жили одним днем, теперь обязательно аукнется детям и внукам.
Нагнав такую грусть, давайте остановимся на одном конкретном примере из жизни бухгалтеров. Здесь можно удивляться, смеяться или грустить, но вот так оно было, такие были люди, и они жили вместе с нами и вместе с нами работали.
Есть такое село Копанка. Уже по самому названию понятно, что основано оно русскоязычными людьми, скорее всего, украинцами. Расположено оно напротив моего родного села Слободзея. Копанка находится на правом берегу Днестра, но не прямо на берегу, как Слободзея, а в нескольких киломе
трах от основного русла реки, на берегу старицы Днестра, так; называемом Старом Днестре. Село построилось на взгорье, потому что раньше, когда еще не было обваловочных дамб, река Днестр, несколько раз в году разливалась и заливала всю пойму, от нового русла до старого, дальше шло невысокое нагорье, тянущееся вдоль правого берега Днестра почти до самого его устья.
Села Копанка и Кременчуг в прежние века были что-то наподобие заимок для слободзейцев. Когда в Бессарабии или нынешней Молдове хозяйничали румыны (1918-1940гг.), Копанка пришла в полное запустение и стала объектом специального социального исследования Румынской королевской академии наук. Итог этого исследования на девятистах страницах закончен к 1940 году и был неутешителен. Румыны-академики вынесли вердикт, что Копанка, как населенный пункт, очень скоро просто вымрет и исчезнет с лица Земли.
После освобождения Молдавии, когда в Кишинев в 1940 году пришли наши, так называемые сегодня- «оккупанты», тот «талмуд» был обнарркен. В пику ученым-румынам, Копанке было оказано соответствующее политическое и сопутствующее экономическое внимание. Село начало быстро возрождаться, потом был перерыв на три года войны, затем опять интенсивная поддержка государства. И колхоз им. Ленина, и село выросли в образцово-показательное хозяйство. Прекрасные сады и виноградники, овощные плантации в пойме со стопроцентным ороше-нием и производством овощей до 20000 тонн в год, единственный на юго-западе СССР 9- гектарный современный тепличный комбинат, асфальтированные улицы, водопровод, прекрасные социальные объекты, современное изысканное огромное двухэтажное здание конторы. Короче говоря, если бы те румынские академики были живы или встали из могил, они бы или снова умерли или пришли проситься на работу в колхоз. Работать в Копанке, тем более жить, было более чем престижно.
С 1946 по 1982 год колхоз возглавлял Герой соцтруда Болфа Г.Т. Это был амбициозный, но толковый, расчетливый и дальновидный руководитель. Настоящий хозяин колхоза и села.
Естественно, он с самого начала уловил ту, направляющую и питающую политическую нить, то внимание, не только экономическое, но и социально-политическое, которое оказывала Копанке центральная власть, и умело этим пользовался. Он открывал, образно говоря, ногами любые двери властных органов, конечно и сам не скупился
и пользовался большим авторитетом. Председатель Всесоюзного объединения «Сельхозтехники» был его хорошим другом, и Болфа Г.Т. (колхоз, естественно) часто получал дефицитные материалы (удобрения, ядохимикаты и т.п.), напрямую, минуя все фонды, разнарядки и т.д. В общем, многие годы это село и его образующее хозяйство колхоз им Ленина, процветали.
Парадокс жизни заключался в том, что именно в этом хозяйстве, и именно в эти годы расцвета ,главным бухгалтером колхоза работал абсолютно никудышный с точки зрения учета человек, назовем его условно бухгалтер. Он был из тех, о ком было сказано немного раньше. Он был «подписант», то есть только подписывал бумаги и делал то, что ему говорил председатель. Никакой самостоятельности, никакого совершенствования, да и собственно никакого сводного учета. Учет шел на первичном, количественном уровне. Почему – тоже было сказано ранее, так было всем надо. И надо сказать, что первичный учет на местах и в бухгалтерии по направлениям был, а сводного не было вообще.
Я в районе принимал годовые отчеты колхозов и межхозяйствен-ных объединений. А это была довольно серьезная работа, предпола-гающая взаимоувязку (настоящую) всей экономики колхоза за год. Это сегодня годовой отчет – никому не интересная туфта, лишь бы показать нужную прибыль, а раньше это было гораздо сложнее.
Так вот, копанский бухгалтер (одного из крупнейших и лучших хозяйств района) ожидал, пока сдадут годовые отчеты все хозяйства, потом собирал все проводки за год в несколько мешков и ехал в район на сдачу годового отчета с чистым бланком.
Днем было некогда, и мы сидели с ним долгими зимними вечерами у меня в кабинете. Я группировал его первичные данные и постепенно выстраивал каркас годового отчета, а он сидел в углу и безучастно смотрел на этот процесс. Да, перед этим он шел в магазин, покупал там бутылку паршивого вина «Пино» 0,7 л за 80 копеек и пачку печенья. Это была его вечерняя норма. Предлагал вино мне, я бы его (простите) разорвал на части, а вместо этого оперативно делал ему отчет, так как из-за него срывалась вся районная отчетная компания. Я бы ему два ящика коньяка поставил, лишь бы его не видеть, а он мне «пино» с печеньем предлагает…
Конечно, можно было от него избавиться в любое время, но ему было пару лет до пенсии, но не это, честно говоря, было главное. Он устраивал председателя, а заводить мне проблемы с Болфой – себе дороже. Так и терпели, пока не ушел на пенсию председатель, за ним «ушли» и главного бухгалтера.
Если бы это было все, я бы никогда о нем и не вспомнил. Но тот бухгалтер был суперуникальным еще и человеком. Жил он в селе Парканы, между городами Тирасполь и Бендеры. Большое красивое и богатое болгарское село. Он там жил, дом хороший, жена, дочка и зять, вот все его семейство. А долгие годы шесть дней из семи в неделе, он жил в Копанке. Там колхоз ему снял квартиру вместе с хозяйкой, подходящей ему по возрасту. Она ему варила, стирала, кормила, т.е. делала ему нормальную жизнь, за что колхоз ей, естествен-но, оплачивал.
У бухгалтера было особое «фетишное» отношение к деньгам. Оклад у него был 250 рублей в месяц, подоходного налога в колхозе не брали, т.е. он получал оклад полностью, чистыми. Но он не любил деньги-«половинки», а только самые крупные с «нулями». То есть, он не получал ежемесячно 250 рублей, а получал за два месяца сразу 500 рублей, по сотням, затем занимал у кассира рубль на дорогу и вез те пять сотен к себе в Парканы, ложил на сберкнижку. Их там было, по словам знающих людей, не одна сотня тысяч.
Жену его шестидневное в неделю отсутствие не смущало, во-первых, он в Копанке жил, ел и пил бесплатно, т.е. с дому ничего не выносил, пользуясь своими возможностями, постоянно брал, т.е. выписывал в колхозе лучшую продукцию, а жена его постоянно торговала в Одессе или в других регионах. Ей не он был нужен, а его возможности и деньги.
По слухам, все его сбережения сгорели, когда в СССР правили Гайдар и его команда. Не знаю, может быть, и так. Имел бухгалтер и новую «Волгу» ГАЗ-21, она стояла на колодках, и никому на ней ездить не разрешалось.
И наконец, самое уникальное. По утвержденному им самим и свято исполняемому регламенту -после десяти часов вечера, калитку в его двор уже никому не открывали, включая его самого! Я его спрашивал: «А правда, что и Вас домой не впускают после десяти?» Он вполне серьезно отвечал: «Да, а вдруг какой-то бандит приставит мне нож к горлу и заставит попросить домашних открыть. Нет, никого не пускают, даже меня. Такое уже не раз бывало. И тогда я ночую у меньшего брата, он живет через дорогу». Вот такие «веселые», но скупые встречались на моем пути бухгалтеры, страшно, по-животному обожавшие деньги, но не занимающиеся тем, что были обязаны делать – учетом .
В шикарной колхозной столовой Копанки был отдельно отличный банкетный зал, а из него вход в спецкабинет председателя, обитый кожей. Когда мы там иногда сидели с Болфой, он приглашал того колхозного главбуха и, смеясь, говорил мне: «Посмотри на моего ровесника, я хоть повидал мир, людей, вещи, а у него денег больше, чем у меня во много раз, а он в одних простых штанах уже три года ходит! Да плюнь ты на все, да поживи, как люди!»
Ушло то время, ушли те люди, сегодня село Копанка – это десятипроцентные руины знаменитого колхоза. Уничтожено практически все, в т.ч. прекрасный тепличный комбинат. Копанка откололась от единокровного с ней Слободзейского районе, ушла под юрисдикцию Молдовы. Ну что ж, будет работа для очередного исследования румынским академикам, только уже наоборот – как можно с больной головы, своими руками рай превратить в ад и еще гордиться этим.
ПРОВОКАТОР
Провокация – расценивается как подстрекательство, побуждение к вредным для кого-либо действиям или решениям. Понятно, что того, кто занимается провокационной деятельностью, считают и называют провокатором.
Если изначально провокаторами считались различные тайные агенты, к примеру, правоохранительных органов, внедряемые в какие-либо партии и организации с целью провоцирования их на какие-либо противоправные действия с последующим разоблачением и ликвидацией и т.п., то со временем спектр провокационных действия заметно расширился.
Например, весной крестьяне подготовят почву под посев, а сразу не сеют, «провоцируют» сорняки на всходы, когда те сдуру выскочат из-под земли на свет божий, думая, что они одни на том поле, а их тут или прокультивируют или уничтожат гербицидами. А сколько было на нашей памяти разных провокаторов! Одни создавали финансовые пирамиды, и люди шли за ними добровольно, деньги обещали большие, так провокаторы нажились, а миллионы людей остались ни с чем. Провокаторами были и те, кто метал пламенные речи за ваучеризацию и приватизацию, за реформы в АПК и фермерство и т.д.
Главной отличительной чертой любого провокатора, является его продажность, действия его обязательно приносят кому-то зло и то, что он, как; правило, остается в тени, т.е. незаметным. Провокационная деятельность или «провокаторство», это даже не профессия. Это генное состояние души. Это неизлечимый вирус и неистребимый. Найдут лекарство от самых страшных болезней когда-нибудь, а от этой болезни-призвания лекарства никогда не будет. А зла от провокации может быть неимоверно много, все зависит от масштаба и уровня провокационных действий. Умышленно брошенное в толпу слово или случайный выстрел, приводили к революциям и мировым войнам.
По жизни людей-провокаторов часто называют «крысами» или «козлами». Должен заметить, что такие «козлы» бывают не только среди людей, но и среди животных.
Быль, которую я расскажу сейчас, листая ащелисайский альбом, в какой-то мере аллегорична, но поучительна. Многие, наверное, слышали про оренбургские пуховые платки и косынки, и, скорее всего, думали, что название «оренбургский» платки получили за какую-то особую региональную технологию вязания или расцветки. Отнюдь нет. Название это платки получили потому, что связаны из особого пуха коз оренбургской породы. Один раз в год, летом, коз этой породы буквально вычесывают специальными стальными гребенками-ческами и из полученного пуха, после его очистки и перемотки, вяжут знаменитые платки.
Понятно, что ащелисайцы – все об этом давно знают, но я пишу не только для них….
Конечно, пух можно и купить на рынке или у людей. Но при этом всегда существует опасность купить пух низкого качества или прошлых лет, или с чему-то смешанный и т.д… Лучше всего иметь своих пуховых коз. Так я много лет назад и сделал. Купил в г. Орске огромного, черного как смоль, козла. Я познакомился с хозяином, был у него дома, смотрел его козье поголовье и купил у него одного козла из трех, имевшихся в наличии. Хозяин тот обещал, что я обижаться не буду, предлагал еще купить пару коз, но я отказался, так как коз ненавидел с детства по разным причинам, а молоко от них не беру в рот.
Да и на молоко пуховые козы не удачны. А вот козла я взял исключительно ради пуха и не ошибся. На следующее лето мы с него начесали 1,7 кг пуха, это минимум на два больших платка. Жена научилась вязать такие платки, пух от козла был высочайшего качества, темный, ровный и чистый, не стыдно было одеть такие платки, ни жене, ни моим дочкам. На рынке в то время пух такого качества стоил 10-12 рублей за 100 граммов. Я за козла отдал всего 60 рублей, так; что он окупился за год, минимум, два года.
Но все это была мелочь, ничто по сравнению со всем остальным Козел наш мало того, что был рослым, он был подтянуто красивым, с гордой осанкой, и его саблевидные, сантиметров по 60 рога придавали его внешности, довольно угрожающий вид. В этом экземпляре козлиного рода, вместилось все – хитрость, коварство, обман, неуправляемость и непримиримость, в то же время уверенность и показная гордость.
Как только я его привез домой и с неделю держал во дворе, для адаптации, тут же ко мне пошли ходоки от пастухов, трех сельских и двух колхозных, молочных стад.
Вы, может быть, думаете, что во главе стада коров в 150-200 голов, находится пастух на лихом коне или любимый коровами, бугай, то есть бык-производитель? Нет, за ними коровы не пойдут. Пастух всегда идет или едет сзади стада, а бугай, при всех его способностях, просто находится внутри стада. Он не авторитет. Да, иногда он коровам нужен, но в обыденной, повседневной жизни его место, выражаясь блатным языком, «у параши». Как бы это дико не звучало и смешно не выглядело, наибольшим авторитетом у стада пользуется именно козел, настоящий.
Можно, конечно, пасти стадо и без козла, но без ведущей, направляющей организационной силы и авторитета во главе, пастуху гораздо сложнее управляться с молочным стадом.
Особенно ценен козел-ведущий в овцеводстве. Вы не увидите во главе овечьей отары даже самого большого и приятного внешнего вида барана. Казалось бы, свой, родной, сильный, из этой же отары, но баран он и есть баран, его самого направлять надо. Отара без ведущего, – это большое неуправляемое живое пятно, постоянно меняющее форму и направление движения. Козел не просто идет впереди стада или отары. Он знает и чувствует, куда именно надо идти. Он интуитивно чувствует, где сегодня лучше пастись, где именно сегодня лучше трава, он знает, и какое пространство надо пройти быстро, не останавливаясь. Козел знает, когда и где лучше напоить стадо, животные это чувствуют и идут за ним, куда угодно. Чувство авторитетности в стаде взаимно. Козел горд, уверен в себе и знает себе цену. Стадо интуитивно верит ему и больше никому. Здесь проявляется чисто природный авторитет, а не навязано-демократический. В отличие от своих собратьев-млекопитающих, людей, животных никаким «пиаром» в виде демонстрации силы, красоты, мощности голосовых связок и т.п., -не убедишь. Они руководствуются только природным интуитивным или инстинктивным чувством признания вожака.
Наш козел по всем своим характеристикам мог бы быть «козлом над козлами». Думаю, что если бы собралась целая отара, состоящая из одних козлов, то они и тогда признали бы его за вожака.
Он был удивительно коварным и хитрым, хорошо знал, с кем иметь дело. Например, со мной он свои роги -сабли в ход не пускал, но стоило только младшему сыну, Василию, зазеваться, козел, как будто и не смотревший в его сторону, одним-двумя прыжками был рядом, и тут сын получал удар рогами под зад.
Но самое главное предназначение нашего козла было именно в провокаторстве. Когда после стрижки, начинали купать овец в дезинфицирующем растворе креолина, обязательно брали козла на эту довольно неприятную, но очень нужную, и полезную для овец процедуру. После стрижки у овец бывали порезы, различные кожные болезни, да и для профилактики, их один раз в год, летом купали в том растворе.
Процедура купания проходила следующим образом: в заранее заготовленную бетонную траншею заливается раствор креолина (дезсредства). Траншея устроена так по ширине, чтобы проходила одна овца. Рядом с траншеей небольшой квадратный загон голов на тридцать с опрокидывающимся полом. А возле загона – большая загородь, куда перед купанием загоняется вся отара.
Начинается купание. Из большой загороди, открываются небольшие ворота в маленький загон. Овцы, чувствуя неладное, туда не идут. Затем разыгрывается сцена, как в человеческой жизни – в маленький загон первым заходит козел – провокатор, должность у него такая по зоотехнике, за ним следом, группа овец заполняет малый загон. Для козла, как избранного, в малом загоне приготовлена небольшая дверца, он знает, где она и, увлекая за собой несчастных овец, сразу идет к ней. Его выпускают в общую загородь, а тех овец, которые вошли за ним в загон, опрокидывают в канаву с раствором. И так продолжается до тех пор, пока вся отара не будет искупана. Когда в малый загон входят последние овцы из отары, козел, естественно, с ними и, как обычно пробирается к заветной провокаторской калитке. Но чабаны для хохмы не выпускают его, а опрокидывают в канаву вместе с овцами. Когда козел понимает, что его тоже туда, со всеми, он выкатывает бешеные глаза, страшным голосом ревет, глядя на предателей-чабанов, всем своим видом выражая что-то вроде: «Что же вы делаете, сволочи, я же свой, тайный агент».
В отличие от овец, ему грешному, приходилось купаться столько раз, сколько в колхозе на то время было отар. Он конечно и там хитрил, при купании. Длинные ноги и сравнительно легкий вес позволяли ему идти не по дну канавы, а по головам обманутых им овец и часто выходить из канавы сухим.
Еще он очень не любил, когда с него счесывали пух. Щетка-ческа-это шесть или семь согнутых в гребенку стальных спиц, укрепленных на таком своеобразном шпателе с ручкой. Наверняка это было неприятно и больно, а главное для такого авторитета – оскорбительно.
Когда его чесали, я его держал за рога, жена совершала экзекуцию по выческе пуха. Это была непростая и довольно длительная процедура, но необходимая. Не вычесанный пух,сбивался летом в комки, потом шли всякие болячки и больше не только пуха можно было не иметь, но и козла или козу тоже. Кто только к нам не приходил с просьбой продать Борьку, так мы его называли, но я расстался с ним только тогда, когда уехал из Ащелисая.
Зато приобрел определенный опыт общения с провокатором. Провокаторы, к сожалению, и сейчас живут среди нас и будут жить на Земле до тех пор, пока будут жить живые существа, в том числе и мы, люди, которым хочется кому-то или во что-то верить. Им вожак нужен!
Об этом надо всегда помнить.
РЫБА В СТЕПИ
Что ни говори, а рыба в России становится экзотическим продуктом, и с каждым годом все больше и больше. Заходишь в магазин и уже не удивляешься диковинным фруктам и овощам с трудно выговариваемыми названиями, соответственно, – с трудно воспринимаемыми ценами. Тут, как говорится, дело такое – не нравится или дорого – не бери, иди дальше. Но ты понимаешь, что где-нибудь в Нижнем Новгороде или на Урале апельсины или лимоны не растут, поливай – не поливай. Тем более ананасы, кокосы, бананы и иже с ними. А раз так – то, если можешь себе позволить, – клади в корзину и не жди, у нас такого своего все равно не будет.
Другое дело – мясо, рыба, яйцо и прочие продукты. Чтобы иметь то же мясо или рыбу, нам не нужны тропики и субтропики, какие-либо теплицы или тепличные условия. По большому счету, Россия – страна говядины и рыбы. Почему говядина? Да потому, что осно-ву рациона крупного рогатого скота составляют зеленые корма, силос (сенаж) и сено. Этого добра в России, если поскрести, можно найти предостаточно, и не только чтобы иметь говядину для своих нужд, но и на экспорт.
Я уже не говорю о том, что мы фермы разрушили или под бунгало всяким там звездам по дешевке распродали, я говорю о принципе: если Австралия – страна баранины и шерсти, то Россия – потенциальная страна говядины.
А рыба? Границы российские выходят на два огромных океана и целую кучу морей. Рек и озер у нас – бесчисленное множество. Да при таком раскладе, любой рыбы у нас реально может быть столько, что хватило бы для обеспечения нескольких таких государств, как Россия. Во-первых, – рыбой и рыбоморепродуктами, рыбной мукой для кормодобавок, удобрениями, лекарствами, во-вторых, еще много-много чем и, в том числе, валютой. Это мы «можем».
Но на самом деле в наших магазинах – чужая рыба, не только по названию и местам лова, нет, даже по принадлежности. То есть, рыба чужая, покупная. Распродав за бесценок и уничтожив свой рыболовный
флот, мы получаем рыбные объедки от других «рыболовов» – от тех, кто по лицензии ловит рыбу в наших водах, кто ловит ее на наших бывших судах, да и от тех, кто скупает контрабандную рыбу у наших судов за валюту, а потом втридорога продает ее нам же. В общем, «в понедельник нас мама родила», и ничего у нас не ловится. Наверняка, и в России на этом кто-то немало «ловит», но только не потребитель.
Самое удивительное то, что, ликвидировав все, что можно было ликвидировать и превратив себя из рыбораздающей в рыбозависящую державу, мы еще что-то там пытаемся говорить о рыбообеспечении. Какую-то там аморфную структуру содержим – вместо ушедшего в небытие вместе с судами, портами, переработкой и моряками, министерства рыбной промышленности, а рыбу в итоге едим чужую. Захотят – нам ее поставят, не захотят – не поставят, захотят – поднимут цену, еще захотят – еще выше поднимут. Всем хорошо: и тем, кто разрешение на отлов выдает, тем, кто завозит, кто в наших водах ловит и т.д.
Нам плохо, россиянам. Плохо и стыдно жить в такой рыбной державе, где нет своей рыбы. Понятно, что кто-то это сделал умышленно. Так надо и найти его (их) и положение исправлять. Непонятно, как вообще существует эта уничтоженная рыбная отрасль. Ведь кто-то же руководил, вернее, уничтожал все это.
Поневоле вспомнишь послевоенный анекдот, в котором беседуют трое летчиков (американец, англичанин и русский), находящихся в центре реабилитации одного из швейцарских госпиталей. У американца не было ноги, но он хвалил-ся, что в США есть такие протезы, с которыми он запросто будет летать даже на истребителе. У англичанина не было руки, он тоже хвалился, что ему обещали протез такого качества, что он будет летать на самых больших пассажирских самолетах. На это русский летчик, у которого не было руки и ноги, равнодушно заметил, что в России нет пока таких совершенных протезов, но это и не обязательно. У нас, мол, даже если у человека не будет рук, ног, головы, останется одна задница, простите, то и ее могут поставить директором МТС (машинотракторной станции).
Тут поневоле подумаешь, а не стояли ли такие люди в перестроечный период во главе той же рыбной отрасли, сельского хозяйства, многих других ведомств и даже на самом верху?!
Конечно, мы и сегодня не теряем надежды. Вернет себе Россия статус одной из ведущих рыбных держав, и власти надо взяться за это нужное дело, да и нам надо поддержать власть в этих вопросах. А то шумим много, а когда на наших глазах творятся разные безобразия, мы их не замечаем, если нам это выгодно или просто из-за врожденноленного своего менталитета.
Надеюсь, читатель почувствовал уже вкус рыбы нынешнего времени и зарядился уверенностью на будущее…
Мы же перевернем очередной лист альбома былой нашей жизни и поговорим о рыбе в степи. Да-да, о степной рыбе. Казалось бы есть- океаны-моря-реки-озера – и все равно рыбы нет. О какой степи может идти речь в рыбном плане? И все-таки да, о степи. Дело в том, что полвека из своих энных лет я прожил в селе и в степи. Пусть это не покажется смешным, но в моем доме тогда всегда была рыба, И свежая, и соленая, и вяленая, и любая. В степи!
Апогеем или высшей точкой нашего семейного рыбообеспечения было начало семидесятых годов прошлого века. Если до того времени рыба в дом поступала из разных случайных источников, то где-то с года шестьдесят девятого мне удалось найти солидный легальный способ иметь рыбу постоянно.
Подчеркиваю – это были времена СССР, еще Союзу было суждено 20 с лишним лет существовать, но вирус разрушения уже работал. Причем в самом центре государства, не где-нибудь на камчатских или сахалинских «куличках». Так мы жили, и мне не стыдно об этом писать, так как даром я никогда и ничего не брал, ни у людей, ни у государства. Да, плохо, но мне другого не было дано. Расскажу быль тех лет, хотя не уверен, что и сегодня в тех местах наведен хотя бы элементарный порядок. Думаю, там стало гораздо хуже.
Казалось бы, куда уж хуже, чем в Орске Оренбургской области… Был там в те времена колхоз «Рыбак». В старом городе находилась его контора. Может, и сегодня есть, не знаю....
А сорок лет назад все было именно так. В колхозе работало всего трое штатных работников: председатель, бухгалтер и главный инженер-ихтиолог. Все остальные работники были наемными, т.е. временными. В ведении колхоза было кое-какое имущество, снасти, лодки, ва-гончики и т.п. Имел колхоз несколько своих искусственных озер, по балкам, перегороженных плотинами. Не помню, сколько их было, видел одну возле Орской биофабрики. Там колхоз запускал мальков и выращивал рыбу для города. Но пруды эти были так, – для солидности и видимости рыборазведения. Главная рыба колхоза находилась в государственном Ириклинском водохранилище, это в сотне километров от Орска, выше по реке Урал. Там было, да и сейчас, наверное, находится, «золотое дно» того «рыбацкого» колхоза, Урал, пе-регороженный в том месте плотиной, образует довольно обширное водохранилище – более чем в сотню километров длиной, почти до северной границы области, и местами – до двадцати километров в ширину.
С запада и севера этот водоем подходил к границе с Баш-кирией. Запертая плотиной река, залила глубокое межгорье, и глубина водоема местами достигала многих десятков метров. Недалеко от плотины, с ее восточной стороны расположена Ириклинская ГРЭС, довольно мощная электростанция, обеспечивающая энергией напичканную разнопрофильными промышленными предприятиями зону Южного Урала. Рядом со станцией – поселок энергетиков под одноименным с названием.
Чем отличалась и, тем более, сегодня, отличается Россия от других стран в плане природопользования? У других стран все природные ресурсы, независимо от вида, качества и ценности, находятся или в частной собственности или в собственности государства. С частной собственностью все понятно: есть хозяин, и все, что ему принадлежит, без него никто не тронет. Его право защищено не только законом, но и устоявшимся менталитетным осознанием незыблемости главного права капиталистических государств – права на частную собствен-ность. Это как бы само собой разумеется.
В то же время, то немногое или многое, неважно, что имеется в собственности государства, находится под еще более пристальным вниманием всех – и частников, и государства – из-за того, что все стараются не допустить, что-бы кому-то досталось больше из обобществленного (национального) кармана То есть, все общество следит за тем, чтобы никто ни бесплатно, ни подешевке из общегосударственных ресурсов не поживился – иначе общество, давно привыкшее к элементарной, пусть даже только декларируемой, справедливости, просто взорвется.
В России все не так. В России такое огромное количество общегосударственных ресурсов, что прямой устоявшейся взаимосвязи государственной собственности и общественной (читай, народной) практически не существует. Как сегодня, так и раньше. При царе общество было убеждено, что всеми государственными богатствами рас-поряжается царь, и это от Бога, а значит, так и должно быть. В советские времена все богатства страны принадлежали государству, в сознании людей особой реформации по этому поводу не произошло: ну, был хозяином царь, а теперь хозяин – власть. Популистский лозунг насчет того, что «все вокруг мое», так лозунгом и остался, потому что государственное так и осталось государственным, и попробовал бы хоть кто сделать из него «мое». В советское время хозяевами над «моим» (государственным) могли считать только представители власти, естественно, не афишируя это.
Перестроечная демократизация привела к легализации притязаний отдельных личностей на лакомое, которое они давно хотели вычленить как «мое». Сегодня все те, кто сидит на каких-то там вентилях и кранах, кто экспортирует уголь, перебирает золото и алмазы и т.п., абсолютно убежденно считают, что все то, что лежит в земле или растет на ней, плавает в воде или бегает по земле, это все – для них! Какая там госсобственность! Какие там граждане и их нужды! Это для нас казаки освоили Сибирь и Дальний Восток! И т.д. Так они сегодня считают (не казаки, конечно).
Это желание урвать что-нибудь из общего котла, стало врожден-ным. Мы другому так и не научились. Не почувствовали, что государственное – это для всех, и никому не дано право использовать свои возможности, власть, связи, бесстыдство и безнаказанную наглость, чтобы посягать на собственность всего общества .
Сегодня это легально, и этим гордятся. В советское время это было нелегальным, но все равно этим на своих кухнях тоже гордились. Не в укор кому-то, просто в качестве были, проиллюстрирую вышесказанное на конкретном примере. Небольшом, но классическом.
Перед этим мы упомянули вполне легальный колхоз «Рыбак» и реальное Ириклинское водохранилище. Давайте просто посмотрим, что и как их объединяло, какое отношение эти два объекта имеют к нашему разговору об общенародных ценностях и рыбе, в частности.
Все началось с того, что мы решили после окончания посевной кампании, провести что-то вроде торжественного мероприятия, так называемого «сабантуя». В общем, отметить механизаторов всех трех полевых бригад. Чтобы как-то разнообразить меню праздника, решили найти хорошей рыбы. Мясо, мол, всегда было, а давайте добавим еще и рыбу.
Степная зона. У нас было свое водохранилище, но рыбу-сеголетка только запустили. Можно было поехать в дальний Иргизский район нашей области, где было много озер и пересыхающая река. Рыбы там вдосталь, но в основном озерной – карась, черный такой, и болотом отдает. Можно было поехать на Аральское море, на юг нашей области, там раньше было рыбы полно, разной и дешевой. Так ведь 600 километров в один конец, да еще дело к маю, на дворе жара – рыбу не довезешь. Можно наловить карасей в наших мелких водоемах, так это мелочь.
Решили послать меня в разведку в Орск, разузнать, где можно найти хорошей рыбы. Я созвонился со знакомым снабженцем одного из ведущих орских заводов и попросил выяснить возможность приобретения сортовой рыбы. Знакомый, назовем его Владимиром, был человеком ответственным, много лет работал с нами, он оперативно все выяснил, с кем-то там договорился и сказал, что можно приезжать. В условленный день часов, в пять утра я сел за руль бортового вездехода ГАЗ-63 и выехал в Орск.
Встретились с Владимиром. Сел он в кабину. Подъехали к конторе рыбколхоза. Председатель нас выслушал, сказал, что, в принципе, все можно сделать, но рыбу разрешено брать только в ларьке. Назвал его координаты, сказал, что продавщицу зовут Надежда, а рыба у нее в продаже – ежедневно. Подъехали к ларьку. Познакомились с продавщицей – она как раз привезла рыбу. Посмотрели мы на нее и поняли, что большая часть улова до ларька попросту не доходит, где-то растекается по дороге – от Ириклы через промежуточный город Гай и затем весьма немалый город Орск. В ларек попадали остатки той рыбы, что была либо травмирована, либо долго находилась в сетях, либо где-то временно хранилась. Привезли килограммов сто, а брать было нечего. В основном – скоропортящийся сиг с вылезшими наружу ребрами и судак.
После долгих уговоров мы нашли общий язык с продавщицей. Заплатили ей деньги за 100 кг сига и 200 кг прочей рыбы. Сиг шел в розницу по 2 рубля за килограмм, вся остальная рыба (карп, сазан, судак) по 0,78 рубля, а сом – по рублю 20 копеек за килограмм. По словам Надежды, сомы ловятся редко, мы на них и не рассчитывали. Надежда выписала нам накладную на 300 кг рыбы, якобы полученные от бригады, и мы отправились на Ириклинское водохранилище.
Как выяснил я уже в последующие поездки, мы тогда были единственными законопослушными покупателями в этой системе и выглядели белыми воронами на общем черном фоне бездокументных сделок. По крайней мере, считали мы, нас достойно встретят и достойно отоварят, даже если для этого придется понести дополнительные издержки.
Владимир перед этим поинтересовался, в чем особенно нуждаются именно в этот период коллективы рыболовецких бригад (в машине у меня лежали солидная туша баранины, ящик свиной тушенки, десять коробок заряженных патронов, стандартный мешок дроби, ну и, конечно, ящик водки). Это так; – в порядке возможной компенсации за качество, скорость и т.п. Стоимость рыбы мы-то уже оплатили, остальное, решили, посмотрим на месте.
Путь на Ириклу был не близкий, через Орск – новый город, мимо города Гая, с известными медными рудниками, и до плотины через Урал. Продавщица нам сказала, чтобы держались левого берега водохранилища, если смотреть с юга на север. Там, по берегу, расположены рыболовецкие бригады орского рыбколхоза. В первый раз ехать было сложно, до плотины дорога хорошая, а дальше – только следы по степи, да по оврагам. Попадались по пути какие-то небольшие села, но мы в них не заезжали, потому что день уже клонился к вечеру, а без четкой дороги ночью рыбаков не найти. Да еще все овраги, идущие в сторону водохранилища, залиты водой. Только прошло половодье, в некоторых балках еще снег не растаял. А тут еще послед-ний день апреля, завтра – первомайский праздник, до дома – двести километров, так; что рыбу надо взять сегодня.
Так я думал, мыкаясь по холмам и оврагам, двигаясь на восток в сторону водохранилища. Мы рассчитывали с самого начала идти вдоль берега, вверх по реке, но это оказалось невозможным, как было уже сказано, из-за многочисленных залитых водой оврагов. Наконец, где-то к заходу солнца, поднявшись на очередной холм, мы облегченно вздохнули – метрах в трехстах, поблескивая в лучах заходящего солнца, расстелилась до самого горизонта водная гладь. Но, когда машина почти наполовину поднялась на холм, я резко затормозил, и настроение сразу почему-то упало. Лучи заходящего солнца не только золотили водную гладь, они четко высветили и многое другое – на берегу стояла большая деревянная будка на колесах, к берегу пришвартованы несколько баркасов, а вокруг всего этого обычного для рыболовецкой бригады пристанища, стояли в разных положениях десятки легковых машин, и не просто машин, а особых машин.
Здесь были в большинстве своем чиновничьи «Волги», потому что такие машины у частников на периферии в то время были редкостью, а также размалеванные машины ГАИ, ВАИ и других спецведомств.
Что они здесь делали вечером, накануне 1-го Мая, нам было понятно. Вот только и им всем вместе взятым, наверняка, стало бы вдруг непонятно, а что здесь делает перед праздником вездеход из другой республики. Я и сегодня абсолютно уверен, что ни у кого из тех «крутых» машин не было оплаченной квитанции на рыбу, какая имелась у нас, но хорошо, что они нас тогда против солнца не заметили. Не заводя двигатель, я спустил машину с тормозов и потихоньку съехал в балку. Надо было попытаться искать другие бригады. И нам повезло. Объехав очередной овраг, где-то в километрах пяти-семи, наткну-лись на другую бригаду. Такая же будка, баркасы, вмазанный в камни большой котел. Подъехали. Солнце уже село, но было еще видно. Нашли бригадира, потом вышел из будки учетчик. Оказалось, что Володя знаком с ними обоими. Бригадир – бывший военный комиссар города, учетчик – бывший начальник городского отдела внутренних дел, пенсионеры. Мы им показали квитанцию и спросили, как насчет рыбы. «Какая там, на хрен, рыба, – рассмеялся бригадир, – все, что сегодня взяли, давно раздали. Мы никогда на ночь рыбу не оставляем, а завтра, тем более, Первомай».
Никакие уговоры, посулы и предложения воздействия на руководство бригады не возымели. Бригадир, конечно, был прав с любой точки зрения – ночь, метровая волна, ребята-рыбаки уже помылись, хорошо «заправились», да и весь день «заправлялись» посменно, куда их пускать «в море», как выражался бригадир?
А что делать? Ехать впустую да еще в такую даль домой или ждать до утра? «Задобренный» подарками бригадир пообещал утром послать ребят «потрясти» сеть, если не будет сильной волны. Зашли в будку. Воздух там был настолько пропитан неистребимым запахом рыбы, пота, табака, портянок и немытых тел, что хоть мажь его на хлеб. На предложение спать в будке, я вежливо отказался, ссылаясь на то, что машина не закрывается (да и товара там у меня было что взять), и ушел спать в кабину. Ночью я не раз пожалел об этом. Мы не рассчитывали где-то ночевать, днем было двадцать градусов тепла, я был в легком костюме, а ночью тут – около нуля, да еще вода ледяная рядом Думал, включу печку, нагреюсь. Включил, так сразу десятки матов получил из будки. Пришлось заглушить двигатель и бегать вокруг машины всю ночь.
Когда начало рассветать, я провел обследование территории бригады. Два баркаса, огромные такие, шестивесельные, как корабельные боты, двигатели на берегу сохнут. Вся будка обвешена вяленой рыбой, всевозможных сортов. Большие, широкие, аппетитные лещи, судаки, сиги (я их впервые видел) и другие особи, и ни одной мелкой рыбешки. Значит, сети у них только крупные. Метров в двадцати от будки – примитивный подвал. Зашел и туда. Там явно свой «левый» товар: где-то с десяток бочонков от комбижира, обложенных большими полиэтиленовыми мешками, а в них рыба солится. Отборная, одна в одну. Был еще на территории котел под еду, и все. Еще —масса всякого мусора, тогда экологи, видно, только по воде к ним захо-дили, а если и были на берегу, так их не мусор привлекал, а рыба.
Когда встало солнце, поднялся сильнейший ветер. Волна – метра полтора. Чувствую – не видать нам рыбы и сегодня. Первым вышел бригадир, посмотрел на небо, на воду, потом зашел за будку и снова в нее вошел. Так как никаких движений в будке не ощущалось, пришлось мне самому туда войти. Бригадир сидел у окна и брился, все-таки кадровый офицер, и праздник сегодня. Рядом сидели учетчик и наш Володя. На мой немой вопрос бригадир вытер лицо мокрым полотенцем и сказал: «Видишь, волна! А сети полкилометра почти от берега. Кого я туда пошлю?» – он махнул в сторону спящих рыбаков.
Что делать? Без рыбы возвращаться нельзя. Рыба вот рядом, в сетях, так взять нельзя. А ветер лишь крепчает. Нары в будке – двухэтажные. Сползает с верхних нар здоровенный обросший детина. Первые его звуки были: «А водка есть?». «Есть», – говорю. «Неси сюда – говорить будем», – прохрипел рыбак. Я принес бутылку. Он выдавил сургучно-бумажную пробку, вставил горлышко бутылки в рот и запрокинул голову. Через пару минут опустил бутылку на стол, на дне в ней еще плескалось граммов сто-сто пятьдесят. Поднялся, подошел к ведру с водой, набрал кружку, выпил и заявил, обращаясь к бригадиру: «Я пойду на баркасе, но пусть кто-то пойдет со мной».
Зависла пауза, желающих не было. Я, как главное заинтересован-ное в рыбе лицо, быстро сказал: «Я пойду». Все молча согласились. Лучше бы я хоть секунду подумал, а так – слово не воробей. Уже очень скоро горько сожалел о том, что согласился, но дело было сделано. Рыбак-доброволец начал надевать свой прорезиненный костюм Подобрали и мне подходящий по размеру, столкнули гуртом баркас с берега, поставили мотор.
«Водки возьми», – предложил-потребовал рыбак. Взял я бутылку, полез в баркас. Он взял ее у меня подержать и куда-то засунул под сидения. Завели мотор и пошли к сетям. Огромные волны переваливали баркас с борта на борт, но посудина была довольно остойчива и уверенно шла вперед. Рыбак сидел у руля, я – посредине баркаса, для баланса. Сети стояли довольно далеко от берега. Места их якорных креплений были отмечены большими кусками пенопласта, видно их было далеко. Водяные брызги сплошной массой обдавали и баркас, и нас. От этого на дне баркаса начала быстро прибывать вода Я ее интенсивно вычерпывал большим таким черпаком, сделанным из толстой фанеры, окаймленной по краям жестью-нержавейкой. Температура вряд ли превышала 4-5 градусов.
Пока дошли до крайней сети, моя одежда под рыбацкой робой стала мокрой. Остановились у контрольного буя. Смотрю, рулевой мой достает поллитру, снимает пробку, затем почему-то черпает ладонью воду из набежавшей волны, заливает ее в рот, потом левой рукой хватается за борт, а с помощью правой очень быстро так вливает в себя все содержимое бутылки. Выбрасывает бутылку за борт, берет весло, поддевает верхний трос сети и кричит: «Тяни на себя сеть».
Мы вместе попробовали сделать то, что рыбаки делают ежедневно – приподнимать сеть, выбирать из нее рыбу и опускать сеть обратно. Конечно, если тихая погода, да бригада человек шесть-семь, то это не проблема, а обычная работа. Но если стоящий на месте баркас того и гляди перевернет, а качка не дает возможности вытащить сеть во всю ее четырехметровую глубину, да еще с застрявшей в ней рыбой, то съем этой рыбы будет большой проблемой.
Сколько мы ни пытались – сеть шла не в баркас, а под его днище, усугубляя наше и без того небезопасное положение. Я тянул сеть, стоя на коленях, рыбак стоял во весь рост, упираясь ногами в шпангоуты, и пытался втянуть хотя бы часть сети в баркас. Пару раз он едва не вывалился в воду, так как укрепленный на якоре трос сети и баркас резко расходились в разные стороны, а он не бросал трос и занимал горизонтальную позу – ноги в баркасе, туловище – в воде. Может быть, принятый им литр водки согревал и возбуждал его, но одновременно влиял на координацию движений, да и как потом вы-яснилось, на разум .
После десятков неудачных попыток приподнять сеть и вытряхнуть рыбу рыбак взвыл каким-то редко употребляемым матом, достал нож и отрезал сеть от троса якоря. Затем уже идиотски грубым способом мы где-то за полчаса втянули в баркас всю длинную сеть вместе с рыбой. Отрезали ее от второго якоря, завели мотор, развер-нулись и попытались начать движение к берегу.
В мире часто бывает так: все вокруг хорошо, тепло, солнце, радость – и вдруг в каком-то месте в такую идиллию падает на голову людям атомная бомба. И все, нет больше ни идиллии, ни людей. Так было и со мной в тот час. Первое мая, солнце, двадцать градусов тепла на берегу, а я практически тону в ледяной воде, всего в полукилометре от берега, где глубина, может быть, метров сто, а помощь ждать просто неоткуда.
Безнадежность нашего положения я понял, как только мы втянули в баркас сеть с рыбой. Баркас так просел, что волны запросто перекатывались через него, каждый раз через ту же сеть, доливая воды. Вычерпывать воду не было возможности, так как сеть горой заполнила все пространство. Баркас садился все больше и больше, мы с рулевым примостились на корме. Баркас с трудом шел, но и это было не все. Где-то на половине пути к берегу заглох двигатель. Дергали, дергали заводной шнур, перестали. Одно весло торчало из-под сети на корме, остальные пять были под сетью. В общем, рулевой гребет и правит веслом, я – гребу черпаком. Метров двести осталось. Потихоньку идем, баркас практически похож на подводную лодку, двигающуюся в надводном положении. Сердце колотится, никакого холода не ощущаешь, все подчинено одному движению, а взгляд пожирает-приближает берег.
У меня даже появилась какая-то дикая мысль: «Хорошо, если баркас перевернется, сеть вывалится, а мы на баркас взберемся, будем кричать, заметят – выручат». В такие моменты судьба человеческая где-то там лежит и, поочередно лениво открывая глаза, наблюдает за тобой, как ты там барахтаешься где-то – в воде, огне или еще где-нибудь. И когда она почувствует, что пора ей вмешаться – она вмешивается, а бывает, что и дремлет дальше…