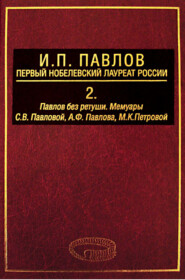скачать книгу бесплатно
Твой Ванька
Среда, 1, 11 часов ночи
(1 апреля 1881 г.)
Милая моя, порадуйся со мной: я ныне словно вытащен из тюрьмы. В самом деле, все последнее время меня словно держали в цепях. Теперь цепи свалились, и я чувствую себя легко, блаженно. Я снова благословляю любовь; люблю тебя ужасно, нежнее к себе, готов делать добро всем, надеюсь, мечтаю, имею уверенность. А тебя как люблю! Хотел бы быть с тобой, прижаться к тебе и только бы говорить: люблю тебя, моя дорогая, много, много. Сарочка – моя радость, моя утеха. Все нынешнее утро я не читал, я думал только о тебе. Твое последнее письмо придало мне еще более радости. Потому что порыв получил новую пищу для тебя. Вот и наука, которую я ждал от тебя, наука правды.
Попалась ты, наконец, моя дорогая. Теперь уж не заспоришь. Вот уж тебе и наши образцовые чувства. Помнишь о затишье, о возможных, по-моему, счетах. Я-то заговорил, я предполагал, значит, в душе было что подобное. Ты, милая, показала, как быть должно, ты вразумила. И за этот урок много и тепло целую тебя. Этих уроков я ждал, на них рассчитывал, об них мечтал. И какая ты умная, Сара, если уж, дескать, чего стыдиться, то самих чувств, а не того, что другие узнают об них. Милая, верная, всегда сам так думаю; здесь только провалился.
Люблю тебя много и за твое твердое прямое слово о моем приглашении ехать в Питер. Мне помнится, что написано тебе это было грубо, даже, пожалуй, самодурски. Сознавал я это и тогда, но как-то скверно был настроен и не сумел поправить. Выходило, в самом деле, как будто все дело в моем экзамене. Твое желание, твои расчеты как-то игнорировались. Одно могу сказать в оправдание: и тогда имелась в виду боязнь, не вышло бы тебе какое горе от этих неспанных бесконечных ночей. Но все равно грубость оставалась грубостью – и ты возвратила меня в границы. Дорогая, горячо тебя целую за это. Это и есть то, что всегда желалось в супружеской паре. Это – равенство. Это – взаимное обучение справедливости. Так и будем всегда стараться жить. Тогда мы всегда будем идти вперед, делаться лучше один перед другим. Теперь, как и всегда, неумытую, неограниченную никакими соображениями правду считаю первым основанием счастья всяких союзов. На этом же, верь, будет всегда стоять и наш. Твое желание идти в деревню всегда ценил, уважал, ты знаешь это, и сейчас уважаю его больше, и любить через год будем друг друга не меньше, а больше, гораздо больше, потому что уважать будем больше.
А знаешь, что утром особенно взволновало меня? Я перечел все твои письма за этот месяц. Так много от тебя любви, чувства, что занялась, зажила и моя душа. Как мне было хорошо, моя милая! Помнишь, что ты писала в письме от 9 сентября, которое еще не пришло тогда ко мне вовремя! Так-то же чувствовал и я, только не выразить, не сказать мне, как могла ты. Я выберу такие письма, буду читать их каждый день и тогда уж ничто, ни на минуту, не бросит тень на нашу любовь. Да, теперь недавняя история кончилась и все истории тоже.
Ты как-то спрашивала: утешался ли я во время истории физиологией)? Радуйся, милая моя, сильнее физиологии сказалось горе любви. Плохо или хорошо это? Для меня это хорошо должно быть. Всегда же говорил, меня надо сокрушить дотла. Чтобы могло быть построено прочное здание истинного счастья. Целую моего спасителя – архитектора долго, долго.
Твой Ванька.
Вторник, 7 [апреля], 7 ч. утра
… Знаешь, что я заметил. Мне представляется, что мы чувствуем, как будто и на такое большое расстояние друг от друга, без писем, раньше писем и просто так, душой. Что называется у нас «сердце сердцу весть подаст». В самом деле, пересматривая твои письма и вспоминая свои настроения, я понял, что очень часто и хорошо, и дурно нам в одно время. Это ужасно, согласно, резко выходит. И вот еще что странно. Иногда ни с того ни с сего делается ужасно хорошо, в другое время беспричинно тяжело. Я так уж и решаю за последнее время: хорошо моей Сарочке, как, верно, мучается, моя милая. А ведь это может быть на самом деле, я верю в это. Гипнотизм заставляет признать, несомненно, фактически и многое подобное, прямо просто непонятное. Очевидно, отношение к нам окружающего – как природы, так и людей – гораздо сложнее, чем, сколько попало в сознание, чем, сколько мы можем понять естественно. Не испугайся, моя радость, что начинаю завираться. Факт обратил на себя мое внимание, а что он значит, об этом еще потолкуем да порассудим.
От сочинений твоей ученицы в восторге, просто не верится, чтобы это было на самом деле. Да, какая же ты молодец, Сарка, я-то от тебя этого ждал, потому что ужасно верю в тебя; верь этому. А ты еще жаловалась на себя, как на учительницу. Подавайуши и… давай целоваться до смеху. Это не я один удивляюсь успехам твоих учеников – Митька тоже находит, что отлично. Молодец, молодец, молодец – моя Сарочка!
… Вот что особенно запало в душу из твоих последних писем. Ты писала: «Будем ли мы понимать также бессловесные думы друг друга», – я верю, что да, потому что очень хочу этого. Говорят, не следует пускать мужа в глубь души, пропадет у него интерес к жене. Я с этим не согласен. Только тогда хорошо, когда совсем, совсем одно: ни крошечки нет неразделенной. Не знаю, что мне и сделать с тобой за эти строки? Целовать мало, моя несравненная, моя прекрасная, моя чудная Сарочка! Понимать друг друга без слов и есть настоящее блаженство, настоящая общая жизнь. То, что из человека попадает на язык, на слово, это малость. Всего понять, с целым со всем человеком сблизиться – это именно читать в его душе, по его лицу, по его отдельным словам догадываться, сливаться бессознательно мыслью. И вот доказательство, что это лучшее, высшее сближение, по опыту мне кажется, что это понимание без слов более глубоко забирается в душу, более трогает, чем ясное объяснение. У нас это будет, верь, Сара. Кто говорит, что не следует пускать мужа в глубь души, и т. д.? Для того, что же, жизнь представляется обманом, игрой, сплошным кокетством?
Я глубоко верю, что интерес души человеческой, и настоящей, и не подделанной, вечно свеж и нет ему конца. Кажется, в день получения этого твоего письма, но до получения еще его, я с жаром говорил об этом предмете. Я в этом навсегда убежден опытом моего лучшего времени. Я теперь только мечтаю, чтобы возвратилось для нас с тобой это отличное время. Лишь бы попасть нам с тобой с первого раза на эту дорогу. А там уже мы не собьемся, не отступим ни на йоту – и будет нам жизнь блаженством. Лишь бы, лишь бы попасть…
А у меня история, Сара! Когда был у Авдотьи Михайловны, узнал от нее, что ей очень жаловалась на меня одна из фельдшериц, между прочим, на то, что ужасно непонятно читаю. Немало удивлен. Сначала сильно задело. Проектировал всевозможные способы объяснения и, наконец, остановился на том, (помня мою Сарочку, моего судью), что ни капельки не покрою, не защищу себя и признаю всю правду целиком, какая только у них окажется. Ведь они же меня любили, да и теперь еще любят, значит, действительно сплоховал, поленился, или по недостатку времени. И нам, таким-то лентяям, без уроков жизни жить нельзя.
(Страстная суббота 1881 г.)
Ночь перед Пасхой! Непраздничное настроение, надо признаться. Кто совсем разделался с грехами, как и с горем, а у меня плохо, плохо. Завидую всем. Они радуются, веселые, довольные вполне, а тут копайся в душе, кайся. А нельзя иначе. Единственное средство. Потому – не вольность, не бессознательность, а ум, опыт. Как бы отказался от того и другого, лишь бы быть довольным, хоть и чудно, по-ребячески. Но что есть, то и есть. Считаемся-ка!
Обстоятельства как бы сговорились. История с фельдшерицами, твои упреки. Ныне, наконец, кажется, еще прибавилось. Медички заявили, что лекции надо прервать, потому что наступило экзаменское время. Нужно готовиться к разным экзаменам. Мне думается, что имело значение и то, что нашли лекции не особенно полезными. Пусть так, заодно. Что же мне делать в виду стольких… Не знаю, как назвать, но хочется выразиться ни слабо, ни сильно, – ну и не знаю.
Думал, думал и решил. Исповедоваться перед собой, дави перед церковью только хотел, но не сделал, потому что Стольников так обещал достать. Это все же ведь лучше. Я совсем не прочь перебрать жизнь перед церковью. Но ведь с врали бы пришлось начать. Церковь имеет дело с верующими. С этого вопроса и начинается исповедь. Чтобы я сказал?
Ладно, исповедуемся перед собой, пред тобой! Сперва построение, а не наши с тобой! Пред фельдшерицами, конечно, виноват. Я не думал об их деле, о лекциях столько, сколько нужно. Вот что верно. Если бы я думал и старался, я не то бы им читал, и не так мало показал. Я не мог бы сказать про свое дело так, что относился к нему добросовестно. Я не напрягался над ним, не беспокоился по поводу его. Не считал его впереди разных случайных дел или просто развлечений. Во мне не было ни привычной аккуратности, ни тем более страсти к делу.
В еще большей степени это относится к лекциям медичек. Эти для меня были совсем новые и по объему, и по плану. Нужно было думать да думать. Я совсем не думал, а просто просматривал подробное руководство и читал. Правда, я был стеснен экзаменами, но тогда зачем нужно было браться? И верно тут, что именно не подумал раньше, как следует. И выходит несравненно; поделом вору и мука.
Теперь твои упреки. Да, может быть, я в самом деле не думал о тебе, ни разу никогда не подумал о тебе! Нет, я думать-то думал и много, и постоянно даже, но, может быть, ты права, что мне хорошо с тобой, вот я об этом только и думал. Ведь я еще этого всегда и боюсь – и никогда этого для себя не решу. Как же это я о себе-то в таком субъективном деле решу? Это уж тебе судить. Смотри ты, сколько есть у тебя только наблюдательности и внимания. Ты и ответственна за все. Я защищаться не буду. Я знаю, что я эгоист – и твое дело положить: в терпимой или нетерпимой степени. Только вот что! Боюсь я: расчувствуешься ты, прочтя это, и прощай всякая строгость и наблюдательность.
Но что же делать, однако? Будем переделываться. Я сам не раз звал неприятности – ну и вот они. Что ж! Я думал всегда: они учат, воспитывают, но и учимся. Чему же? Урок-то ясен, но вот странно. В себя я верю: верю, что можно все поправить и поставить вполне хорошо, но как-то совестно говорить это. Как будто так. Надо снова сделать это, не говоря ни слова, и почти про себя-то, не думая этого…
Пусть так!
А как с моим эгоизмом? Тут и не придумаю ничего. Как же тут учиться? Я знаю, что мне противен эгоизм, я хочу любить, хочу волноваться, жить для другого – но как здесь исправить дело, когда я этого не умею? Где и как учатся любви? Не прошло ли уже для меня время этого учения? А что, если это верно? Смотри сама, смотри, смотри… Брошу писать, пойду слушать Христос воскресе! Может, вспомнится старое! Может, заразит чудная радость!
Был, только-то от службы. Не знаю, слабо как-то действие. Другое ли, другое ли все здесь против Рязани; только там это сильнее, глубже захватывает…
Горячо целую мою Сару.
Твой Ванька
Свадьба
Сдав последний докторский экзамен и получив отпуск на две недели, Иван Петрович приехал в Ростов к моей сестре.
Короткое время, оставшееся до свадьбы, мы с Иваном Петровичем часто ходили по вечерам гулять на Донской бульвар. Народу там или совсем не бывало или бывало очень немного. Могу сказать, что я чувствовала себя, как в волшебной сказке во время этих прогулок и бесконечных разговоров.
Стояли чудные лунные вечера. Внизу серебристой лентой блестел Дон. Цветущие акации наполняли воздух своим ароматом. Свет луны придавал всему таинственное освещение. Речи же Ивана Петровича, красочные, яркие, возвышенные, уносили меня далеко от земных дел и забот. Он говорил, что мы вечно и дружно будем служить высшим интересам человеческого духа, что наши отношения, прежде всего и во всем будут правдивы…
Наше поколение было увлечено идеей служения народу. Мы считали себя должниками перед ним, и это возбуждало наш энтузиазм. А тут я услышала планы служить не только своему народу, но всему человечеству! Питая безграничное уважение к умственной силе Ивана Петровича, я чувствовала, что, опираясь на его твердую руку, поднимаюсь в сказочное царство! Как поднимает меня и теперь воспоминание об этих разговорах!
Однажды продолжали мы свои мечтания при сестре Рае, которая очень любила и меня, и Ивана Петровича. Послушав нас немного, она сказала:
– Все это хорошо, дети, когда у вас за плечами будет стоять некто, кто будет доставать вам чистую комнату, белую скатерть и хоть по одной тарелке супа в день (для чего, впрочем, надо иметь посуду), или же деньги, на которые вы могли бы купить все нужное, не тратя на это много времени. У вас же нет ни того, ни другого, и вы сами должны будете тратить драгоценное время на эти мелкие житейские заботы. Как же ты напишешь свой роман «Русские женщины», о котором так много мне рассказывала? – Вот пустяки, – ответила я, – все мелочи жизни я беру на себя, а роман буду писать в свободное время.
Рая усмехнулась и сказала:
– Я приехала на готовое хозяйство. Мой муж, как ты сама хорошо знаешь, несет главную долю забот о всяких мелочах, как вы выражаетесь, а ты видела, когда у меня остается свободное время? В этом все дело…
Но этот трезвый любящий голос нас нисколько не смутил. Так подошло время к свадьбе. Мой туалет много не стоил: платье дала одна сестра, туфли – другая, а цветы и фату – третья.
Поджидали мы мать, которая хотела быть на нашей свадьбе. Но она заболела в деревне у старшей сестры и не только не приехала сама, но задержала и старшую сестру. На свадьбе моей были только две сестры со своими мужьями да брат.
Венчал нас добряк священник, отец моего зятя. Зять на свои деньги нанял певчих и заплатил за паникадило, так что весь расход на венчание обошелся нам в пять рублей, пожалованных дьякону.
Во время венчания Иван Петрович спросил меня:
– О чем ты молишься?
– О нашем счастье,
– А я о твоем, – сказал он.
Оказалось, что Иван Петрович не только не привез денег на свадьбу, но и не позаботился о деньгах на обратный путь в Петербург. И при этом важном жизненном случае он остался верен своему презрительному отношению к денежным делам. Для меня это было уже второе указание на то, что впредь все жизненные заботы будут всецело лежать на мне. Я же к этому была тоже совсем не подготовлена.
Это, однако, меня не испугало. Я СПОКОЙНО сказала себе: «никто как бог». Я ни слова не сообщила об этом своим родным, не желая выставить Ивана Петровича в их мнении легкомысленным человеком.
Евстигней Никифорович Хмельницкий, муж сестры Серафимы Васильевны – Раисы
Я поступила правильно. Мой зять, который заботился обо мне как родной отец, будучи в Петербурге в то время, как я была невестой, познакомился с матерью Ивана Петровича. Из разговора с ней он вынес очень тяжелое впечатление о нерасположении ко мне и ее, и ее мужа. Вернувшись домой, он рассказал об этом моей сестре. Они оба чуть не со слезами уговаривали меня отказать Ивану Петровичу, чтобы не входить насильно в чужую семью. На это я легкомысленно ответила: «Я выхожу замуж за него, а не за его родителей».
* * *
Что за чудный вечер был в день нашей свадьбы! Садик, в который были открыты окна и двери, благоухал розами.
Собрались только самые близкие наши друзья. Мои племянницы им сообщили:
– А мы только что поженили нашу Саичку.
В саду в беседке устроили танцы. Музыку изображал отец Киечки, ударяя ножом по бутылке, и все мы превесело танцевали.
Никогда не забыть мне этого вечера, и Иван Петрович всегда вспоминал о нем с удовольствием.
Замужняя жизнь
(1881–1936)
Не легкий жребий, но отрадный
Был вынут для тебя судьбой.
Тютчев.
Вдвоем
Через несколько дней после свадьбы мы поехали в деревню к моей старшей сестре. После короткого пребывания у них, отправились к родителям Ивана Петровича в Рязань, где провели неделю. Там я наслушалась строжайших жизненных наставлений и лишена была самых примитивных удобств жизни. Этого Иван Петрович вполне не замечал, как не замечал и жизненных затруднений, из которых выручили нас мои скромные сбережения.
Наконец, приехали мы на дачу, нанятую еще весной Иваном Петровичем в Малой Ижоре. Это было уже в августе. На даче все время прожила нанятая им прислуга. С ней я должна была рассчитаться, так как она не пожелала оставаться на такой скучной даче. И в этом опять выразилась хозяйственность моего супруга.
Зато зажили мы прямо упоительно на полной свободе, вдвоем. Морские купания, продолжительные прогулки по лесу, куда мы уходили, взяв с собой еду на целый день, и бесконечные разговоры по вечерам на нашем маленьком балкончике.
Здесь впервые рассказала я о страхе при посещении меня неизвестным, приходившим ночью в школу, и о ночном путешествии под дождем и пешком с полустанка на станцию.
– Ну, какая ты умница! Напиши ты мне об этом тогда, я бы все бросил и примчался за тобой, – говорил Иван Петрович.
Среди наших бесконечных разговоров я как-то заметила:
– Голубчик, ты знаешь мою страсть к систематизации? Правда, смешное слово?
– Смешное-то смешное, да посмотрим, к чему оно будет приложено.
– Помнишь, моя Киечка уверяла всех, что у меня есть даже особая система для сморкания носа? Вот я теперь и думаю поговорить с тобой о системе нашей будущей жизни. Только верь, я никогда бы не начала этого разговора, если бы ты сам в своих письмах не жаловался мне на отсутствие строгих правил в порядке твоей жизни.
Помнишь, как ты сам просил меня в одном из своих писем взять с тебя обещание под «верь!», что ты не будешь никогда употреблять алкоголя ни в каком виде? Пьющий, по твоим словам, никогда не может не перепить. Вот я и беру теперь с тебя слово под трижды «верь», что ты никогда ничего не будешь пить.
Второе: опять на основании жалоб в твоих письмах о потерянном времени за карточной игрой – беру с тебя обещание отказаться от карт.
Затем считаю, что для сохранения общего времени для серьезных работ мы должны оберегать себя от постоянных приятелей (приятели мои, приятели твои и, наконец, наши общие приятели), которые так охотно идут к нам благодаря нашим веселым, обаятельным характерам. Мы будем принимать гостей только по субботним вечерам. Сами же будем ходить в гости, театры или концерты только по воскресеньям.
Затем, кроме этих правил, я прошу тебя исполнять мои личные желания: 1)перестать грызть ногти: мне это очень неприятно, 2)укоротить свою длинную бороду, 3)мыть по утрам шею и уши, и чистить зубы.
Иван Петрович был в восторге от моей программы и дал мне самые серьезные и твердые обещания неуклонно проводить ее в жизнь.
Надо сказать, что вскоре эта программа подверглась порицанию со стороны Дмитрия Петровича, Егора Егоровича Вагнера и Стольникова. Пришли они однажды к нам вечером и не получили никакой выпивки даже после весьма старательных намеков. Дмитрий Петрович подтвердил мои слова, что у нас в квартире никогда не бывает спиртных напитков. Все были очень поражены. Тут начались общие издевательства над Иваном Петровичем.
– Бедняга Ванька, попал ты в женский пансион! Не годится так охотно ложиться под женский башмак. Ведь от тебя останется одна тряпка и т. д. и т. п. Пойдем-ка лучше с нами, уж мы тебя угостим по-приятельски…
И все же после приятно проведенного вечера напились только чая. Стольников при всех поцеловал мне руку (чего он никогда обычно не делал) и громко заявил:
– Хорошо начало. Продолжайте в таком же духе, и при вашем отношении к Ваньке все пойдет отлично.
Иван Петрович остался очень доволен отзывом Стольникова, так как почитал его сильный ум.
Раза три посетили нас старые друзья. Иван Петрович со Стольниковым вспоминал, как он получил реванш за отзывы о нем моего двоюродного брата. Двоюродный брат мой очень желал, чтобы после окончания курса я хотя бы год прожила у него. Ему, вдовцу, трудно было справляться с детьми.
– Тебе, – говорил он – надо отдохнуть и повеселиться. Будем выезжать и принимать у себя. Ты мне напомнишь мою молодость.
Когда же я заявила, что выхожу замуж и показала ему фотографию Ивана Петровича, то, внимательно посмотрев на портрет, он сказал:
– У нас на шхуне служил доктор, как две капли воды похожий на эту фотографию. Большой был подлец и негодяй.
Тут и припомнил Иван Петрович, как крепко любивший его приятель Стольников отговаривал от женитьбы на мне на основании пословицы – «Бог шельму метит». У меня был шрам над бровью от падения в детстве с лестницы.
* * *
Много мы переговорили с Иваном Петровичем, сидя на нашем балконе в Ижоре. Однажды он сказал:
– Знаешь, я вполне согласен с Орловским, что у тебя действительно есть какой-то магнит, которым ты притягиваешь к себе людей. Например, Стольников. Как он был против моей женитьбы на тебе! А теперь – первый твой друг и ничего не делает без твоего совета. А Егорка при каждой встрече говорит мне: «Ванька, ты в сорочке родился, у тебя не жена, а сокровище».
Скажу тебе откровенно, что это мне даже не нравится!
– Голубчик, неужели ты до сих пор меня не понял? Ведь для меня венчание – великое таинство. И то, что я обещала тебе перед престолом божьим, никогда не нарушу я до самой своей смерти. Тебе я богом отдана и буду век тебе верна! Относительно Стольникова скажу: когда я высказала ему свое мнение о тебе и прибавила, что беру на себя все житейские мелочи, чтобы ты свободно шел по научной дороге, то это сделало нас навсегда друзьями. А с Егор Егорычем с самого начала нашего знакомства нас соединяла общая любовь к поэзии и мое нежное участие в его горе по смерти его жены.
Несколько минут мы просидели молча. Потом Иван Петрович сказал:
– Ведь эти чувства являются у меня совершенно непроизвольно. Забудем все это и по-прежнему будем верить друг другу.
Первый год
Когда после дачного житья мы вернулись в Петербург, у нас не оказалось совершенно никаких денег. И если бы не квартира Дмитрия Петровича, то буквально некуда было бы приклонить голову.
Друг и почитатель Ивана Петровича Стольников, принимавший самое горячее участие в нашей судьбе, настаивал, чтобы Иван Петрович поскорее закончил свою диссертацию, которую он собирался написать еще до нашей свадьбы. Работа была почти готова, но как всегда вызывала недоверчивое отношение самого Ивана Петровича. Вот Стольников и сделал следующее предложение:
– Мне одному ты не поверишь, скажешь, что я подтасовал факты, но жене своей ты веришь. И вот мы с ней вместе проделаем недостающие тебе опыты. И ты немедленно представишь свою диссертацию.
На это дружеское предложение Иван Петрович отвечал резким отказом.
– Жена моя будет постоянным сотрудником в моих научных работах, отчего она не отказывается. Но пока она еще полный профан в физиологии, и я доволен, что она не настаивает на скорейшем окончании моей диссертации.
Это было уже второе заявление о моих будущих научных работах. Первое Иван Петрович сделал год тому назад, вскоре после нашей свадьбы, когда мы гостили у сестры Аси в Мариуполе. Он не только уверял в этом, но даже заключил со мной следующий договор.
1880-го года, августа 14 дня
Уверяю, что Сара в летние месяцы 1881 года примет деятельное и полезное для исследования участие в моей работе по физиологии, предназначаемой для докторской диссертации, конечно, при условии искреннего желания на этот счет с ея стороны.