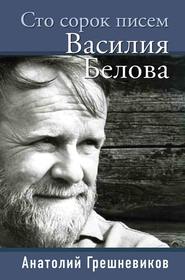скачать книгу бесплатно
Стихотворение Анатолий Передреев написал в 1985 году. Оно включено в замечательный сборник стихов этого поистине народного поэта с русской отзывчивой душой, который вышел в 1992 году в московском издательстве «ЕВРОРОСС». Подарив книгу мне, Белов посоветовал никому ее не давать, иначе умыкнут, зачитают. Стихотворение о бане было отмечено им закладкой и искрометным напутствием. Я не послушал писателя, прочитав в компании друзей знаковые и душераздирающие стихи об исчезающей Тимонихе на безмолвных просторах, кто-то попросил их переписать… Увы, обратно книгу мне не вернули. Выручил Анатолий Заболоцкий, он отксерокопировал стихотворение «Баня Белова» и подарил его мне.
Передреев видел запустение Тимонихи в середине 80-х годов еще задолго до Горбачева и Ельцина, ввергнувших страну в пучину разрушительных реформ. Поэт жалел ее, называл то сиротой, то «спящей царевной». В сияющих полях, в бескрайних далях, в заколдованной тишине, и, конечно же, в согревающей душу бане по-черному его посещала надежда на возрождение, ему о том «так пели и травы, и листья, и ветер». Однако к власти в России пришли не богатыри – будить «спящую красавицу» и собирать деревенскую Русь, в Кремль пробрались западники и либералы, и Русская деревня окончательно была приговорена… И мне в Тимонихе в 2002 году было уже яснее ясного: весь традиционный русский крестьянский мир уходит, будто Атлантида, в бесконечность, в бездну.
Русофобская команда Ельцина с особым рвением и безмозглостью внедряла в жизнь программу обезлюдивания деревни, раскрестьянивания сельской местности. И эта жизнь уходила в города и там грубела, серела, мельчала, спивалась, тосковала.
Мне интересно было знать мнение самого Белова, а возродится ли когда русская деревня? Он без раздумий отвечал: «Деревни больше нет». Я поругивал его за пессимизм, пытался выжать хоть одно малюсенькое слово надежды, а он оставался категоричен: «Деревня загублена». По инерции мы посылали с ним депутатские запросы, дабы сохранить островки сосновых лесов, подсыпать разбитую дорогу, но уже сама власть давала пустые ответы, расписываясь в своей беспомощности.
И все-таки я уезжал из Тимонихи со светлыми чувствами. Целых два дня мы говорили с Василием Ивановичем о чем хотели, о чем просила душа, ели речную рыбу со сковородки и пили чай из родительского пузатого самовара. Я исписал там несколько блокнотов.
О том богатом общении с щедрым и мудрым старожилом деревни Василием Беловым я написал очерк «Корни», который вошел в книгу «Хранитель русского лада». Иногда я его перечитываю, как стихотворение Передреева, и ко мне почему-то приходит уверенность: наступит время и деревня возродится, прорастет корнями… Ну как может быть Россия великой без деревни-матушки?!
Письмо двадцать восьмое
Дорогой Анатолий Николаевич!
Всему твоему семейству желаю здравствовать!
Все письма и все фотографии мной получены. Ради Бога, ты не тревожься. Выбирай время и приезжай хотя бы на час-два и можешь сразу уехать. Посмотришь, что есть у Страхова, и шпарь далее. А официальный мой вечер будет 23 октября у нас в Драмтеатре, если будет у тебя время – милости прошу! Не будет время – уезжай! Яне обижусь, тем более, мне все это жутко надоело.
Никаких выпивок и банкетов я для себя не планирую, алкоголь исключаю на этом самом «ужине», но исключаю для себя, а не для гостей… Они-то пускай и пьют, и едят, что Бог пошлет. И пляшут пусть.
Если приедешь, подари мне две пачки книги моей публицистики и более ничего не надо. (Можно и почтой, но почтой сколько ты сможешь выслать?)
Хотел я еще повлиять с твоей и лукьяновской помощью на наше начальство городское и областное. По финансам – на областное. По архитектуре и экологии – на городское. Но бумагу на все это сделаем при встрече в Москве, и я соберу подписи: Шафаревича, Распутина и, может, еще кого.
А ты разгребай свои проблемы, разгребай по одной, глядишь, и клубок распутаешь. Поверь моему опыту – по одной! И береги здоровье – это самое главное. Здоровье! От здоровья и «клубки» распутываются..
Господь с тобой, Толя. Обнимаю. Белов. 5 октября 2002 г. из Вологды.
В 2002 году Белова настигла внушительная дата – 70 лет со дня рождения! Юбилей. Круглый. Государственно важный. К нему готовился не только именинник, но и его многочисленные друзья. Мне Василий Иванович прислал приглашение с поручением найти и подарить иголки к его патефону. Письмо то оказалось утерянным… Да и поиск иголок тоже увенчался полным провалом. На все мои звонки и запросы звучал один и тот же ответ: «Ни патефоны, ни иголки не производим!».
Так как времени до юбилейного торжества было достаточно много, то я продолжал отчаянно искать на рынках и в антикварных магазинах нужные иголки.
Еще ко мне пришла мысль побеспокоить-расшевелить правительственных чиновников, чтобы они к юбилею знаменитого писателя издали пару его книг. Одно дело, я выпустил публицистику Белова за собственные средства, другое дело, государство участвует в торжествах.
Направлять депутатские запросы в правительство и встречаться с министрами я начал с начала года. 15 февраля 2002 года, например, за моей подписью ушло письмо министру по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций М.Ю. Лесину:
«Уважаемый Михаил Юрьевич!
Нынешний год отмечен знаменательным событием в культурной жизни России – 70-летним юбилеем великого русского писателя Василия Ивановича Белова.
Согласно договоренности, достигнутой во время нашей с Вами встречи в Государственной Думе, Минпечати готово принять участие в подготовке мероприятий, приуроченных к данному юбилею, в частности, снять документальный фильм о творческом пути В.И. Белова и профинансировать переиздание книги писателя: либо одного из сборников рассказов, либо книги очерков «Лад». Переиздание книги готово осуществить московское издательство «Русский мир». Если Минпечати предложит иное издательство, готовое быстро и качественно подготовить книгу писателя к изданию, то В.И. Белов будет рад и этой возможности.
В связи с этим прошу Вас дать поручение о проработке и реализации вышеуказанных мероприятий.
О Вашем решении прошу меня проинформировать».
Личная встреча с министром по делам печати Михаилом Лесиным не прошла даром. Хоть он и воспринимал мою настойчивость с пониманием, однако, оставался холодным, равнодушным. Но данное слово сработало… Деньги были выделены и на книги, и на фильм.
Первым отозвался на депутатский запрос и поручение министра его первый заместитель Михаил Сеславинский. 21 марта он сообщил мне:
«Уважаемый Анатолий Николаевич!
Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций рассмотрело Ваше обращение в связи с юбилеем В.И. Белова и информирует о следующем.
МПТР России может оказать финансовую поддержку для издания произведений писателя исключительно в рамках подпрограммы «Поддержка полиграфии и книгоиздания России» Федеральной целевой программы «Культура России», которая формируется на конкурсной основе по заявкам издающих организаций. Конкурсный отбор осуществляется независимой Экспертной комиссией, первое заседание которой ориентировочно намечено на конец марта текущего года.
В подпрограмму на 2002 год заявки на выпуск книг В. Белова подали издательства «Дружба народов» (Белов В.И. «Медный месяц», сборник новых повестей и рассказов) и «Современник» (Белов В.И. «Кануны. Год великого перелома. Час шестый: Трилогия»). Издательство «Русский мир» в установленные сроки заявку на издание произведений В.И. Белова не представило.
После заседания Экспертной комиссии, которая, мы надеемся, с пониманием и поддержкой отнесется к предложениям издателей, тем более с учетом предстоящего юбилея писателя В.И. Белова, станет очевидно, какая именно из заявленных книг войдет в Федеральную программу.
Что касается создания документального фильма о творческом пути В.И. Белова, то МПТР России готово рассмотреть заявку на производство телевизионного фильма в рамках государственной поддержки социально значимых программ. С условиями оказания финансовой поддержки на производство фильма можно ознакомиться на сайте МПТР России либо по контактному телефону 229-31-40.
С уважением, М.В. Сеславинский».
Какими «доброжелателями» и ценителями творчества русских писателей-патриотов являлись правительственные чиновники, можно догадаться хотя бы по одной ошибке в письме Сеславинского. Он назвал книгу Белова «Медный месяц», а следовало «Медовый месяц» – так называется одна из любимых повестей самого писателя. Именно под таким названием и вышла книга Белова в юбилейный год. Подобное издание выпустила и Вологодская писательская организация.
Редактор Вячеслав Волков не смог сдать в положенный срок необходимую заявку. Планируемая книга с чудесными фотографиями Анатолия Заболоцкого не вышла в свет. Спустя некоторое время Заболоцкий издаст ее за собственные средства.
Документальный фильм о творчестве Белова согласился снять режиссер Антон Васильев. Он, кстати, писал стихи. Лиричную книгу ему издал все тот же Вячеслав Волков. А вывел нас на Антона Васильева известный киноактер Николай Бурляев. У меня с ним выстроились дружеские отношения после того, как я привез его в свой Борисоглебский район и помог приобрести ему дачный дом в селе Веска, а затем включил его кинофестиваль «Золотой витязь» отдельной строкой в бюджет страны. При принятии парламентом бюджета против моей поправки, касающейся выделения финансов на бурляевский кинофестиваль, выступил почему-то его коллега, депутат Станислав Говорухин. Но депутаты поддержали не его, а меня. И когда подошло время снимать фильм о творческом пути Белова, я рассчитывал, конечно же, на помощь Бурляева. Но он уезжал в Сербию, потому передал право на съемки своему единомышленнику Антону Васильеву.
Зная, что Белов не в восторге от готовящихся юбилейных мероприятий, я направил ему свое повторное письмо, раскрыв планы во избежание протестов. К тому же на первое послание ответа не было.
Письмо ушло 3 апреля:
«Глубокоуважаемый Василий Иванович!
Дошло ли до Вас мое письмо, в котором я сообщал о беседе с министром печати г. Лесиным по поводу должного и достойного проведения Вашего юбилея?! Кажется, в этом письме либо чуть позже я высылал Вам и фотокопию иконы из музея г. Ростова Великого. После разговора и официального обращения пришел от министра хороший ответ. Две книги в этом году уже заявлены и есть надежда, что они придут к читателю в этом году. Жаль, не попала заявка на издание Вашей книги (это уже была бы третья заявка) издательства «Русский мир». Не попала по вине издательства, которое не успело сдать документы в положенный срок. Какая книга для Вас более дорога и за какую похлопотать перед экспертами особо – Вы уж, не стесняясь, сообщите мне сразу письмом. Постараюсь уговорить министерских чиновников на обе книги, но, может так случиться, что выделят средства на одну. Так для Вас какую книгу лучше переиздать – «Медовый месяц» либо «Кануны»?! Узнать ли о предполагаемом гонораре либо Вы сами с издательствами обо всем договоритесь?!
Что касается издания Вашей книги публицистики у нас в Ярославле, то она в наборе и вот-вот выйдет. Гранки на вычитку я Вам либо пришлю, либо завезу. На днях был проездом в Вологодских краях, но к Вам так и не смог заглянуть, извините, уж слишком мало времени было, и суета, и всякие дела. Фотографии в книгу почти все пошли. Уверен, книга выйдет достойная и нужная людям. Готовьтесь к летней презентации, о чем мы с Вами говорили у меня в кабинете в Думе.
Теперь о второй части ответа из министерства – о фильме к юбилею. Мы поговорили с кинорежиссером Н. Бурляевым, и он порекомендовал интересную команду… Сам Н. Бурляев сейчас в Сербии. Если все получится, то документальный фильм станет реальностью. И в этом случае от Вас потребуется только одно: найти время и поделиться своими думами о наболевшем. Может, это будет просто Ваша беседа о творческом пути, такая же, как была показана недавно по телевидению с писателем М. Алексеевым. До этого – с писателем Ю. Бондаревым. Обе передачи мне понравились. Видели ли Вы их?! А может, телевизионщики свое что-то предложат. Главное, чтобы Вы не махнули на них рукой. Русские телезрители должны все-таки на телевидении видеть своих русских писателей и подвижников.
В день рождения писателя В.Г. Распутина (65-летие) я выступил в Думе с предложением поздравить великого нашего писателя и наградить его Почетной грамотой Государственной Думы России. Коллеги меня поддержали. Но вручить грамоту не удалось, В.Г. Распутин уехал в Сибирь. Приглашал, кстати, меня летом-осенью посетить Иркутск и его, так что, может, слетаю туда вместе с В. Хайрюзовым.
Прочитал в газетах, что в Кирилло-Белозерском монастыре разводят почтовых голубей. Это правда или газетная «утка»? У Вас там есть знакомая сотрудница, нельзя ли узнать об этой информации что-либо. Меня, как эколога, это интересует.
Эти две недели буду в Москве и в Борисоглебе, так что жду письма – лучше на домашний адрес – на Борисоглеб. Потом улечу на недельку в Швецию на экологическую конференцию, а затем слетаю еще на недельку на Северный полюс.
Всего Вам доброго и, главное, – здоровья и еще раз здоровья. Поклон Ольге Сергеевне».
Фильм вышел на экраны центрального телевидения. Белов отозвался о нем осторожно, вернее, прохладно. Грустный отпечаток оставило у него вальяжное поведение режиссера в Тимонихе. Белов, к примеру, затапливает баню лишь для гостей, чье общение ему дорого, а тут москвич проявлял настойчивость… Режиссер, видимо, желал того, чего не желал хозяин.
Мне фильм показался поверхностным, недоговаривающим о тяжелых переживаниях писателя о судьбе русской деревни, не отвечающим на вопрос, как Белов, выросший в голодное военное время в далекой лесной глуши, вдруг стал всемирно известным.
В Вологду на юбилей Белова я приехал рано утром. Прежде чем погулять по городу, устроился в гостинице на седьмом этаже. Затем зашел в юношескую библиотеку, подарил свои книги. В магазине купил музыкальный центр, который должен был заменить подарок, именуемый «иголками».
Белов, узнав, что я поселился в гостинице, обиделся, тотчас примчался ко мне… Мы пообедали в ресторане. В зале громыхала тяжелая музыка. Помнится, я поругал молодежь, которая в основном и увлекается ею.
– Музыка для молодежи давно стала не средством познания жизни, а развлекаловкой, – заметил с ноткой грусти Белов. – Мы говорим молодежи: то слушайте, это слушайте. А нужен диалог…
До начала торжественного вечера Василий Иванович заставил меня прогуляться с ним по городским тихим улочкам. Мне нужно было забрать в областном департаменте культуры заказанные заранее букеты цветов для именинника и его супруги. Незаметно сделать это я не мог. Пришлось ехать вместе в департамент, а оттуда домой к Белову.
В тот час, к удивлению, квартира хозяина была без гостей. Они приходили и уходили. Мне посчастливилось вручить подарок, именуемый «иголками», в присутствии Ольги Сергеевны и дочки Ани. То был современный музыкальный центр с грозными колонками. Вместо запрашиваемых автором двух пачек книг я затащил с водителем аж пять… К писателю приходит много гостей, а дарить нечего. Про то поведала мне Ольга Сергеевна по телефону. Книги тут же были вытащены на свет… К моей радости, рыбинское издание вызвало у всех восторг. Значит, мы не зря с Хомутовым столь долго колдовали над ним. Впоследствии о книге «Раздумья о дне сегодняшнем» я получил сотни благодарственных и восхищенных отзывов.
До ухода в драмтеатр я слушал патефон… Василий Иванович то и дело крутил его ручку да ставил новые пластинки.
На юбилейном вечере Белов усадил меня в президиум за стол вместе с его единомышленниками – редактором журнала «Наш современник», поэтом Станиславом Куняевым, депутатами Госдумы Анатолием Лукьяновым и Валентином Купцовым, профессором из Японии Рехей Ясуи.
Описывать в красках и деталях тот день сложно. Время прошло значительное. Однако он подробно изложен мною в очерке «Мелодии старого патефона», вошедшем в книгу «Хранитель русского лада». Сожалеть приходилось тогда об одном: я не успел побывать в мастерской народного художника России Валерия Страхова и полюбоваться его живописными картинами, в том числе отражающими творческий мир Василия Белова.
Письмо в защиту деревянного зодчества мы написали вместе с Беловым. Его подписали и Валентин Распутин, и Игорь Шафаревич. Ответ из администрации области обнадеживал, но старые дома продолжали исчезать.
Письмо двадцать девятое
Дорогой Толя!
Крепись и занимай новый «окоп», а тебя я всегда поддержу (сколько могу). Белов. 2002 г.
То была первая серьезная попытка председателя Союза писателей России Валерия Ганичева уговорить Василия Белова, чтобы он надавил на меня и я не вмешивался у себя на малой родине в конфликт между реставраторами и настоятелем Борисоглебского монастыря. Белов знал подоплеку конфликта, знал, кто давал неверную информацию Ганичеву, знал, что мне удалось заручиться поддержкой Патриарха Московского и всея Руси Алексия II о переносе сроков выселения реставрационной мастерской из монастыря, потому не только отказал Ганичеву в его просьбе, но и поддержал мою позицию.
Беседа, видимо, была настолько горячей и неприятной, что Василий Иванович сначала позвонил мне, а затем и написал, подбадривая меня в борьбе с несправедливостью и обещая всяческую поддержку. И слово он сдержал. Его поддержку я ощущал не раз.
Письмо тридцатое
Дорогой Анатолий Николаевич!
Спасибо за информацию о фильме. Японца зовут Ясы-сан, его жену Минако-сан. Он профессор Токийского университета. Фамилия его Рехе. Уже шесть раз приезжали в Тимониху.
Это их почтовый адрес: Рехэй Ясуи. Схио 1-45-29. Сауата. Яапан, 550-1508.
Можешь связаться, он хорошо говорит по-русски. Да, я готов 16–17 ехать, если увезешь, в Борисоглеб. Еле брожу с костылем. (25–24 ноября мне надо быть в Москве.) Обнимаю.
Белов. 1 ноября 2002 г.
Профессор Рехэй Ясуи из Японии, узнав от Белова, что я эколог, выведывал у меня сведения о том, как собирается Россия беречь климат. Наблюдая за иностранцем со стороны, можно было заподозрить его в шпионаже. Приходилось коротко рассказывать о сбережении лесов, имеющих климатообразующее значение, о защите морей и океанов, поставщиков кислорода, от нефтяного загрязнения. Времени для плодотворной беседы не было.
Переключиться с официального разговора о политике и экологии помог юбиляр Белов. Пора было садиться за стол президиума, стоящий на сцене вологодского драмтеатра, и писатель заявил нам: «Приезжайте оба на следующее лето в Тимониху, там и наговоритесь… Место там как раз для бесед об экологии».
Я знал, что Рехэй Ясуи неоднократно гостил у Белова в Тимонихе. Известны и его слова о литературной мекке писателя: «Деревня со смешным бабьим названием – это Россия в миниатюре, тщательно выписанная кистью Василия Белова».
– Чем так притягивает Вас Тимониха? – задал я вопрос, подводя черту под нашим спонтанным разговором.
– Там много и свободно дышится! – радостно ответил японский ученый, – больше ценишь свежий воздух, лес, воду, чистые мысли и презираешь богатство, комфорт и суету бренного мира.
– В Японии разве нет таких деревень, как Тимониха?
– Откуда?! У нас земли мало.
– А Вы бы хотели жить в Тимонихе?
– Для того, чтобы там жить, нужно быть Беловым, – прищурив глаза, мудро ответил Рехэй Ясуи.
Я подарил профессору свою книгу на английском языке «Журавли из небытия», а также партийную газету «Время», в которой председатель нашей партии «Народная воля», профессор Сергей Бабурин поздравлял своего соратника Василия Белова с 70-летием. В то время писатель входил в наш Центральный политический Совет. Искренние слова Бабурина тронули профессора. Он его видел утром. Известный политик приехал на машине из столицы, подарил Белову икону, произнес здравицу и покинул Вологду.
А в газете он писал Белову: «Поколения наших граждан воспитываются на Ваших произведениях, и мне вдвойне приятно отметить, что давно знаю Вас не только как самобытного писателя, лидера подлинного русского консерватизма, но являюсь Вашим соратником и единомышленником. Наблюдая Вашу энергичную, плодотворную деятельность в литературе и общественной работе, убеждаюсь, что «есть еще порох в пороховницах» и Вы не раз порадуете в будущем читателей своими замечательными произведениями».
Бабурин в то время преподавал в крупном торгово-экономическом университете в Москве. Я пригласил японского ученого выступить перед российскими студентами в этом университете, а заодно провести вместе со мной симпозиум о причинах глобального потепления климата, о сохранении редких видов журавлей – даурского и японского, о которых рассказывается в моей подаренной книге.
Профессор обещал обдумать мое предложение. К сожалению, мы не обменялись адресами, потому я попросил Белова сообщить его мне.
Документальный фильм, снятый Антоном Васильевым, после просмотра по телевидению вызвал у меня некоторые вопросы, и я написал о них писателю-юбиляру.
О приезде Василия Белова в Борисоглеб мы договаривались по ходу работы над его книгой публицистики, издаваемой в Рыбинске. Мне хотелось, как говорится, сразу «убить двух зайцев». Во-первых, провести презентацию книги на моей родине, познакомить писателя со своими земляками. Во-вторых, свозить Белова в город краеведов Мышкин, о многочисленных музеях которого мы достаточно много говорили. Я рад был, что Василий Иванович помнил про обещание, и без колебаний собрался в гости ко мне.
Письмо тридцать первое
Дорогой Анатолий Николаевич!
Разумеется, я прохвастал, ехать пока никуда нельзя. Лицо опухло, на руках волдыри. Отложим все планы. Даже писать не могу… Будь здоров и удачлив. Жене кланяюсь. Белов.
Суббота. 9 ноября 2002 г.
Беда пришла с неожиданной стороны. Сгорела баня, та самая, что смывала старые беды и переживания, а затем давала импульс для новых открытий и свершений. Та самая, что с неимоверной силой, будто магнит, вытягивала Белова из городской квартиры и тянула в деревню. Так и в этот раз было. Устав от юбилейных панегириков и городской суматохи, он перед ноябрьским революционным праздником направился в Тимониху – поправить здоровье и нервы на жаркой банной полке. А чудо-баня возьми и подведи…
Белов долго не выдавал причину пожара. Из письма вообще было не понятно, какое несчастье на него обрушилось, почему отложена поездка в Борисоглеб. Лишь из телефонного разговора узнал, что у него сгорела баня. Из старой печи с трещинами жар достал и накалил бревна и те вспыхнули разом. Белов кинулся заливать огонь водой, припасенной для помывки, но ее оказалось мало. Вблизи воды не было. Ее он носил в ведрах из речки Сохты почти за полкилометра. Колодец еще дальше находился. Под рукой оказался лишь снег… Он сгребал его горстями и бросал на бушующие языки пламени.
Отвага и отчаянное поведение не помогли. Огонь съел высохшие за долгие годы бревна молниеносно. Баня исчезла прямо на глазах Василия Ивановича. Получив ожоги лица и рук, он попал в больницу. Но быстро сбежал оттуда. Сообщил мне письмом, что намеченная поездка откладывается.
Журналисты одолевали писателя своими звонками и просьбами рассказать о пожаре. Их не интересовали вышедшие в юбилейный год его новые книги. Нужда заставляла подкормить читателя жареными фактами и сенсациями.
На страницах газет то и дело мелькали статейки с передернутыми фактами и полные ерничества. Они раздражали писателя, и я просил Ольгу Сергеевну не показывать ему «желтую» прессу.
Повежливее и поскромнее отозвалась о горе писателя лишь «Комсомольская правда». Ее корреспондент Елена Кондратьева напечатала заметку «Писатель Василий Белов чуть не сгорел в своей бане». Конечно, заголовок напичкан излишней и неправдоподобной интригой. Но в тексте хоть отсутствовало откровенное вранье.
Журналистка писала:
«Перед ноябрьскими праздниками Василий Иванович решил попариться. Но печь перегрелась, и от нее загорелась задняя стена баньки. Писатель пытался сам погасить пламя, но ближайший колодец с водой оказался почему-то закрытым, и огонь пришлось забрасывать снегом.
Несмотря на все старания классика, бревенчатая баня сгорела дотла.
Сам Белов получил сильные ожоги лица и рук и был срочно доставлен в районную больницу. Сейчас писатель долечивается дома и отказывается рассказать что-либо журналистам».
Ни один столичный корреспондент не в состоянии понять глубину трагедии Белова. Прочувствовать ее нутром, душой. Как я уже сказал, баня для Василия Ивановича была своеобразным мостком между городом и деревней. Жить, а тем более творить, в каменной квартире он умел плохо, гораздо легче и интереснее писалось в тишине, настоянной на травах и лесных ягодах.
Писучая братия из столицы мало читала и изучала книги Белова, ей неведома его тяга к затворничеству, к самостоятельному осмыслению жизни. Им не понять, зачем так много времени он проводит в деревне. А ведь он в разных беседах не раз выдавал свою тайну, почему не может жить без деревни. В послепожарное время я как раз наткнулся на одно из его откровений: «Физически жить в городе невозможно. Вернее, плохо. Воздух не тот. Вода не та. Я вологодскую воду совсем не могу пить. Она хлорированная. Зубы разрушаются. Стоит мне неделю прожить в деревне, сразу укрепляются десны. Я прихожу в нормальное состояние, начинаю думать, появляются позывы к работе. Вот! Нужна привычная, нормальная – для каждого своя – среда обитания. Тишина нужна. Воздух! И нормальная человеческая атмосфера».
Или еще одно откровенное высказывание: «Душа у меня в деревне, жена, книги и рукописи – в Вологде. Живу и там, и там. А Москва меня кормит пока очень скудно, если иметь в виду литературные труды».