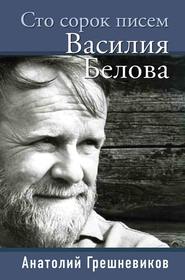скачать книгу бесплатно
«Дорогой Александр Станиславович!
Вашу работу я сравниваю с Троицким чудом, описанным в этой брошюре. Реставратор – это свидетель Бога! Белов. Вологда. 25 июня 2002 г. Духов день».
Мы поднимаем тост за Василия Белова, за его своевременную, а также неустанную поддержку русских подвижников. И, конечно, за смелость писателя, ведь противостоять натиску маститых чиновников в Союзе писателей, где начальником был сам Ганичев, а оруженосец Котькало являлся его зятем, мог только Белов и никто другой.
В юбилейном зале зазвучали тягучие, как мед, ярославские напевы.
Рыбников тотчас увлекся брошюрой. Нам известно было, что в круг чтения Белова все чаще попадают религиозные книги. И потому подарок не случаен. За трагедией Троицкой чудотворной иконы святителя Николая Чудотворца чувствуется трагедия всей России. До революции икона находилась в Никольском монастыре в окрестностях г. Троицка Челябинской области. Коммунисты разгромили монастырь, икона бесследно исчезла. Обнаружили ее на чердаке другого храма, который тогда переоборудовался под музей, такие же подвижники, как Рыбников. То был храм святого благоверного князя Александра Невского. В нем в 1940-е годы молилась блаженная Евдокия Чудиновская, которая провидчески говорила: «Чудиново будет как Меркушино, а Троицк будет как Бари». Найденная икона хранилась вначале в семье художников Крыловых, а затем была передана восстановленному из руин древнему Свято-Троицкому собору. Реставрация и спасение иконы от следов разрушения осуществлены другим художником – Геннадием Иванчиным.
После юбилейных торжеств, расчувствованные историей возвращения потерянной иконы, мы с Рыбниковым пошли звонить Белову в Вологду. Для меня этот гражданский поступок писателя – один из многих, совершенных им, но именно в них явственно проступают истинные ценности человеческой души.
Письмо двадцать седьмое
Дорогой Анатолий Николаевич!
Жду тебя в д. Тимонихе, которая почти погибла, зимой уже никто не живет… Я буду там до твоего приезда, а в сентябре надо в Москву. В Харовске глава Мазуев даст тебе мотор.
Кланяюсь жене и друзьям твоим. До свидания. Белов. 10 августа 2002 г.
Тимониху можно назвать деревней, и то правда, но для любого образованного человека – это сакральное место. Ясная Поляна ассоциируется у нас с могучим талантом Льва Толстого, Щелыково – с незабываемыми пьесами Александра Островского, Овстуг – с лирической поэзией Федора Тютчева, Куоккала – с дивными картинами Ильи Репина.
Талант неминуемо рождается на почве, как писал в своем известном дневнике Достоевский, а проживать может и на асфальте. Читаешь биографические книги русских творцов-гениев и четко осознаешь: Пушкин немыслим без Михайловского, Блок – без Шахматова, Есенин – без Константинова, Аксаков – без Абрамцева, Пластов – без Прислонихи, Абрамов – без Верколы.
Тимониха напитала Василия Белова вековыми крестьянскими традициями и ремеслами, вложила в него столько энергии и таланта, что он навечно вошел в мировую литературу как великий писатель-самородок и печальник Земли русской.
Я ехал в Тимониху, как едут православные в Иерусалим, а мусульмане – в Мекку, – с благоговением… Про лесную деревушку Белова я читал восторженные отзывы самых разных знаменитых соотечественников – от Шукшина до Солоухина, от Свиридова до Куняева. Однако главный трепетный праздник в душе рождался от мысли, что я вскоре встречусь с Тимонихой и пройдусь по той земле, где вырос Белов, чьи книги в студенческие годы воспитывали во мне патриота и писателя.
Мы приехали в Тимониху 18 августа 2002 года семьями, с женами – я и Саша Рыбников. Транспортом главы Харовского района Александра Николаевича Мазуева не воспользовались, хотя Белов дал его домашний и рабочий телефоны. Жили в гостях два дня. Хозяин умело расхваливал дом, баньку, сад, показывал и второй дом, где стул сделал отец, а на потолке торчал крюк, на котором качалась люлька с будущим писателем. В беседах так много всплывало интересных историй с именитыми гостями, что я едва успевал заносить их в дневник. Бурные чаепития заканчивались походами по окрестностям, за деревней Белов водил нас то к реке, то к восстановленной им церкви, то по дальним деревням. Забрели мы, конечно, по ранней договоренности с хозяевами, в гости к художнику Валерию Страхову, к кинооператору Анатолию Заболоцкому. У последнего довелось попариться в его жаркой баньке, пахнущей ромашковым настоем и стоящей по пояс в траве у маленькой речки с огромными, обласканными солнцем и ветром камнями.
На всю жизнь запомнилась мне и баня самого Белова. Хозяин справедливо гордился и тем, что она долго жаром пышет, и тем, что построена по его замыслу, а главное, она угодила множеству гостей с разными вкусами и характерами. В ней с удовольствием парились Шукшин, Яшин, Кожинов, Абрамов, Рубцов, Носов, Распутин, Куняев, Крупин. Список можно продолжить.
О бане Белов говорил много и красочно. Отсюда следовало: она для него была не обычным атрибутом деревенской жизни, а заманчивым приглашением к душевному, откровенному разговору и очередному приезду в гости.
Чем можно удивить человека в городе? Небоскребами? Музеем? Рестораном? А что цепляет за душу человека в деревне? Чистая природа да жаркая баня! Вот Василий Иванович всех и покорял «чистилищем души и тела».
Каким помощником в творчестве явилась баня, однажды Белов признался писателю Федору Абрамову: «Я каждое время года баней меряю. То есть все через баню: и осень, и зиму, и весну, и лето. Стоит мне только представить, как я выхожу из бани, и я с особенной силой, прямо-таки физически начинаю чувствовать и запах травы, и запах земли, и запах дождя и воды. И небо, и снег вижу иначе… Я, между прочим, так всегда и делаю, когда пишу пейзаж или человека: воображаю себя вышедшим из бани, и тогда сразу спадает с вещей вся пыль и короста повседневности».
Поэт Анатолий Передреев, гостивший, как и мы, в Тимонихе, отметил главную достопримечательность писательской усадьбы отдельным весомым стихотворением «Баня Белова». Его стоит привести полностью, хотя оно объемно, но полно раскрывает как думы и помыслы гостей, так и атмосферу, царившую в деревне.
1
В нелучшем совсем состоянье своем
Я ехал к Белову в родительский дом.
Он сам торопился, Василий Белов,
Под свой деревенский, единственный кров.
И гнал свой «уазик» с ухваткой крестьянской
Сначала – по гладкой, а дальше – по тряской.
Везли мы с собой не гостинцы, а хлеб…
И ехали с нами Володя и Глеб.
Володя, в свой край нараспашку влюбленный,
И Глеб присмиревший, с душой затаенной…
В начале пути им попалась столовка,
Где жалко себя и за друга неловко.
Каких-то печальных откушали щей
И двинулись дальше дорогой своей…
И вот предо мною зеленый простор
Величье свое бесконечно простер.
Стояли леса, как недвижные рати,
В закатном застывшие северном злате.
Сияли поля далеко и прозрачно…
Но было душе неуютно и мрачно.
Бескрайние эти, великие дали
Мне душу безмолвьем своим угнетали.
Я видел, как дол расстилался за долом,
Какой-то сплошной тишиной заколдован.
И реки пустынные – Кубена… Сить…
Здесь некому вроде и рыбу ловить.
Среди их привольно катящихся волн
Хоть чья бы лодчонка, хоть чей-нибудь челн!..
Густела в полях вечереющих мгла.
И странные нам попадались дома.
Они величаво из мглы возникали,
Как будто их ставили здесь великаны.
Наверное, ставили их на века —
Такая во всем ощущалась рука.
Такое надежное крепище бревен…
Но облик их был и печален, и темен.
Ни света из окон, ни дыма из труб,
Безмолвен был каждый покинутый сруб.
И мрачно они средь полей возвышались.
Куда же хозяева их подевались?!
Но каждый об этом угрюмо молчит.
И молча мы едем в глубокой ночи…
Но вот наконец нас хозяин привез
В деревню свою под сиянием звезд.
2
По-черному топится баня Белова,
Но пахнет березово, дышит сосново.
На вид она, может быть, и неказиста,
Зато в ней светло, и уютно, и чисто.
Когда в ее недрах всколышется жар,
Она обретает целительный дар.
Она забирает и тело, и душу,
Все недуги их извлекает наружу.
Любую усталость, любой твой кошмар
Вбирает в себя обжигающий пар.
И, весь разомлев, ты паришь невесомо,
Забыв, что творится и в мире, и дома…
И с пышущей полки встаешь, обнажен,
Как будто бы заново в мире рожден.
Как будто бы весь начинаешься снова…
По-черному топится баня Белова.
3
И светлая взору предстала деревня,
Живая деревня в краю этом древнем.
Из сказки забытой, казалось, возник
Ее отуманенный временем лик.
Темнели на избах высоких узоры,
И окна синели, как жителей взоры.
Распахнутый миру – входи на порог! —
Под небом пустынным жилой островок.
Казалось, один он остался на свете
Затем лишь, чтоб путника в мире приветить.
Хоть много чего сохранить не смогла,
Но душу деревня еще сберегла.
Наверно, вовеки она не иссякнет,
Раз вынесла столько погибели всякой.
Наверно, вовеки она не исчезнет,
Раз столько еще и добра в ней, и чести.
Раз детская чья-то головка одна
С таким любопытством глядит из окна.
И сразу просторы исполнились смысла,
И небо иначе над ними нависло.
И дали, что с новой встречаются далью,
Уже не дышали такою печалью.
Все сделалось радостней, стало прочней —
Земля при деревне и небо при ней!
И мир не казался уже сиротою
Со всей необъятной своей широтою.
К деревне ведет и тропа, и дорога.
Еще так богата земля, и так много
И сил, и красы у земли этой древней…
Доколе лежать ей, как спящей царевне,
Доколе копить ей в полях свою грусть,
Пора собирать деревенскую Русь!
Пора возродить ее силу на свете —
Так пели и травы, и листья, и ветер.
Так думали поле, и речка, и лес,
И даль, что смыкается с далью небес.
Так думал, наверно, Василий Белов,
Что вел нас по отчему краю без слов.
Пора! – это Времени слышно веленье —
Увидеть деревне свое возрожденье.
А все, что в душе и в судьбе наболело, —
Привычное дело, привычное дело…