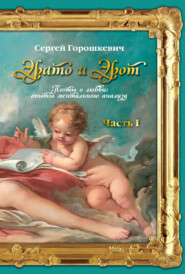скачать книгу бесплатно
Н.Н.Матвеева (1934–2016)
Вы объяснили музыку словами.
Но, видно, ей не надобны слова —
Не то она, соперничая с вами,
Словами изъяснялась бы сама.
И никогда (для точности в науке)
Не тратила бы времени на звуки.
Скажу сразу: я вообще не ставил перед собой задачу изучать творчество поэтов – авторов любовной лирики. Боже упаси. Задача книги принципиально другая – исследование половой любви на основе их «готовой продукции». Если бы за это дело взялся специалист – профессионал в науке о поэзии или в науке о любви, то перед ним сразу же встали бы неразрешимые проблемы. Для того, чтобы правильно и безошибочно использовать какой-либо стихотворный текст (а именно это – свойство профессионала), ему пришлось бы получить о нем точную научную информацию: когда и при каких обстоятельствах личной и социальной жизни поэт создал данное стихотворение, насколько искренним он был при этом, в какой мере совпадают в этом произведении автор и лирический герой, а также многое, многое, многое другое. Первый вопрос: а этично ли это? Сами поэты уверены, что нет. Как и большинство психически здоровых людей, они резко отрицательно относятся к попыткам вывернуть наизнанку и проанализировать их частную жизнь:
Редьяд Киплинг (1865–1936) Англия (пер. К.М.Симонова)
Я вам оставлю столько книг,
Что после смерти обо мне
Не лучше ль спрашивать у них,
Чем лезть с вопросами к родне!
И.Л.Сельвинский 1964 (1899–1968)
Каждый человек имеет право
На туманный уголок души.
Но поэт… Лихие легаши
Рыщут в нем налево и направо,
Вычисляют, сколько пил вина,
Сколько съел яичниц и сосисок,
Составляют донжуанский список —
Для чего? Зачем? Моя ль вина,
Что, пока не требует поэта
Аполлон, – я тоже человек?
Эпохальная моя примета
Только в сердце, только в голове!
Мы хотим сознание народа
Солнечным сияньем оплесть…
Так не смей, жандармская порода,
В наши гнезда с обысками лезть!
И тут поэты совершенно правы. «Я поэт. Этим и интересен», – говорят они. Этим, и только этим! А все остальное – не наше собачье дело. Если оставить этику в стороне, то встает второй вопрос: а возможно ли получить искомую информацию о происхождении каждого стихотворения? Уверен, что нет. Конечно, имеется целая отрасль науки, которая как раз этим и занимается. Однако опереться на ее достижения даже теоретически очень сложно, а практически – совершенно невозможно. Почему? Во-первых, объем научной и полунаучной литературы, имеющей отношение к потенциально пригодным для использования стихам, совершенно необозрим. Нужна не одна жизнь, чтобы ознакомиться со всем этим хотя бы поверхностно. Во-вторых, серьезными и глубокими исследованиями охвачено творчество лишь очень немногих великих поэтов. Творчество остальных – средних и особенно мелких, изучено слабо или вовсе не изучено. Наконец, в-третьих, наука о стихах, как и любая другая наука, особенно из числа гуманитарных и вдобавок имеющих дело с прошлым, изобилует противоположными, спорными, взаимоисключающими взглядами ученых на один и тот же вопрос. Учитывая все вышесказанное, я принципиально не использовал научное литературоведение в своей работе и попытался забыть то немногое, что мне было известно из его достижений. Я поступил так отнюдь не из пренебрежения к науке, а как раз из уважения к ней. Ведь я не ученый-литературовед, а самый что ни на есть простой читатель – дилетант. «Я не филолог, я логофил», – сказала Вера Павлова. Так вот, она Логофил с большой буквы: открывает слова. А я – с маленькой: мне просто нравятся слова красивые, при этом не лишенные смысла. Как обычный человек читает стихи? Очень просто: он прочитывает стихотворение и понимает или не понимает его так, как хочет и может, т. е. СУБЪЕКТИВНО. В процессе работы над этой книгой было несколько случаев, когда я, уже вставив в текст некий стихотворный фрагмент, случайно узнавал из какого-то источника информации, что поэт написал данное стихотворение совсем в другой ситуации, совсем по другому поводу и вкладывал в него совсем другой смысл. Обычно это было связано с неясностью и двусмысленностью самого стихотворения:
Ю.Ю.Власенко (р. 1949)
Ясность
Но она слишком прозрачна
Чтобы ее замечали
Расходится муть метафор
И по ним
Гадают
Бывало и так, что неправильная интерпретация происходила явно по причине моего недомыслия. Так вот, я во всех без исключения случаях оставлял фрагмент на прежнем месте! Не думаю, что это хорошо. Но и не плохо, ибо субъективность восприятия есть основа литературы и искусства, со стороны как их производителей, так и потребителей.
В свое оправдание приведу хрестоматийный пример. Сочиняя знаменитый фрагмент «Куда, куда вы удалились?..» А.С.Пушкин явно насмехается над слюнявым стихотворчеством Ленского, пародирует лишенные поэтической правды и истинного чувства творения эпигонов романтизма. П.И.Чайковский, то ли не разобравшись в ситуации, то ли, наоборот, совершенно сознательно стремясь продемонстрировать свои уникальные возможности композитора, делает на этом изначально
«юмористическом» материале совершенно серьезную арию, которой верят и над которой рыдают поколения благодарных слушателей, сожалея вместе с автором об утраченных иллюзиях. К моменту создания арии А.С.Пушкина уже не было в живых. Поэтому он не мог предъявить претензий П.И.Чайковскому. Признаюсь, что в этом плане я особенно боюсь современных, ныне здравствующих авторов. Вначале я даже старался избегать использования их стихов в своей работе. Во-первых, они в среднем пишут более мудрёно, чем их предшественники. А во-вторых, они живы-здоровы и им, конечно, должно быть обидно и досадно, что какой-то недоумок без спросу использовал и вдобавок неправильно интерпретировал их нетленные произведения. Поэты вообще страшно не любят, просто не переносят читателей, которые вместо того, чтобы наслаждаться стихами, начинают ковыряться в них, выуживать и отцеживать неизвестно что. Такие читатели, тем более, горе-писатели, представляются поэтам просто какими-то ползучими гадами:
Галактион Табидзе (1892–1959) Грузия
(пер. К.М.Симонова)
Есть настоящий, сущий –
Души твоих книг читатель.
И есть ему вслед ползущий
Книжных листов листатель,
Тянет, потянет, вытянет
Где-нибудь лыко в строку,
Выудит, выдоит, выкопает…
Ни спросу с него, ни проку!
И.А.Ахметьев (р. 1950) Советский андеграунд
немного страшный
вслед за гением
ползет скрипя анализатор
он полон строгим убеждением
что без него никак нельзя
Что тут можно сказать? Только одно: простите меня, пожалуйста, коли сможете. По роду занятий я ученый, научный сотрудник, правда, совсем в другой области. В этом качестве я сам и субъект творчества, и интерпретатор чужих творческих достижений. Поэтому мне очень легко поставить себя на место глубокоуважаемых поэтов и специалистов-филологов. Если бы мне в руки попалась книга по моей научной специальности, написанная таким махровым дилетантом, каким я ощущаю себя в области поэзии и литературоведения, то я уже после прочтения нескольких первых страниц обругал бы автора последними словами, а сам опус безжалостно выбросил бы в корзину для мусора. Очень надеюсь, что и с моим произведением специалисты поступят так же. Ведь это книга не для них, а для самого наипростейшего читателя.
Теперь несколько слов о других отраслях знания, имеющих отношение к теме работы, т. е. о философии, социологии и психологии. Я никогда всерьез не обучался ни одной из этих наук. Мои познания в них довольно поверхностны и фрагментарны, причем, все они приобретены в период до начала работы над этой книгой. После я старался избегать чтения такого рода литературы. Знаю, что есть много ярких и интересных исследований по различным аспектам половой любви, в которых авторы профессионально и со знанием дела неопровержимо доказывают правильность своей точки зрения на предмет. Неискушенным читателям, к каковым я отношу и себя, очень сложно противостоять этому напору и сохранить самостоятельность мышления. Вот я и выбрал самое простое решение – по возможности «самоизолировался». Материал для этой книги – стихи, а инструмент для работы с ними – здравый смысл. Ощущая себя скромным и непритязательным дилетантом, я попытаюсь не досаждать уважаемому Читателю разного рода «отсебятиной», напротив, буду стремиться максимально полно, объективно и беспристрастно отразить лишь все то, что есть в подвергаемом анализу материале.
Не исключено, что, идеальным вариантом книги такого рода было бы полное отсутствие авторского текста. Это, к сожалению, невозможно из-за неизбежной фрагментарности материала и необходимости «раствора», связывающего отдельные «кирпичики» в некое сооружение. Как Вы уже заметили, каждый из этих «кирпичиков» включает имя автора и собственно стихотворный фрагмент. Кроме того, приведены дата создания произведения и годы жизни автора, если они известны мне. Для не русскоязычных авторов указана также страна и имя переводчика. В книге стихотворный фрагмент обычно располагается после относящегося к нему текста. Однако это не означает, что стихи всего лишь «иллюстрируют» текст. Нет, вся конструкция построена именно из стихов. «Технология» такова. Я беру «кирпичик» (стихотворный фрагмент) и начинаю соображать, куда бы его пристроить. Обнаружив подходящее место, я прикрепляю его туда при помощи «раствора» (текста). Исключения редки и хорошо заметны невооруженным глазом. Здесь можно было бы поставить точку, закончив тем самым затянувшееся введение, и перейти, наконец, к основной части. Пусть так и сделают самые нетерпеливые читатели. А я все-таки продолжу – для остальных:
М.Ю. Лермонтов (1814–1841)
Будь терпелив, читатель милый мой!
Кто б ни был ты – внук Евы иль Адама,
Разумник ли, шалун ли молодой, —
Картина будет; это – только рама!
А.А.Блок 1911 (1880–1921)
Тебе, читатель, надоело,
Что я тяну вступленья нить,
Но знай – иду я смело к цели,
Чтоб истину установить.
Краткость, как известно из классики, сестра таланта. Ну а мне, бесталанному, не до краткости, быть бы понятым:
Е.А.Евтушенко 1986 (1933–2017)
Завидую мощи пространства,
спрессованной словом в пласты,
но краткость – сестра бесталанства,
когда она от пустоты.
А посему придется вам, дорогой Читатель, ознакомиться вкратце с тем, как и для чего создавалась эта книга.
Принципы отбора и использования стихов
Во избежание недомолвок, скажу сразу, что в дальнейшем мы будем говорить, главным образом, именно о стихах, но не о поэзии. Разницу между двумя этими понятиями, полагаю, знают все. «Поэзия темна, в словах невыразима», – сказал И.А.Бунин. Она разлита в мироздании. Она везде и всюду, ее нет разве что в стихах совсем плохого поэта. Она по определению не может быть плохой и хорошей. А вот поэты и их стихи – могут. Собственно говоря, наличие и уровень поэзии – это главный критерий для определения качества стихов. Распознать и оценить поэзию может только тот, кто сам хотя бы чуть-чуть поэт, иными словами, тот, кто созрел, но сохранил в себе при этом свежесть и непосредственность ребенка:
Н.В.Крандиевская 1959 (1888–1963)
Словами властвую. Хочу —
В полет их к солнцу посылаю.
Хочу – верну с пути, и знаю,
Что с ними все мне по плечу.
Туда забрасываю сети,
Где заводи волшебных рыб,
Где оценить улов могли б
Одни поэты лишь да дети.
Ваш покорный слуга, увы, лишен всего этого. Поэтому мне остается оперировать не поэзией, но стихами. Из них я стремился включать в книгу только те фрагменты, в которых форма и содержание находятся хотя бы в относительной гармонии:
Саша Черный 1909 (1880–1932)
Один кричит: «Что форма? Пустяки!
Когда в хрусталь налить навозной жижи —
Не станет ли хрусталь безмерно ниже?»
Другие возражают: «Дураки!
И лучшего вина в ночном сосуде
Не станут пить порядочные люди».
Им спора не решить… А жаль!
Ведь можно наливать… вино в хрусталь.
Что понимает под стихами обычный читатель? Безусловно, это нечто со смыслом, рифмой и ритмом. Так поступал и я. Прочитав это, многие ценители поэзии поморщатся. Ведь им известно, что большая часть вершин в поэзии, например, двадцатого века – это верлибр с более или менее выраженными элементами зауми. К последнему можно относиться по-разному. Непонятные массовому читателю авторы были всегда:
П.А.Вяземский 1810 (1792–1878)
Нет спора, что поэт богов языком пел:
Из смертных бо никто его не разумел.
Конечно, проще всего объявить непонятое изначально лишенным смысла. Это вполне естественно для человека, ибо как же ему жить на свете, если он, как лисица у Эзопа, не умеет сказать себе, что виноград зелен, когда не может его достать. Я далек от такой крайней точки зрения. Любой вид творческой деятельности, любая область знания, любая форма отражения окружающего мира непрерывно усложняются, углубляются, совершенствуются. Поэтому их высшие, а в последнее время – и средние этажи, стали близки и понятны только знатокам, экспертам, специалистам. Когда речь идет про науку, то это ясно всем. Возьмем физику. Мало кто свободно и с удовольствием ориентируется, например, в квантовой механике. Зато все знают закон Архимеда, а те, кто не знает, все равно регулярно и с успехом используют его, когда варят картошку. В искусстве и литературе происходит примерно то же самое. Те творцы, которые познают и выражают нечто доселе непознанное и невыраженное, вдобавок пользуются при этом относительно новыми методами, в принципе не могут быть поняты и приняты современным им массовым читателем. Ведь давно известно, что читатели «Гамлета» родились примерно через два века после смерти его автора. Если упростить ситуацию до предела и взять в качестве примера русскую поэзию, то окажется, что вершины ее золотого века – это как бы школьная программа, серебряного – вузовская, а бронзового (если таковой все-таки был) – удел знатоков и ценителей. Расхождение между оценкой поэтов специалистами и простыми читателями существовало на протяжении всей истории литературы. Поэты были вынуждены лавировать, смотреть то на одних, то на других. В современном мире взгляды на поэзию литературных критиков и простого народа разошлись почти до диаметрально противоположных. Бедным поэтам не позавидуешь: угодить той и другой стороне стало в принципе невозможно. Поэты, которые поворачиваются лицом к читателю, демонстрируют специалистам ту часть своего тела, лицезрение которой не доставляет последним никакого удовольствия:
И.Л.Сельвинский 1932 (1899–1968)
Как часто бездушные критикококки
Душат стих, как чума котят,
И под завесой густой дымагогии
В глобус Землю втиснуть хотят;
Сколько раз, отброшен на мель,
Рычишь: «Надоело! К черту! Согнули!»
И, как малиновую карамель,
Со смаком глотнул бы кислую пулю…
И вдруг получишь огрызок листка
Откуда-нибудь из-за бухты Посьета:
Это великий читатель стиха
Почувствовал боль своего поэта.
И снова, зажавши хохот в зубах,
Живешь, как будто полмира выиграл!
И снова идешь
среди воя собак
Своей. Привычной. Поступью. Тигра.
Разумеется, из поэтов прошлого (20-го) века в настоящей книге преобладают именно такие. Признаюсь, что я сам всегда снизу вверх глядел на тех, кто понимает, любит и ценит современные «туманные» стихи. Однажды я с удивлением обнаружил, что почти так же ведут себя и некоторые «понятные» поэты по отношению к своим «непонятным» коллегам:
Е.А.Евтушенко 1985 (1933–2017)
Я так завидовал всегда
всем тем,
что пишут непонятно,
и чьи стихи,
как полупятна
из полудыма-полульда.
Я формалистов обожал,
глаза восторженно таращил,
а сам трусливо избежал
абракадабр
и тарабарщин.
Я лез из кожи вон
в борьбе
со здравым смыслом, как воитель,
но сумашедшинки в себе
я с тайным ужасом не видел. /…/
О, непонятные поэты!
Единственнейшие предметы
белейшей зависти моей…
Я —
из понятнейших червей.
Ничья узда вам не страшна,
вас в мысль никто не засупонил,
и чье-то:
«Ничего не понял…» —