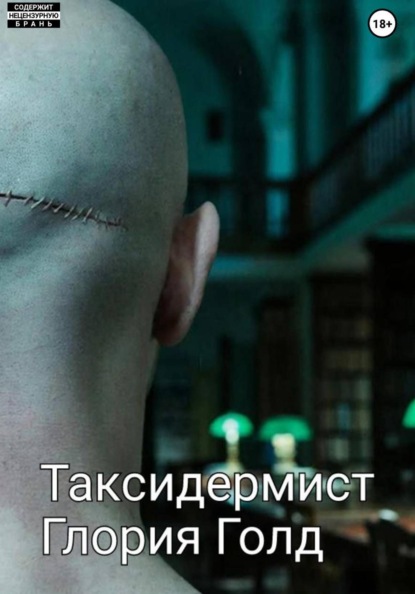
Полная версия:
Таксидермист

Глория Голд
Таксидермист
Глава 1. Кабинет отца
Москва встречала ноябрь хмурым, беспросветным небом, которое казалось низким потолком гигантского склепа. В такие дни даже шумный Арбат глушил голоса, а свет из витрин выглядел грязно-желтым, неспособным прогнать сырость, пробиравшуюся к костям. Но для десятилетнего Антона Воронцова этот мир за окном не существовал. Его вселенная была здесь, в большой трехкомнатной квартире в одном из тихих арбатских переулков, в комнате, которая когда-то называлась кабинетом.
Его отец, Сергей Петрович Воронцов, был энтомологом, сотрудником Дарвиновского музея. После смерти жены – трагической, нелепой, от стремительного менингита, о которой не говорили никогда, – он замкнулся в науке, как в броне, а свой профессиональный мир перенес домой. Кабинет стал святилищем тишины и порядка.
Антон стоял на пороге, как делал это каждый день после школы, затаив дыхание. Воздух был густым и специфическим: сладковатый запах нафталина, резковатый – формалина, пыльная затхлость старой бумаги и вечный, едва уловимый запах железа. Полумрак. Шторы, тяжелые, бархатные, цвета запекшейся крови, были всегда задернуты, защищая сокровища от выцветания. Свет исходил только от массивной лампы с зеленым стеклянным абажуром на отцовском письменном столе, да от стеклянных витрин, вдоль стен.
Витрины – вот что было главным. В них обитала смерть, превращенная в вечность.
Под стеклом, на аккуратных подложках из бархата, лежали, летели, замерли в вечном порыве сотни насекомых. Тонкие булавки, воткнутые в грудки, крепили их к поверхности, не оставляя сомнений в окончательности этого положения. Бабочки с крыльями, будто сотканными из закатного неба и расплавленного золота – махаоны, павлиноглазки, аполлоны. Рядом – тяжелые, матово-блестящие жуки-олени, казавшиеся крошечными рыцарями в рогатых шлемах. Богомолы, застывшие в молитвенной позе. Стрекозы, чьи ажурные крылья казались витражами миниатюрного собора.
Отец работал, склонившись над столом. В луче света его длинные, тонкие пальцы, всегда холодные на ощупь, двигались с хирургической точностью. Он расправлял крыло только что умершей бабочки, пойманной прошлым летом и дожидавшейся своего часа в энтомологическом конверте. Движения были нежными, почти любовными. Он не убивал их сам, нет. Он находил. Находил уже готовые, совершенные формы, остановленные временем, и возвращал им былую красоту, фиксируя ее навсегда.
– Подойди, Антон, – голос отца был сухим, тихим, как шелест крыльев за стеклом. – Смотри.
Антон подошел, не смея дышать. Он смотрел, как от прикосновения тех ледяных пальцев, смятое, бесформенное крылышко расправляется, обретает четкость, становится идеальным.
– Видишь? – прошептал отец. – Они уходят. Жизнь уходит. Она эфемерна, мимолетна, несовершенна. Взгляд, жест, мысль – все рассыпается в прах. А вот форма… Форма остается. Ее можно поймать. Сохранить. Дать ей вторую, настоящую жизнь. Жизнь вне времени. Тишину можно оформить, Антон. Беспорядок смерти – превратить в порядок искусства.
Мальчик не до конца понимал слова, но он впитывал атмосферу. Этот кабинет был царством спокойствия. За его дверью оставался шумный, непредсказуемый, болезненный мир: насмешки одноклассников из-за его тихости, немые укоры в глазах бабушки, приезжавшей готовить, пустота в маминой комнате, которую никто не занимал и не прибирал. А здесь был совершенный, кристальный покой. Здесь смерть не была страшной. Она была красивой. Понятной. Подконтрольной.
Его первым самостоятельным «экспонатом» стала мёртвая муха на подоконнике в кухне. Бабушка уже замахнулась тряпкой, чтобы смести серый комочек, но Антон вскрикнул – резко, неожиданно для себя.
– Нет!
Он аккуратно подцепил ее на листок бумаги, унес в комнату и несколько часов рассматривал в лупу, выпрошенную у отца. Он видел не грязь и не переносчик болезней. Он видел фасеточные глаза, сложенные, как мозаика. Хрупкие, прозрачные крылья с прожилками. Тончайшие лапки. Это был сложнейший механизм, микроскопический аппарат, теперь остановившийся. Его красота была видна только при полной остановке. В движении она была лишь назойливым жужжанием.
Он нашел спичечный коробок, выстлал его ватой, положил туда муху. Его «коллекция» началась. Скоро в коробке оказался жук-солдатик с ярко-красными надкрыльями, отливающими металлом, паук с непропорционально длинными ногами, несколько бабочек-капустниц, уже потрепанных жизнью, но обретших совершенство в его коробочном саркофаге.
Он не просто собирал. Он готовил. Вычищал пыль мягкой кисточкой, аккуратно расправлял лапки и усики булавками, которые стащил из отцовского запаса. Он учился тишине и тщательности. Учился препарировать реальность, оставляя только самую суть – форму.
Переход к позвоночным был неизбежен и случился весной, в парке усадьбы Царицыно. Антон брел по еще сырым дорожкам, подальше от кричащих детей и шумных компаний, и нашел ее под кустом сирени. Молодую сойку. Она была еще теплой. Перья на шее взъерошены, одна лапка неестественно вывернута, из темного клювика сочилась крошечная капля крови, похожая на рубин. Но само оперение было дивной красоты: серо-голубое с переливом, с яркими синими «зеркальцами» на крыльях, будто осколками неба.
Жалко? Да, было щемящее чувство в груди. Но сильнее было другое – восхищение перед этой замерзшей красотой и жгучее, всепоглощающее желание спасти ее. Не оживить. Спасти от тления, от червей, от превращения в гниющую плоть и кучку перьев. Сделать так, чтобы она всегда была такой – идеальной.
Дрожащими руками он завернул птицу в носовой платок и понес домой, прижимая к груди под курткой. Вечером, когда отец засиделся в музее, а бабушка смотрела сериал, Антон заперся в ванной. Он достал книгу отца по основам таксидермии для начинающих, которую тайком изучал последние месяцы. Сердце колотилось так, будто хотело вырваться и улететь, как эта сойка.
Он положил птицу на газеты. Взял скальпель (новый, блестящий, тоже «одолженный» из отцовских инструментов). Сделал аккуратный разрез от грудины к хвосту, как было указано в схеме. Запах был новым, странным, теплым и солоноватым. Он морщился, но руки не дрожали. Пальцы, такие же длинные и тонкие, как у отца, работали методично, отключая мысль о том, что это «живое». Это была уже не жизнь. Это был материал. Нужно было осторожно отделить кожу с перьями от тушки, сохранив целостность. Выскоблить жир и остатки мышц. Пропитать кожу соляным раствором для консервации.
Это заняло несколько дней. Он прятал «проект» на антресолях в своей комнате. Потом, используя проволоку, вату и деревянную болванку для клюва, которую выстругал сам, начал создавать каркас. Воссоздавать позу. Он хотел, чтобы она сидела, слегка наклонив голову, будто прислушиваясь. Глаза заменил на стеклянные бусины, подобранные в шкатулке матери, – они были цвета темного меда.
И вот настал день, когда он поставил готовое чучело на полку в своем шкафу. Оно сидело там, среди книг и старых игрушек, будто всегда там жило. Перья были чуть тусклее, чем у живых птиц, поза – чуть деревяннее. Но это была она. Спасенная. Очищенная от уродства смерти и тления. Превращенная в чистый, несокрушимый образ.
Антон выключил свет в комнате и сел напротив шкафа, в темноте. Из-за шторы пробивался отблеск фонаря с переулка, и он падал на стеклянный глаз сойки, зажигая в нем крошечную, холодную точку света. Мальчик смотрел в этот немигающий глаз и чувствовал небывалый покой. Восторг творца. Власть.
За дверью послышались шаги отца. Антон быстро прикрыл дверцу шкафа. Но в голове уже звучали слова, которые он когда-нибудь, много лет спустя, скажет своему первому, по-настоящему важному «экспонату»:
«Не бойся. Я освобожу тебя от суеты. От боли. От времени. Я сделаю тебя совершенным. Я подарю тебе вечность в правильной позе».
Он еще не знал, что насекомые и птицы – лишь проба пера. Эскизы. Что его истинный материал, мятежный, сложный и полный скрытой поэзии, ходит за стенами этой квартиры. По шумным улицам, по блестящим торговым центрам, по тихим читальным залам. Живой, шумный, несовершенный мир Москвы ждал своего художника. Художника, который мечтал превратить его в вечную, безупречную и безмолвную галерею.
А за окном, в ноябрьской тьме арбатского переулка, ветер шелестел мертвой листвой, словно перелистывая страницы будущего каталога его работ.
Глава 2. Уроки анатомии
Прошло три года. Лето, которое должно было пахнуть тополиным пухом, нагретым асфальтом и речной водой, для Антона Воронцова пахло скипидаром, костным клеем и пылью старого дерева. Кабинет отца оставался его храмом, но его алтарь сместился. Теперь его манила не столько витринная, булавочная эстетика энтомологии, сколько объем, вес, анатомия. Он перечитывал не только отцовские книги по таксидермии, но и старые медицинские атласы, найденные на антресолях, с пожелтевшими страницами и гравюрами, где мускулатура и внутренности были изображены с бесстрастной, почти геральдической точностью.
Он уже не крал инструменты, а имел свой набор, подаренный отцом на тринадцатилетие: скальпели, ножницы, щипцы, иглы для сшивания, глаза-бусины разного калибра. Подарок был вручен без улыбки, с деловым кивком: «Пользуйся аккуратно. Инструмент любит порядок». Это было высшее признание. Бабушка же смотрела на это со смесью страха и отвращения, крестилась украдкой и шептала: «Не к добру это. Мальчишке бы в футбол гонять, а он с мертвечиной возится».
Но Антон не возился. Он творил. Его комната превратилась в филиал мастерской. На полках рядом с учебниками по математике стояли его работы: сойка, которой он дал имя «Цаца»; два полевых воробья, застывшие в вечном споре из-за крошки; еж, найденный на трассе под Звенигородом и тщательно реконструированный (иглы были его первой серьезной победой над сложным материалом). Он научился не только снимать кожу, но и варить черепа для скелетирования, вываривать жир, делать проволочные каркасы, повторяющие изгибы мышц.
Именно летом случился «кролик».
Отец принес его с работы, с биологического склада музея. Обычный лабораторный кролик, белый, альбинос, с розовыми глазами. Умер своей смертью, был заморожен, теперь требовал утилизации. Сергей Петрович положил тушку на кухонный стол, застеленный клеенкой.
– Вот, – сказал он коротко. – Твоя дипломная работа. Позвоночное. Млекопитающее. Анатомия близка к базовой. Сделаешь все сам: от первого разреза до монтажа на подставку. Я буду консультировать, но руки прикладывать не стану. Справишься?
Антон кивнул, не в силах вымолвить и слово. Восторг был таким острым, что походил на страх. Это был вызов. Переход в новую лигу.
Работа заняла почти месяц. Первые дни были посвящены изучению: он часами просиживал над анатомическими схемами грызунов, трогал тушку, еще холодную, оттаявшую, мысленно прокладывая маршруты разрезов. Первый надрез – от грудины до паха – дался тяжело. Кожа млекопитающего была иной, более толстой, связанной с мускулатурой. Под ней открылся мир, который завораживал своей сложной, влажной красотой. Органы, еще не успевшие потерять форму, переливались перламутром и багрянцем. Здесь была тайна. Тайна устройства. Он не испытывал брезгливости, только жадный, познавательный интерес. Он аккуратно извлек внутренности, складывая их в стеклянную банку с формалином (позже она займет почетное место на его полке – как памятник первой серьезной анатомической победе).
Дальше была кропотливая, почти медитативная работа: отделение кожи, обезжиривание, консервация. Изготовление манекена. Отец запретил использовать простой ватно-проволочный каркас. «Это для птичек, – сказал он. – Для млекопитающего нужна форма. Нужно повторить рельеф».
Антон освоил метод накрутки: на проволочный остов, повторяющий скелет, он слоями накручивал паклю, нитками формируя мускульные бугры, впадины, изгибы. Это было уже не ремесло, а скульптура. Он лепил тело заново, по памяти и по схемам, стремясь к абсолютной достоверности.
Самым сложным оказалась голова. Сохранить тонкую кожу на мордочке, не порвать уши, правильно зафиксировать веки и губы. Глаза он заказал у таксидермического снабженца, с которым отец имел дело, – идеальные стеклянные шарики, имитирующие розовато-молочную радужку альбиноса. Когда он вставил их в подготовленные орбиты и натянул сверху кожу, произошло чудо. Кролик обрел взгляд. Пустой, неподвижный, но взгляд. В нем было нечто большее, чем при жизни. При жизни это был просто испуганный, туповатый зверек. Теперь в его застывших глазах читалась некая премудрость, холодная и отстраненная.
Финальный этап – натяжка, сшивание, сушка, доводка. И вот он сидел на деревянной подставке, которую Антон покрыл темным лаком и присыпал искусственной травкой. Белый, чистый, с идеально ровным швом, почти невидимым под восстановленной шерстью. Поза была выбрана классическая: сидящий, с подобранными лапами, голова слегка повернута, будто кролик замер, прислушиваясь к далекому, нездешнему звуку.
Он поставил работу на стол в кабинете, где отец проверял этикетки для новой экспозиции. Сергей Петрович оторвался от бумаг, снял очки, подошел. Молчал долго, минут пять, кружа вокруг стола, наклоняясь, всматриваясь. Потом взял в руки, ощупал шов на брюхе, проверил крепление лап, заглянул в стеклянные глаза.
– Хорошо, – наконец изрек он. – Шов можно было мельче, левая задняя лапа чуть вывернута. Но для первого млекопитающего… Хорошо. Ты понял главное. Форма – это все. Души здесь нет. Не пытайся ее искать или вкладывать. Твоя задача – безупречная имитация утраченной жизни. Имитация настолько точная, что заставляет забыть о потере. Это и есть искусство.
Антон кивал, сгорая от гордости. Он был на седьмом небе. Но в глубине души с отцом он был не согласен. Не до конца. Не «имитация» жизни. Не «утрата». Это было преодоление жизни. Жизнь была хаотичной, небрежной, недолговечной. А эта фигура – идеальна, вечна, продумана до мелочей. Он не копировал жизнь. Он создавал нечто лучшее.
В тот вечер бабушка, заглянув в кабинет за пустой вазой, увидела кролика. Она ахнула, отшатнулась и перекрестилась.
– Господи, да он как живой! – выдохнула она. – Жутко как. Антош, ну как тебе не страшно? Он же… он мертвый.
– Он не мертвый, баба Нина, – тихо, но очень четко поправил Антон, не отрывая взгляда от своего творения. – Он вне категорий. Он совершенен.
Бабушка ушла, бормоча что-то под нос. Антон остался в кабинете один. Он выключил верхний свет, оставив только настольную лампу с зеленым абажуром. Свет падал на белоснежного кролика, отбрасывая длинную, искаженную тень на стену с коллекциями насекомых. В этой полутьме кролик казался не просто чучелом. Он казался хранителем. Хранителем этой комнаты, этого знания, этой особой, ледяной тишины. Его розовые стеклянные глаза видели то, что недоступно живым: красоту остановленного времени.
Этот успех, эта отцовская похвала (пусть и сухая) стали пиком. За ним последовало обрушение.
Все случилось осенью. Сергей Петрович работал над срочным заказом для музея – восстанавливал редкого тюленя. Что-то пошло не так. То ли в уже готовой тушке остался очаг гниения, то ли был использован некачественный реактив. Развилась стремительная инфекция. Редкая, коварная. Его госпитализировали с сепсисом.
Антона к нему не пускали. Он остался один в большой квартире с бабушкой, которая теперь только плакала и молилась, и с десятками пар стеклянных глаз, смотревших на него с полок. Он приходил из школы, садился в кабинете и ждал. Ждал шагов, скрипа стула, сухого кашля отца. Но слышал только тиканье старых часов и бормотание бабушки перед иконами.
Через две недели отца не стало. Смерть, которую Антон так старался изучать, обессмертить, превратить в экспонат, пришла не как прекрасная бабочка или изящная птица. Она пришла как тупая, серая, биологическая машина. Без формы. Без смысла. Она не оставила после себя ничего, что можно было бы препарировать, очистить и поставить под стекло. Только пустоту и холодный пепел в урне.
На поминки пришли коллеги из музея, тихие, странные люди, пахнущие так же, как и кабинет. Они говорили «талантливый был ученый», «цельная натура», «преданный делу». Антон сидел в углу, сжимая в кармане кусочек пакли, оставшейся от кролика, и думал, что они ничего не понимают. Отец был не ученым. Он был жрецом. Хранителем форм. И теперь хранить это наследие предстояло ему.
После похорон бабушка, сраженная горем, собралась уезжать к дочери в Тулу. Квартиру решено было продавать. «Здесь все пропитано смертью, я не могу», – рыдала она.
– А коллекция? – спросил Антон ледяным тоном, который удивил его самого.
– Коллекцию… отец завещал музею. Придут, упакуют. Твои… твои зверушки, Антош, прости, их придется выбросить. В новую квартиру такое не возьмешь.
Он не стал спорить. Он просто кивнул.
В последнюю ночь перед отъездом бабушки и приездом музейных грузчиков Антон не спал. Он вошел в кабинет. Витрины уже стояли пустые, ящики выдвинуты, насекомые аккуратно упакованы в специальные коробки с гнездами. Остался только дух – запах нафталина, формалина, пыли и вечности.
Он подошел к своему столу, где под колпаком из прозрачного пластика сидел его белый кролик. Он снял колпак, взял чучело в руки. Оно было прохладным, твердым, незыблемым. Совершенным. В отличие от всего в этом мире: от бабушкиных слез, от нелепой смерти отца, от собственной пугающей неизвестности.
Он поставил кролика обратно и открыл нижний ящик стола. Там, в стальной коробке из-под печенья, лежало его самое сокровенное: не коллекция, а архив. Фотографии его работ, сделанные отцовским «Зенитом». Зарисовки анатомических схем. И несколько стеклянных баночек с формалином. В одной плавал крошечный эмбрион кошки, найденный на улице, – невероятно сложный, как инопланетный цветок. В другой – парадоксальный, жутковатый экспонат: крысиный череп, на котором, как корона, красовался идеально сохраненный, разноцветный хитиновый покров жука-бронзовки. Этот гибрид, это соединение двух царств (позвоночного и насекомого) было его первой, неосознанной попыткой создать не просто чучело, а композицию. Высказывание.
Он достал блокнот с твердой черной обложкой. На первой странице, каллиграфическим, почти машинным почерком, он вывел: «Каталог. Наследие Тишины». Перелистнул. Там уже были записи: «Экспонат №1: Муха комнатная. Найдена 12.11.89. Состояние: хорошее. Поза: стандартная.» И так далее, вплоть до кролика. Но после кролика страницы были пусты.
Он взял ручку и на свежей странице написал, медленно, вдавливая стержень в бумагу:
«Экспонат №0: Человек разумный (самец). Сергей Петрович Воронцов. 1948-1992. Состояние: утрачен. Не подлежит сохранению. Ошибка системы.»
Он посмотрел на эту запись, потом поднял глаза на пустые витрины. Стекло отражало его собственное лицо – бледное, с темными глазами, слишком серьезное для шестнадцати лет. И в этом отражении, на фоне пустых полок, ему вдруг явилось видение. Не насекомые. Не звери. Фигуры. Человеческие фигуры. Застывшие в осмысленных, грациозных, вечных позах. Сидящие в креслах парка, стоящие у витрин магазинов, лежащие на ступенях библиотек. Невообразимо сложные, полные скрытых смыслов, очищенные от суеты и тления. Совершенные скульптуры, одетые в плоть и ткань.
Их нельзя было создать здесь, в этой квартире. Для них нужен был иной масштаб. Другой фон. Весь город мог стать витриной. Всё человечество – материалом.
Рука сама потянулась к ручке. Он перелистнул еще несколько страниц и написал заголовок, который ждал своего часа:
«Проект «Городская флора и фауна». Концепция: интеграция совершенных форм в среду их первоначального обитания. Цель: преодоление забвения. Доказательство победы формы над хаосом.»
Внизу он начал делать пометки, сначала робкие, потом все увереннее:
– Патриаршие пруды. Статичная композиция. Диалог. Двое.
– Читальный зал. Позерство. Сосредоточенность. Многократное повторение.
– ВДНХ. Павильоны как готовые выставочные залы. Тема: «Рай». Или «Музей антропологии».
– Торговые галереи (ГУМ). Витрины. Ирония. Потребитель как экспонат.
Он писал, увлеченный, почти в экстазе. Горе, одиночество, страх – все отступило, растворилось в холодном пламени творческого замысла. Он нашел свою великую цель. Миссию.
На улице за окном зашумела метла дворника, сгребающего первые опавшие листья. Звук был похож на шелест огромной кисти, подметающей мир, готовя чистый холст. Антон закрыл блокнот, спрятал его во внутренний карман куртки вместе со стальной коробкой. Взял со стола белого кролика. Остальное – мебель, книги, пустые витрины – не имело значения. Наследство было у него в руках и в голове.
Он вышел из кабинета, в последний раз притворив дверь. Бабушка уже спала. На кухне горел свет. Антон прошел в свою комнату, поставил кролика в рюкзак. Подошел к окну. Напротив, в темном окне заброшенного мастерской, тускло отражались огни ночной Москвы – рыжие, размытые, как подтеки на старой картине.
Он прикоснулся лбом к холодному стеклу.
– Я исправлю это, – прошептал он в отражение своего лица, сливавшегося с ночным городом. – Я приведу всё в порядок. Я создам из вас музей. Настоящий. Вечный.
И город, казалось, замер в ожидании, отражаясь в его темных, неподвижных, словно стеклянных глазах.
Глава 3. Павильон №13 «Здоровье»
Смерть отца и продажа квартиры стали не концом, а началом. Бабушка, сломленная двойной потерей (дочери и зятя), определила Антона в интернат, сама уехав в Тулу. Мир, который он знал – мир запертых комнат, тишины и ясных, препарированных форм – рухнул, сменившись хаосом: вонью дешевой туалетной бумаги и вареной колбасы, грохотом магнитофонов, грубыми словесными перебранками, тупой агрессией и столь же тупой дружбой. Антон стал призраком в этих стенах. Его тихонько травили за нелюдимость, за странный, не от мира сего взгляд, но доводить до серьезных разборок не решались. В его молчании, в этой ледяной, изучающей отстраненности было что-то, что охлаждало пыл даже самых отъявленных гопников. Они чувствовали, что он смотрит на них не как на врагов или однокурсников, а как энтомолог на редких, шумных, но абсолютно примитивных насекомых.
Все свое время и мизерную стипендию он тратил на одно: таксидермию. Он разыскал снабженца отца, угрюмого старика по имени Лев Борисович, державшего лавочку в подвале на окраине Москвы, рядом с птичьим рынком. Лавка пахла кожей и табаком. Лев Борисович, бывший музейный таксидермист, спившийся после какого-то служебного прокола, с первого взгляда распознал в Антоне «своего». Он стал его неофициальным учителем, ментором и поставщиком.
– Отца твоего уважал, – хрипел Лев Борисович, вручая Антону пачку стеклянных глаз разного калибра. – Руки у него были золотые. И голова. А у тебя… у тебя взгляд. Художника. Безумного. Это ценно.
Он научил Антона премудростям, которые не описаны в книгах: как вываривать череп, чтобы он стал белее слоновой кости; как имитировать влажность носа и губ с помощью специального лака; как вправлять глаза, чтобы в них не было пустоты, а была глубина. И главное – он дал Антону ключ от заброшенного подсобного помещения в полуразрушенном павильоне №13 «Здоровье» на задворках ВДНХ. Павильон давно не работал, его должны были снести, но руки не доходили. В бывшей котельной, среди ржавых труб и разобранного оборудования, Антон обустроил свою первую настоящую мастерскую. Свой храм.
Здесь, при свете керосиновой лампы (электричество отключили), под аккомпанемент капающей воды и шорохов крыс, он творил. Сначала – на заказ. Лев Борисович сводил его с чудаковатыми коллекционерами, желавшими увековечить своего умершего кота, или с ресторанами в «русском» стиле, которым требовались кабаны и медведи для интерьера. Деньги были небольшие, но их хватало на материалы, еду и на то, чтобы откупиться от воспитателей в интернате.
Но истинным горением были его личные проекты. Он уже не просто делал чучела. Он создавал сцены. Диорамы. Маленькие драмы в ящиках под стеклом. «Сорока» – где птица, уцепившись лапкой за старую корягу, косилась на брошенную на «землю» из окрашенной глины серебряную ложку. «Кот и воробей» – застывший навсегда момент перед прыжком, напряжение мышц хищника и полная, трагическая неосознанность жертвы. Он научился работать не только с кожей и мехом, но и с тканью, миниатюрной мебелью, создавая иллюзию крошечного, законсервированного мира.
Он стал регулярно посещать Дарвиновский и Зоологический музеи, но не как посетитель, а как исследователь. Он изучал не животных, а позы. Как музейные таксидермисты расставляли экспонаты, чтобы рассказать историю? Как группа волков, застывшая в рывке, создает динамику? Как одинокий олень, замерший на фоне нарисованного леса, рождает чувство тоски? Он видел в этом высшее искусство – искусство рассказывать о жизни через ее остановленную, идеализированную форму.

