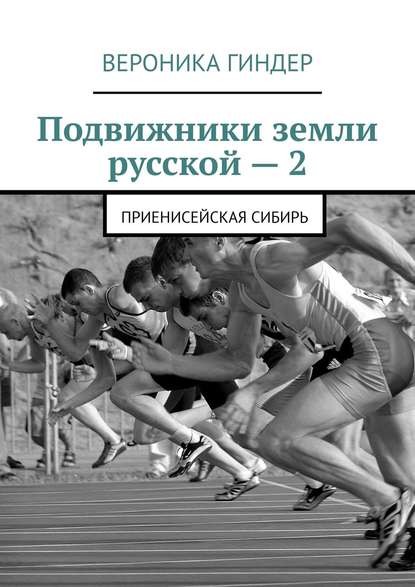
Полная версия:
Подвижники земли русской – 2. Приенисейская Сибирь
«Многие традиции, исчезнувшие к XIX в. в Европейской России, здесь не только «законсервировались», но возродились. […] Обусловлено это было свободным трудом сибиряка на своей земле, где центром мира была личность собственника, живущего по нормам обычного права «общества». Многие ценностные компоненты сибирской народной культуры, имевшие в России отрицательную оценку, здесь стали положительными. Так произошло с социальным идеалом неприятия богатства крестьянами Европейской России. […] Высшей оценкой человека была – «зарывной, усердный робить». Это означало одновременно – высоконравственный, порядочный, честный человек. Оценка трудолюбия подкреплялось оценкой состояния подворья, дома, пашни, запасливости и бережливости. Мотовство и расточительность осуждалось. Детям постоянно внушали: «Пить до дна, – не видать добра», «Не вздумай вино пить и табачище курить».
Бесчестьем считалось покушение на чужую собственность: «Вор ворует не для прибыли, а для своей погибели», говорили в Сибири. Честность и уважение к собственности – вот черты, присущие, по мнению старожила, сибиряку. А вот к переселенцам, ссыльным относились с недоверием, говорили при этом: «Поселенец, что младенец – на что взглянет, то и стянет». […] Если в трудовых делах «благотворительность была не в чести», то в тех делах, что не считались работой, а относились к повседневным заботам, помощь больному, сироте, немощному, погорельцу или просто «суседу» – она была абсолютно бескорыстной» [Андюсев].
«Иннокентий Фигуровский Архимандрит настоящий подвижник, строгий настоятель, усердный труженик, не любитель женщин» [Дацышен, 2009, с. 24].
«Китайская паства, которая казалась духовно слабой ввиду языческих пережитков и элементов двоеверия, оставшись без руководства, проявила в этот момент чудеса стойкости и мученического исповедания христианской веры. Большая часть пекинской общины собралась в доме священника Митрофана Цзи (1855—1900) … 23 июня в дом Митрофана Цзи ворвались ихэтуани, они закололи священника мечами и с ним истребили еще около семидесяти человек. В последующие дни к ним прибавились десятки христиан. Большинство из них зарубали мечами или отрубали головы. От некоторых требовали кланяться идолам в кумирне Чэнэньсы, некоторых перед смертью предавали истязаниям» [Православие в Китае, с. 35—36].
«Многим насельникам Миссии, особливо семейным, не нравилась иногда скромная пища в Бей-гуане (бесплатная), рассчитанная на трапезу монахов-миссионеров, ехавших в Китай трудиться, а не отдыхать. Не нравились строгие монастырские порядки Миссии и суровые, непримиримые взгляды владыки Иннокентия, не признававшего „легких“ разводов, нарушающих таинство брака, не допускавшего светской „романтики“ за высокой монастырской стеной» [Дацышен, 2009, с. 35].
«11 (24) августа 1904. Среда
Получены 6—7 и 8 выпуски «Известий Братства Православной Церкви в Китае». Преосвященный Иннокентий действует отлично, все русские, служащие под его началом, одушевлены; жаль только, что литература в журнале очень плохая. Петербургское подворье Пекинской Миссии проповедует и служит на славу. И как все широко и разумно устроено! Сколько людей привлечено на служение миссийскому делу! Японская Миссия пред всем этим просто пигмей. А хорошо бы и нам завести подворье в Петербурге или Москве; только ни умения, ни людей на это» [Святитель Николай Японский].
«Революционное движение, низложившее обоготворяемую в Китае власть императора, поколебало все языческие устои. Оставляя отжившие традиции предков, китайский народ стал прислушиваться более внимательно к апостольской проповеди всех миссий. Новое правительство, насчитывая в рядах своих немало христиан, сочувственно относится к делу проповеди» [Цит. по: Православие в Китае, с. 20].
«Эмигранты основали два паевых товарищества: „Восточное Просвещение“ и „Восточное хозяйство“. Первое получило в свое пользование молочную ферму и участок усадебной земли, а второе – типографию со всеми подсобными учреждениями. Администрирование новых торговых товариществ некоторое время носило неопределенный характер. Вместе с тем Миссия стала походить на оживленный муравейник – насаждались новые деревья, старый сад приводился в порядок, множество китайских рабочих готовили земельные участки для разведения овощей». Через год убыточность и неэффективность предприятий стала очевидна: огородничество и шелководство оказались неконкурентоспособными в Китае, а содержание многочисленного штата служащих поглощало все доходы. Для ликвидации неудачных предприятий миссии пришлось уплатить 30 000 американских долларов. Но этим дело не закончилось: монастырское имущество в Пекине было захвачено самими же русскими эмигрантами и расхищалось преемниками упомянутых выше «товариществ». Владыка Иннокентий вынужден был вести множество тяжб со своими соотечественниками по вопросам о собственности миссии. Окончательно финансовые дела миссии были улажены уже его преемником, епископом Симоном (Виноградовым) (1876—1933) [Поздняев Дионисий].
«…Прихожанами в основном оказались русские эмигранты. Часто они и не помышляли о том, что их долг апостольского служения, если бы был исполнен, явился бы камнем, на котором утвердилось бы Православие в Китае. В основном эмиграция жила ностальгическими воспоминаниями о Родине и не старалась найти путь в духовном смысле к сердцам гостеприимно приютивших их китайцев. В этом плане русская эмиграция оказалась несостоятельной – полмиллиона человек, которых Господь на три десятилетия извел из России в Китай, не смогли широко познакомить Китай с Православием. Часто и священники не интересовались китайским народом, считая, что их паства – российские эмигранты. Пожалуй, миссионерскую роль играла благотворительность – в помощи не отказывали всем приходящим, независимо от того, православными были страждущие или нет. И в этом было исполнение заповедей Христовых о милосердии, в благотворительности проявлялась вера в то, что в лице каждого страждущего перед нами – Сам Спаситель. Строительство храмов, почитание кладбищ также свидетельствовали о благочестии православных и вызывали уважение у китайцев… пожалуй, ни в одной другой стране мира не сохранились в такой полноте традиции, культура, старый уклад дореволюционной России и вера. Так, в Харбине, Циндао, Саньхэ и иных городах Китая Пасха, Рождество и другие церковные праздники были не только праздниками православных эмигрантов, но и праздниками всех местных жителей» [Там же].
«Аскет-теоретик, владыка Иннокентий был практиком в повседневной, творческой миссийской работе. Он создавал капитальный русско-китайский словарь, завершил перевод богослужебных книг на китайский язык и широко развил миссийское хозяйство в Бей-гуане… Царская Россия безвозвратно ушла с исторической сцены, угас Святейший Синод в Санкт-Петербурге, иссякла материальная поддержка, а Российская Духовная Миссия все еще держалась и держится – умом, волей и энергией Митрополита Иннокентия и всех ныне здравствующих членов Миссии… Чуждый всякого китайского компромисса, неподкупный, стойкий и непреклонный владыка Иннокентий никому не льстил и сам не искал похвал. В старинном мандаринском Пекине, городе вкрадчивых, изысканно-льстивых и лукавых дипломатов… одинок был сибирский богатырь, ученый монах-аскет Митрополит Иннокентий, ныне отошедший в селения праведных» [Дацышен, 2016].
«В 1989 г., т. е. через тридцать пять лет после отъезда нашей семьи из Китая, в разгар перестройки я поехала в Пекин по своей востоковедной специальности. Территория советского посольства охватывала северный и центральный (=Архиерейский парк) районы старого Бэй-гуаня… В самом посольстве на месте разрушенной колокольни была построена беседка в европейском стиле. Св. Иннокентьевский храм… был осквернен – в нем устроили зал для посольских торжественных приемов. Храма Всех Святых Мучеников – этого белокаменного чуда – не существовало: на его месте была ровная площадка, заросшая молодыми деревьями. И никто из рядовых сотрудников посольства в 1989 г. не знал, что здесь было всего каких-то тридцать пять лет назад… На месте миссийского кладбища находился большой городской парк „Молодежное озеро“… В парке устроены площадки для различных игр, в том числе и в гольф… А центральную часть парка занимает большое искусственное озеро – не там ли находилась златоглавая церковь Серафима Саровского с колокольней?» [Кепинг, Храм…, с. 278—279].
Глава 3. Геннадий Фаст
…Сила слова не дается природою, но приобретается образованием… кто довел ее до высшего совершенства, и тогда он может потерять ее, если постоянным усердием и упражнением не будет развивать этой силы. Таким образом, образованнейшие должны более трудиться, нежели менее образованные; ибо нерадение тех и других сопровождается не одинаковым ущербом… Последних никто не будет укорять, если они не произносят ничего отличного; а первые, если не всегда будут предлагать беседы, превышающие то мнение, которое все имеют о них, то подвергаются от всех великим укоризнам. Притом последние и за малое могут получать великие похвалы; а первые, если слова их не будут сильно удивлять и поражать, не только не удостаиваются похвал, но и находят многих порицателей. Слушатели сидят и судят о проповеди не по ее содержанию, а по мнению о проповедующих… Ни о чем этом, как я сказал, не хотят подумать, но винят проповедника, судя о нем, как об ангеле… Видишь, почтенный, что сильному в слове нужно иметь особенно большую ревность, а вместе с ревностию и такое терпение, в каком нуждаются не все из вышеупомянутых мною.
Иоанн (Златоуст), «О священстве» (слово 5-е).
Содержание: Особенности биографии Геннадия Фаста. – Родословная. – Семья в сталинский период. – Хрущевское детство. – Наука или церковь? – Провинциальный служитель. – Вклад в просвещение и катехизацию. – Влияние на развитие приходской и общинной жизни. – Оценка служения. 20
Если Иннокентий (Фигуровский) пытался укрепить веру и мораль своих соотечественников и земляков в условиях постепенного укрепления коммунистов у власти, то Геннадий Фаст, о котором мы расскажем далее, пытался преодолеть последствия государственной коммунистической пропаганды на протяжении десятков лет. Особенности биографии Геннадия Фаста.
В биографиях двух вышеупомянутых подвижников – Иннокентия (Фигуровского) и Геннадия Фаста – имеются сходства. По рождению Геннадий Фаст сибиряк, так как родился в Новосибирской области. На момент появления на свет (22 декабря 1954 года) его отец тоже был немолод – ему было уже почти пятьдесят:
И хотя отец Геннадия Фаста священником никогда не был, но среди его родственников имелись протестантские священники: прапрадед Иоанн Вибе и прадед Дитрих Гамм. Да и сама мать была замечательной молитвенницей. Когда родился будущий проповедник, она молилась не о его здоровье, богатстве или счастье, а о том, чтобы он служил Богу. Она одна несколько лет заменяла маленькому Генриху и его среднему брату Виктору воскресную школу. Так же, как и Иннокентий (Фигуровский), о. Геннадий Фаст родился в сельской местности (с. Чумаково). И так же, как он, став священнослужителем, стремился к миссионерской деятельности среди других народов. В остальном наблюдается много различий.
Во-первых, он по национальности не русский, а «этнический меннонит» [Смирнова]. С родителями Геннадий Фаст всегда говорил только на немецком языке, и вся его духовная жизнь до 21 года проходила именно на нем. В паспорте он до сих пор записан как Генрих Генрихович Фаст.
В 1860 году среди российских меннонитов выделилось направление «братских меннонитов», крестивших в воде полным погружением (а не окроплением водой, как это было принято у меннонитов ранее) и настаивавших на обязательности эмоционального переживания обращения к Богу для членства [Дик]. Именно в этой традиции воспитывался будущий подвижник православного христианства. Его духовное возрождение свершилось 5 апреля 1966 года, в 11 лет. Меннонитское крещение было совершено над ним в 1971 году на восходе солнца, полным погружением в одной из рек Средней Азии. Тогда ему было 16 лет. 21
Во-вторых, Геннадий Фаст рос в социально неблагополучной среде:
Всего в семье немцев-меннонитов Генриха и Лены Фаст (родителей о. Геннадия) родилось четверо детей, но выжило только трое: сыновья Вильгельм, Виктор и Генрих, позднее принявший имя Геннадий. При этом старший сын стал верующим ученым в довольно зрелом возрасте, а двое младших занимались христианским служением с юности. Однако, чтобы осуществилось это предназначение, всем членам семьи пришлось пройти через испытания. 22 23
В-третьих, этот подвижник появился на свет уже неполноправным гражданином, так как был рожден в «вечной» ссылке. В 1938 году отец Геннадия Фаста был арестован и приговорен к 10-ти годам лагерей, который он провел в Соликамлаге. Через несколько лет, в 1941 году, репрессировали почти всех немцев СССР – уже по национальному признаку. Поэтому освобождение из лагеря после отбытия срока вовсе не означало свободы для семейства Фаст. Поскольку глава семьи тоже по национальности был немцем, то и он подлежал ссылке. Генриха Фаста отправили в ссылку в Новосибирскую область, в село Чумаково. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР №133/12 д. №111/45 от 26 ноября 1948 года все выселенные в годы Великой Отечественной войны были приговорены к ссылке навечно, с наказанием в виде 20-летней каторги за побег с мест обязательного поселения.
В 1964 году советское руководство признало ложность и несправедливость обвинений, выдвинутых против советских немцев в 1941 году. Однако постановление 1941 года не было отменено и немцы по-прежнему не могли вернутся в родные места, не могли восстановить свою республику. Вместо этого было решено «поручить Советам Министров союзных республик и впредь оказывать помощь и содействие немецкому населению, проживающему на территории республик, в хозяйственном и культурном строительстве с учетом его национальных особенностей и интересов» [Указ…].
В-четвертых, Геннадию Фасту, как и многим детям верующих родителей, пришлось делать трудный выбор: искать спасения у Бога, требующего повседневной «доброй совести» и готовности к поношению, или поверить в доброту и правоту безбожной власти, манящей отступников сиюминутными благами. Он остался верен тому выбору, который сделал еще школьником. Но благодаря кому или чему у мальчика из обычной меннонитской семьи хватило желания и решимости следовать по пути веры? Без реального героизма воспитать детей в вере в советский период было нереально: герой, наставник должен был быть членом семьи или жить где-то рядом, чтобы поддерживать и вдохновлять своим примером. И у Геннадия Фаста такие примеры перед глазами были. У него было духовное общение и поддержка, которую он черпал у других, более зрелых людей: у своей матери, которая заменяла ему воскресную школу, у тети Лены Вебер, которая вела кружок по изучению Библии, у помощника пресвитера Евгения Матиса. Черпал он хорошее общение и из того круга верующих ровесников, которым он был окружен. Именно благодаря сверстнице к нему в возрасте 10 лет попал Новый Завет на родном языке. Свою семью он построил вместе с матушкой Лидией, ранее знакомой ему меннониткой, которая в то же время, что и он, пришла в православие и при схожих обстоятельствах.
Каждодневный будничный подвиг сохранения веры и единства лишь сравнительно недавно стал оцениваться по достоинству в российском обществе. Руководствуясь указанными выше соображениями, мы по ходу повествования дадим характеристику окружения Геннадия Фаста.
В-пятых, юность о. Геннадия Фаста прошла в духовных исканиях среди разных конфессий, включая баптизм и пятидесятничество. Однако открытие русской культуры посредством общения с представителями этих направлений (официально баптистом или пятидесятником он нигде не состоял, хотя его допускали проповедовать с баптистской кафедры) привело его в мир русского православия.
В-шестых, он до сих пор является представителем «белого духовенства», т. е. женатым священником. У него пятеро детей (Кристина, Стефан, Марта, Тавифа, Давид) и в последние годы становится все больше внуков.
О предках Геннадия Фаста известно следующее. В Россию на территорию Поволжья они переселились в 1860-е годы, воспользовавшись приглашением Александра II от 22 января 1859 года для ста прусских меннонитов на свободный казенный участок земли в Самарской губернии для «примерного ведения хозяйства». Практика подобных приглашений немцев имелась и ранее, законодательно переселенцам давали широкие права самоуправления – колониями они управляли с помощью сельских сходов и выборных старост. Даже полиция у них была своя – тоже выборная и работавшая на общественных началах. Учителей содержали за счет общины. Всего вокруг села Кошки в Самарской губернии было основано 24 немецких поселения, расселением которых занимался Клаас Эпп – руководитель меннонитской общины. Родословная.
Как отмечают исследователи И. А. Савченко и С. И. Дубинин, образованная меннонитами на бывших калмыцких землях Александертальская волость отличалась по языку, вере и культуре от соседней Константиновской волости, образованной другими немецкими переселенцами. В хозяйственном отношении немцы-колонисты Александерталя стояли значительно выше поселенцев Константиновки. Во-первых, они были более подготовленными к переезду: привезли с собой даже сельскохозяйственную технику и наемных рабочих из Польши. Во-вторых, они были опытнее в области адаптации: заказывали дома у русских плотников, активно нанимали на часть работ местных жителей, больше занимаясь управлением и сбытом. Меннониты и сами владели многими ремеслами, нередко отдавая своих детей не только в школу, но и в русские ремесленные училища. Это облегчало им ведение крупного хозяйства и позволяло в случае малоземелья избежать нищеты. В-третьих, их подворья были ориентированы на высокотоварное зерновое и отчасти животноводческое производство фермерского типа. Излишки они или продавали, или перерабатывали на специально построенных для этого заводах [Развитие…].
В 1910 году в Александерталь приезжал изучать меннонитские хозяйства премьер-министр России, бывший саратовский губернатор П. А. Столыпин в связи с проведением в стране крестьянской реформы [Савченко, Дубинин, Российские немцы в Самарском крае].
Поскольку меннониты отвергали присягу и были пацифистами, то по уставу воинской повинности 1874 г. (ст. 157) те из них, кто переселился в Россию до 1 января 1874 г., были освобождены от ношения оружия и отбывали обязательные (общие) сроки службы в мастерских морского ведомства, в пожарных командах и в особых подвижных командах лесного ведомства [Жарова].
Ограниченные размеры земли, выделенной под колонию, способствовали тому, что семьи первых поселенцев Александерталя быстро породнились между собой, а их вера и культура прочно сохранялась и передавалась из поколения в поколение. Родители Геннадия Фаста появились на свет в Александертальской волости Самарской губернии (современный Кошкинский район Самарской области) в многодетных меннонитских семьях, которые и ранее состояли в родстве.
Матерью будущего подвижника была Лена Корнелиусовна Гамм (1914—1991), уроженка села Нойхоффнунг («Новая Надежда»). В 2009 году это село под новым названием Надеждино отпраздновало свой 150-летний юбилей. Инициатором переселения предков Лены Фаст (Гамм) из Данцига был прадед Иоанн Вибе. В молодости он был купцом, а в более зрелые годы – священником. Перестав торговать сам, он сделал все, чтобы дать экономическую подготовку своим сыновьям. Помимо дохода, занятие торговлей помогало хорошо разбираться в международной политической ситуации. Именно этим обстоятельством и объясняется то, что пожилой Иоанн Вибе решился перевезти всю свою семью (жену и 11 детей) из западной Пруссии в Россию. По завершении переезда он умер. Его старшие сыновья стали успешными российскими предпринимателями: основали на новом месте «Торговый дом Гардер, Вибе и К°». Его вдова Маргарита Вибе в девичестве носила фамилию Гамм. Основателю рода Вибе в России Лена Фаст (Гамм) приходилась правнучкой через его сына Вильгельма (1847—1900) и внучку Марию Вибе (1884—1944) [Воспоминания Вибе…, с. 19—21].
После Октябрьского переворота осуществившая его партия большевиков сразу же приступила к «переформатированию» разноликого российского общества, опираясь на марксистскую идеологию. В соответствии с этой идеологией началось «освобождение» населения от «груза» частной собственности, которая теперь объявлялась продуктом эксплуатации, т. е. ограбления трудящихся. Реализуя лозунг В. И. Ленина «Грабь награбленное!», придуманный им в январе 1918 года, представители новой власти повсеместно конфисковывали имущество «богатеев». Новые власти отменили льготы в области военной службы для меннонитов.
Меннониты стали массово покидать места, в которых их семьи жили по 3—4 поколения: одни добились разрешения на отъезд за пределы СССР, другие переезжали на южные окраины Советского Союза – в республики Средней Азии, где контроль за ними был слабее. Но были и те, кто не захотел покинуть новую родину и рискнул остаться. По воспоминаниям младшего сына Лены Фаст (Гамм):
Родственников Лены Фаст (Гамм) разметало на тысячи километров друг от друга. Дядя Абрам Вибе (1880—1950) продал свое успешное хозяйство в годы НЭПа и эмигрировал в Канаду в 1924 году, так как хорошо представлял дальнейшее развитие политической ситуации в стране. Семьи тетки Маргариты Зуккау (1875—1935) и двоюродного дяди Корнея Вибе были раскулачены и высланы в Архангельскую область, в тайгу:
Родителей Геннадия Фаста репрессировали задолго до его рождения, но не одновременно. Елена Корнелиусовна Гамм успела выйти замуж за его отца, Генриха Фаста (1905 г.р.). Он был почти на десять лет старше ее и работал простым рабочим в колхозе имени Энгельса – именно в него передали отобранные у местных немцев земли, мельницы, элеватор и прочее имущество. Генрих-старший успел закончить сельскую десятилетку, что для того времени было редкостью – в стране было много неграмотных, а немецкие сельские школы закрывали из-за их связи с религией. В брак жених и невеста вступали со словом Божием и пением. В семье Фастов до сих пор хранится фотография, где над женихом стих «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5, 4), а над невестой «И если чего попросить у Отца во имя Мое, то сделаю…» (Ин. 14, 13). В те тревожные годы у супругов родились первые дети: сын Вилли и дочь Лолли. Возможность сбежать из страны была только с помощью контрабандистов. В последний момент Генрих Фаст отказался от этого плана, прочитав в открытой наугад Библии стих с указанием оставаться на месте и честно есть хлеб свой [Священник Геннадий Фаст, Биография]. Семья в сталинский период.
Во время «Большого террора» многие меннонитки остались без своих мужей, с детьми на руках:
Когда часть советских меннонитов смогла эмигрировать в Германию в 1970-е годы, то они стали большое значение придавать Дню матери, так как многие из них в результате сталинских репрессий познали жизнь «безотцовщины». По наблюдениям Вальтера Заватски, профессора Анабаптистской меннонитской библейской семинарии в Элкхарте (AMBS, США), в этот день они пели намного больше, чем всегда, включая в богослужения песни и стихи о матери, посвящая проповеди безусловной любви и подвигу матерей, отдававшим детям последний кусок хлеба, чтобы они смогли выжить [Sawatsky].
В 1938 году арестовали не только Корнелиуса Вибе (1879—1941), деда Геннадия Фаста, но и его отца Генриха Фаста. После этого деда живым уже не видели. Сначала Генриха Фаста обвиняли как фотокорреспондента иностранной разведки, потому что он еще в юности увлекся фотографией, благодаря чему у семьи осталось много фотографий родственников того времени. Потом этот пункт отменили, но его всё равно осудили – за создание контрреволюционной организации, которой никогда не существовало.
Бремя ответственности за семью целиком легло на его молодую жену Лену. Она была личностью незаурядной. Писала на немецком языке каллиграфическим почерком без ошибок, хорошо разбиралась в литературе, пела и играла на гитаре, хотя за плечами у нее было всего 6 классов. Но важнее всего в ней было другое:
Пока лишенные своих кормильцев в результате репрессий женщины и дети пытались выжить, страна отмечала юбилей одного из ответственных за эти репрессии. В юбилейном номере «Правды» – печатного органа ВКП (б) – на первой странице было написано:
Колхоз, вклад в развитие которого внесли его бывшие хозяева, стал миллионером и безусловным лидером в округе. Однако это не спасло немцев-меннонитов от дальнейших репрессий. Руководство страны помнило о том, какими методами совершалась коллективизация и другие советские мероприятия в стране. Оно опасалось мести и предательства со стороны национальных меньшинств, не желавших отказаться от религиозных традиций своих предков. Прежние репрессии были дополнены новыми – депортацией народов, особенно тех, которые имели национальные республики в 1930-1940-е года.



