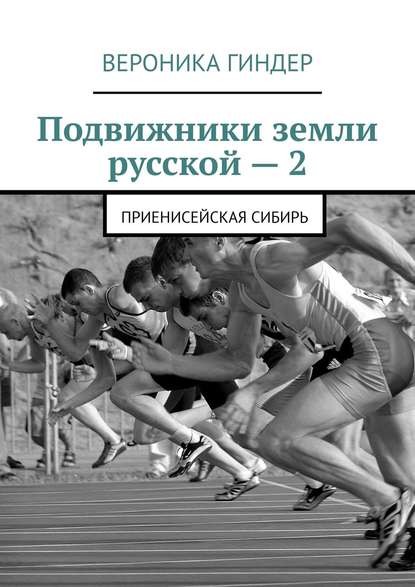
Полная версия:
Подвижники земли русской – 2. Приенисейская Сибирь
Нужно отметить, что в то время многие из этих книг имелись в продаже в переводе святого Паисия Величковского (Нямецкого) – уроженца Полтавы, служившего под омофором Константинопольского патриархата. Паисий Величковский был известен тем, что возродил православный аскетизм в виде старчества на территории Афона, Молдавии и Украины. У него были ученики в России и влияние его через них и их последователей было очень велико: основанные ими известные пустыни – Оптина, Софрониевская, Глинская, Зосимова и другие – определяли духовное возрождение православия в XIX века.
Читал ли он Евангелие в переводе на русский язык, который подготовило Российское Библейское Общество в 1818 году, или только на церковно-славянском, нам неизвестно. Но сообщается, что уже в 1820 году он твердо решил посвятить дальнейшую жизнь не военной карьере и не накоплению земного богатства, а, по примеру святых, избрал путь аскетизма – форму раннехристианского благочестия, предшествовавшую появлению монашества.
Оповестив о своем решении родственников, Даниил раздал деньги и землю, причем родным из денег отдал только 25 рублей – остальное пожертвовал в церковь, местоположение которой скрыл от родных, по-видимому, чтобы не вводить их в соблазн истребовать эти деньги [Указ. соч., с. 43—44].
Вскоре после отказа от предложенных командиром полка очередного повышения и офицерского чина (открывавшего ему путь в дворянство), он был арестован. Разбирательство шло долго, и, находясь под арестом, он читал Библию и жития святых.
9 июня 1823 г. решением военного суда «За принятое намерение удалиться вовсе от службы для пустынножительства, и так как, за всеми предпринимаемыми мерами и вразумлениями к продолжению службы, остался непреклоним и при том показал, что лучше согласен получить смерть, нежели оставить свое намерение, – по конфирмации главнокомандующего 1-ю армиею, как упорствующий в своем мнении и не хотящий служить, выключен из воинского звания и назначен в ссылку в Нерчинск, на работы в рудниках тамошних горных заводов». Так, в 39 лет, из которых около 16-ти он отслужил в армии, Даниил был отправлен на каторгу в Сибирь. По собственному желанию он прошел этот путь в кандалах [Указ. соч., с. 45—46].
Кандалы. Из коллекции Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова. Фото Е. А. Голикова. Из архива В. Е. Гиндер.
Отправление на каторгу для осужденного в первой половине XIX века обычно означало, что по отбытии своего срока каторжник освобождался от острожных работ и становился ссыльнопоселенцем. Ему назначалось место для постоянного житья, и только через десять лет после этого он получал разрешение селиться, где угодно в Сибири: в городе или сельском обществе. Вернуться в родные места он уже не мог и отказываясь от мирской карьеры Даниил должен был понимать, что обрекает себя на жизнь в чужих краях навсегда [Олферьев, с. 93]. Жизнь на каторге.
Тобольской экспедицией в 1824 году Даниил был определен на Боготольский винокуренный завод «на вечные работы». Порядки на казенных сибирских виннокуренных заводах тогда были такие:
Тогдашний смотритель, первый пристав Е. П. Афанасьев невзлюбил каторжанина-молитвенника, так как он подозревал Даниила в фарисействе (лицемерии). Он обзывал Даниила «святошей», посылал на самые тяжелые работы, но тот все терпеливо сносил, считая себя клятвопреступником (ведь он нарушил присягу), и по ночам уединялся для молитвы. Это еще сильнее раздражало Е. П. Афанасьева. Он нередко говорил каторжанину: «Ну-ка, святоша, спасайся в каторге!». Однажды он разозлился на молитвенника настолько, что посадил его зимой раздетым на крышу своего дома и велел поливать водой из машин. Сам же Е. П. Афанасьев кричал каторжанину в это время с издевкой: «Спасайся, Даниил! Ты святой!». Даниил же лишь молил Бога в это время, чтобы тот не вменил этот поступок приставу в грех. Однако вскоре случилось неожиданное: приставу развернуло голову так, что перед и зад поменялись местами, да еще он через несколько дней чуть не погиб по пути в Ачинск во время бурана. Произошедшее убедило пристава покаяться, попросить у Даниила прощения и молитв о здоровье [Странствие…, с. 161].
В описанных выше ситуациях явно видно влияние молитвенной деятельности на нрав молитвенника. Как известно, в русском православии до сих пор большое значение придается сохранению словам и значениям слов из старославянского (церковно-славянского) языка. Основное значение слова «молить» на старославянском языке – «делать кого-либо мягким, добрым» [Преображенский, Этимологический словарь…, с. 548].
После выздоровления пристав добился у губернатора освобождения Даниила от каторжных работ (как непригодного ни к чему по состоянию здоровья) и разрешения «на вольное житье». Бывший каторжанин поселился в Ачинске: здесь он несколько лет жил в келье во дворе купца А. Хворостова, а затем – в тесной, размером с гроб, келье у крестьянина деревни Зерцалы Боготольского округа близ Ачинска [Указ. соч., с. 161—162]. Также известно, что в этой деревне в то же самое время недолго жил другой сибирский аскет, Федор Томский, относительно личности которого до сих пор ведутся споры: не являлся ли он императором Александром I, сымитировавшим свою смерть, чтобы покаяться в отцеубийстве [Корягин, Хлюстова, Подорванюк].
Сразу после ухода с завода к Даниилу потянулись люди, так как многим казалось удивительным строгое соблюдение постов и кроткая, молитвенная жизнь в сибирской глубинке. Одни приходили за советом, другие – за благословением, третьи – просто посмотреть на него, «ибо он такую имел благодать, что кто только его увидит, весь изменяется, хотя бы закоснелый был грешник: вдруг зарыдает, и признает свои грехи, и просит наставления» [Странствие…, c. 164]. «Брат Даниил».
А каяться действительно было в чем, потому что тогда «в культурном отношении Сибирь нисколько не продвинулась вперед против елизаветинского времени: то же пьянство, тот же разврат, развивший повсеместно сифилис и проказу, те же злоупотребления, та же грубость нравов, наконец та же первобытность приемов в промыслах и административных мерах властей…» [Сибирь в XIX столетии…, с. 220—221]. Местное православное духовенство было подобно своим прихожанам [Указ. соч., с. 269—271, 280].
В Ачинском округе Даниила называли «братом Даниилом», поскольку он говорил, что «все мы во Христе братья, а один есть наш общий Отец – Господь Бог, в Троице славимый». Он часто беседовал с местными и приезжими о Боге, о Христе, его учении и страданиях, о блаженстве праведных и наказании грешных. Иногда говорил притчами и намеками, понятными только тому, кто пришел к нему за помощью. Разговоров на «мирские» темы (исторические, политические и другие) не выносил, хотя их с ним как с человеком бывалым, многое повидавшим, пытались заводить любопытные сибиряки. Молился он непрестанно: даже во время разговоров прерывался на молитву, то есть она приобрела у него характер самодвижной молитвы [Енисейские…, с. 57—59]. 10
Была и другая причина для ухода от мирских разговоров – строгое соблюдение поста. Как известно, пост тем и отличается от диеты, что помимо добровольного ограничения в пище постящийся уклоняется от неги и развлечений (игр, танцев, музыки, нецерковного пения, пустословия и т. д.) и уделяет внимание молитве и милостыне. Для крестьян из центральных и западных губерний России в XIX веке было характерно соблюдение постных ограничений и творение «тайной милостыни».
Праведный Даниил Ачинский (Сибирский). Хромолитография Е. И. Фесенко, 1891 г.
Питался он скудно, зарабатывая натурой за шитье одежды: ржаной хлеб (нередко гнилой) и нечищенный картофель составляли основу его рациона. Ел он по вечерам и не каждый день, так что никто не видел как он ест. Пил воду, постился часто по неделе и более. Исповедовался и причащался тоже часто. Вероятно, что, как и современный ему затворник Серафим Саровский, Даниил Ачинский мог употреблять отвар из сныти или другой полевой травы, укрепляющей иммунитет. Одежда же на нем была такая ветхая, что «ежели бы бросить ее на улице, никто бы не поднял». Тело у него было как восковое, но лицо веселое, с легким румянцем. Чтобы смирить свое тело, Даниил втайне от людей носил железные вериги, обруч и берестовый пояс (последний – от обжорства) [Енисейские…, с. 57—58]. Этот пояс врос в тело, и его лично видели те, кто участвовал в публичном глумлении над останками Даниила Ачинского 1 мая 1920 года [Майстренко, с. 19—20, 24]. 11 12
Образ жизни Даниил вел нестяжательный: денег и даров не брал и не давал, втайне по ночам бесплатно помогал соседям-беднякам по хозяйству (косил, жал, полол и т. д.), т. е. творил «тайную милостыню» [Майстренко, с. 10]. 13
Приезжали к Даниилу и православные пастыри: Михаил, архиепископ Иркутский, Нерчинский и Якутский, и Агапит, епископ Томский и Енисейский. Причем один из них пытался тайком помочь аскету деньгами, подарив их под видом литургического хлеба (просфоры). Но Даниил в руки этот хлеб не взял, а предложил поделить, и та часть, в которой были спрятаны деньги, осталась в руках дарителя [Странствие…, с. 164, 167]. 14 15
За «братом Даниилом» была замечена многими необыкновенная прозорливость, и ее сочли даром Божьим. Будущей настоятельнице енисейского женского монастыря он еще в молодости рассказал про ее будущее: затопление богатого дома, похороны мужа, монашеский постриг и руководство монастырем. Но, пока этого не случилось, она не принимала его слова всерьез [Странствие…, с. 184—185].
Часто он появлялся сам, без приглашения, когда была нужна его помощь и кто-то собирался идти к нему. И когда к Даниилу пришел посетитель, спрятав нож под одеждой, чтобы убить его из зависти к славе праведника, то он первым вышел к нему со словами:
Деревня Зерцалы, в которой Даниил в конце концов осел, стала известной в епархии и за ее пределами, так как к нему приходили люди разных сословий и убеждений. Так, ачинский купец-иудей Израиль Лейбович Фактуров после общения с Даниилом крестился сам и уговорил креститься свою родню. При крещении в 1837 году купец в знак почтения и для назидания потомкам в основу своего нового отчества и фамилии положил имя крестного отца: Александр Данилович Данилов. Он основал династию предпринимателей и благотворителей Даниловых [Быконя; Странствие…, с. 177—178].
В 1843 году Даниил по просьбе настоятельницы Христорождественского (ныне – Иверского) женского монастыря в Енисейске переехал в ее монашескую обитель.
Последние три месяца своей жизни он прожил в специально вырытой для него землянке возле монастырского огорода. В день кончины его исповедовал священник Василий Касьянов. Позднее Василий Касьянов писал о нем:
В православии есть несколько авторитетных мнений по поводу того, чего не хватало пяти девам и что они могли только купить, а не получить даром, за счет других пяти дев. Одна группа толкований восходит к Иоанну Златоусту (ок. 347 – 407), богослову и проповеднику, в конце жизни возглавлявшему Константинопольскую церковь. Опираясь на Мф. 5:7; Мф. 9:13 и другие тексты Евангелия, он считает, что девы были сосредоточены только на своей чистоте, но забыли об украшении состраданием к ближним, милостью к страждущим и нуждающимся, т. е. о «елее доброделания»: Православные толкования притчи о десяти девах (Мф. 25:1—13).
Другое толкование дает преподобный Максим Исповедник (580—662), богослов, чьей заслугой перед церковью является разъяснение соотношения человеческого и божественного в природе Иисуса Христа. Под елеем он понимает «масло знания» (опытного богопознания), говоря о том, что без него практика дел милосердия не достигает истинной цели:
Из русских богословов наиболее интересное толкование дал преподобный Серафим Саровский (1809—1879), православный монах и пустынножитель из рода курских купцов. Он, будучи современником Даниила Ачинского, отсылает к духовному опыту раннехристианского подвижника, основателя монашества св. Антония Великого (III – IV вв.), и который различал три воли: Божью (спасительную), человеческую, бесовскую (губительную). Уклонение от первой ко второй ведет у угождению своим желаниям, уклонение в сторону третьей – тщеславию, творению добра ради добра, прекращению добродетелей.
Девы не заботились о строгом следовании воле Божьей (стяжанию благодати Святого Духа), поэтому смерть настигла их неготовыми:
Итак, имея разные мнения относительно сущности елея, православные толкователи притчи о десяти девах, как правило, сходятся в том, что одного только целомудрия (физической и духовной чистоты) недостаточно, чтобы войти в Царство Небесное.
Занимаясь такими видами христианского подвижничества как молитва, покаяние, воздержание и пост, совершение дел милосердия, Даниил Ачинский показывал сибирякам пример простоты и доступности добродетельного образа жизни. Этим он противодействовал нравственному разложению общества в сибирской глубинке. Оценка подвижничества старца и его духовных детей.
Современники Даниила Ачинского почитали его земным ангелом и небесным человеком [Енисейские…, с. 58].
Полвека прошло после смерти Даниила, а жизнь в Приенисейской Сибири уже существенно переменилась к лучшему. Подвижки в духовной и социальной жизни были достигнуты во многом благодаря усилиям местного сибирского купечества, среди которого видное место занимали потомки крестника старца.
В начале XX века сыновья того самого купца А. Д. Данилова, крестным отцом которого был православный аскет Даниил Ачинский, переехали в Минусинск. Даниловы-младшие были совсем не похожи на образы деспотичных, нечестных на руку дельцов, которые знакомы многим из нас по советской и российской школьной программе (драмам Н. А. Островского «Гроза», «Бесприданница» и др.). И этому было много объяснений.
Во-первых, складывание буржуазии, сознательно берущей на себя ответственность за социальное, культурное и духовное развитие общества, было общероссийской тенденцией конца XIX – начала XX века. Не были исключением и купцы Приенисейской Сибири: они жертвовали большие, порой даже фантастические суммы на социальные проекты, народное образование и просвещение, строительство религиозных сооружений. И при общей малочисленности чиновничества и дворянства в дореволюционной Сибири именно купцы играли роль и финансовой, и культурной элиты региона [Социальное обеспечение…].
По роду своих занятий – виноторговля, строительный подряд, золотопромышленность – Даниловы относились к наиболее технически грамотной части сибирского купечества. Это подтверждает и тот факт, что водки и наливки, произведенные на заводах В. А. Данилова, много раз завоевывали призовые места на международных выставках за рубежом. Этих заводов было три: в Минусинске (нынешний «Минал»), в 23 верстах под Минусинском (Александровский завод) и в Красноярске (медопивоварня «Богемия») [Медников].
Во-вторых, Даниловы были представителями сибирского купечества. Как отмечают исследователи этой темы, в Сибири купцы держали себя более независимо, чем их собратья из центральной части страны, не терпели злоупотреблений и произвола чиновничьей бюрократии и, в случае необходимости, не боялись отстаивать свои права [Комлева, Зиновьев, Журавель].
В-третьих, история появления их фамилии, связь с благочестивым Даниилом Ачинским не могли не оказывать морального влияния. Купцы Даниловы оплачивали обучение неимущим ученикам в учебных заведениях Красноярска и Минусинска, выдавали стипендии сибирякам, поступившим в Петербургский университет, содержали приют, фельдшерскую школу и многое другое. Не забывали Даниловы и о материальном достатке своих рабочих. Для них Даниловы содержали больницы, школы, выплачивали пенсии по старости. Так, задолго до революции 1917 года на Знаменском стекольном заводе А. В. Данилова рабочие уже имели 8-часовой рабочий день, бесплатно проживали в заводских отапливаемых квартирах. А их семьи в случае призыва кормильца на фронт получали в полном объеме его зарплату. Из семи детей А. Д. Данилова наиболее заметным в деле благотворительности оказался его сын Виктор. Он оставил по себе память у местных жителей как хороший, отзывчивый человек и щедрый благотворитель. Причем жертвовать местным организациям и учебным заведениям он не прекращал, даже когда покинул Приенисейскую Сибирь и переехал в Москву [Медников].
Благотворитель Виктор Александрович Данилов. Предоставлена Минусинским краеведческим музеем им. Н. М. Мартьянова.
Сейчас сибиряки избалованы обилием «хранилищ информации» – библиотеками, музеями, базами данных. Но в Приенисейской Сибири в дореволюционное время их было совсем немного и создавались они по инициативе отдельных купцов-благотворителей в XIX – начале XX веков. В первые же века освоения восточных окраин России таких центров просвещения и цивилизации и вовсе не было. Длительное отсутствие их среди сибирских поселенцев привело к утрате памяти о заселении Сибири, забвению российской истории и формированию безразличного отношения к происходящему в стране. Таким образом, сибиряки оказались как бы на положении «варваров» в собственной стране. Своей «непатриотичностью», отчужденностью и диковатостью нравов сибиряки удивляли российских путешественников и исследователей XIX века.
Однако со стороны предпринимателей Даниловых, напротив, была заметна забота о развитии культуры и науки в родном регионе. На доходы от производства вина и добычи золота Виктор Данилов вместе с другими членами своей семьи спонсировали научные экспедиции для создания коллекций Минусинского краеведческого музея, а также постройку его зданий и печать каталогов. А. Д. Данилов и сам собирал коллекцию древностей, затем существенно преумноженную его сыном Виктором. Коллекционированием тогда занимались многие – кто ради получения прибыли, кто из-за страсти приобретательства и демонстрации своего вкуса, образованности и богатства. Но эта коллекция создавалась по другим соображениям, и потому многие предметы лежали на складе и ждали своего часа годами. В 1919 году, уже при новой власти, внук А. Д. Данилова, Александр Викторович Данилов, потратил 10000 рублей на научное описание коллекции. Только после этого он пожертвовал ее в Городской общественный музей г. Красноярска (сейчас – Красноярский краеведческий музей), оговорив, что, пока жив, будет считаться ее собственником, чтобы иметь гарантию ее сохранности. Коллекция эта существует до сих пор и включает 1024 предмета, в том числе 490 предметов из бронзы. Большая часть собрания представлена предметами бронзового и железного веков, эпохой средневековья, что позволяет пролить свет на историю Приенисейской Сибири до прихода сюда русского населения. 119 предметов связаны с культурами хакасов-качинцев, тувинцев, шорцев и русских [Макаров, Вдовин, Баташев].
В 2015 году по ходатайству прихожан, духовенства и православной общественности Красноярской митрополии к патриарху Кириллу в РПЦ МП был установлен праздник в честь красноярских святых – Собор святых Красноярской митрополии. Он отмечается 11 июня по григорианскому календарю или 29 мая по юлианскому календарю. В число святых, чья память вспоминается в этот день, были включены 16 православных подвижников, в том числе и Даниил Ачинский, память о котором все это время продолжала передаваться через рассказы местных жителей.
Остальные подвижники: Александр Поливанов, Амос Иванов, епископ Красноярский Амфилохий, Василий Мангазейский, Владимир Фокин, Димитрий Неровецкий, Евфимий Горячев, архиепископ Симферопольский Лука, Михаил Вологодский, Михаил Каргополов, Петр Игнатов, Порфирий Фелонин, Стефан Наливайко, Стефан Семенченко, Трофим Кузнецов. В 2015—2016 годах силами православных следопытов Красноярской митрополии велись активные исследования жизни некоторых из указанных выше лиц. Было снято несколько документальных фильмов, в которых упоминается и о старце Данииле Ачинском – «В земле сибирской просиявшие», «Воин веры» и др. Осенью 2016 года в Красноярской митрополии в рамках грантового проекта «Время веры» на базе православного прихода св. Иоанна Предтечи (г. Красноярск) стартовал проект «Школа крестных».
«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1Кор. 9:24—27).
«Весь посад лавры со своим центром представляет не что иное, как сметливое организованное торжище, оперирующее исключительно около кармана пришлого богомольца, на счет его благочестивых чувств и всех „обещаний“ душеспасительного свойства. […] Торговаться и грешно, и неприлично; вследствие этого богомольцу волей неволей приходится за каждую услугу, за каждый предмет обмена положительно переплачивать в три-дорога. […] Невнимание и какая-то жесткая чиновничья гадливость к простому бедному люду неприятно поражают здесь на каждом шагу. Отсюда все хваленое странноприимство и благотворительность монастыря носят несимпатичные черты черствой казенщины и фарисейства, лишенных малейшей искры действительной любви во Христе» [Михневич, Исторические этюды…, c. 12—13, 17].
«Каторжные отдавали домовладельцам муку, работали около их дома и имели за то стол и право спать в тесной, но теплой избе. Жившие в казармах жили пьяно, распутно, часто затевали кровавые драки. Наказывать рабочих ни винокур, ни доверитель не имели права, но только смотритель, в помощь которому и здесь был дан гарнизон из солдат. Против ленивого, непослушного или наглеца, смотритель призывал солдат и розгами разыскивал и восстановлял правду. Однако бить по щекам, таскать каторжного за волосы мог всякий безнаказанно. Сильно тосковали по родине, а потому бежали, сильно пьянствовали, а притом и страшно воровали…» [Максимов, Сибирь и каторга…, с. 482].
«Лучше подавать, нежели принимать; а ежели нечего подать, то Бог и не потребует. Нищета Бога ради – лучше милостыни, а милость может оказать и неимущий – говорил он. – Помоги бедному, поработай у него, утешь его словом, помолись о нем Богу, вот и через сие можно оказать любовь к ближнему» [Енисейские…, с. 57].
«Любезный брат, за что ты хочешь меня зарезать? Ну, ежели виноват, так режь же!.. Живи и ты так, как я живу; да и проси Господа, чтобы тебя не прославлял в этой жизни, а только моли Его о прощении грехов своих: и тебя Господь прославит. Но ежели будешь желать здешней славы, то хотя бы жил по-ангельски, ничего не получишь ни в здешнем веке, ни в будущем» [Странствие…, с. 167—168].
«До прибытия блаженного Даниила в Енисейск в 1843 г., я не знал его лично и, признаюсь, думал о нем как о человеке обыкновенном, имеющем только внешний образ благочестия. Однажды сам он пришел ко мне в дом; от предложенного мною угощения, даже и чаем, отказался, но начал со мною духовную беседу, и с такою простотою, с такою сладостью, с таким умилением прочитал и объяснил мне евангельскую притчу о десяти девах, что я тут же переменил о нем свое мнение и познал в нем истинного человека Божия. После я нередко видел его в церкви за службами и не раз его исповедывал. Что это была за исповедь, что за искренность, что за смирение, что за умиление! Ах, как бы поболее подавал нам Бог таковых исповедников!» [Сказание…, с. 49—50].
«Девство, хотя бы оно было соединено со всеми другими добродетелями, будучи чуждо дел милосердия, осуждается вместе с людьми прелюбодейными; и бесчеловечный, и немилосердный поставляется наравне с ними» [Творения…, Т. 7. Кн. 2. Беседа 78, с. 786]. Христианам следует помнить не только о хвале Бога (языком), но и о необходимости подражать Иисусу Христу в деятельном образе жизни.
«Всякий, у кого есть не только светильник деятельной добродетели, но и питающее [его] масло знания, тот подчинил тело и сочетал телесные чувства с умными и [потому] стал [подобен] пяти мудрым девам. Кто же, как кажется, упражняется в деятельной добродетели, но масла знания не имеет – иначе говоря, предается ей неразумно, ради пустой славы, из-за чревоугодия или сребролюбия, – тот обратил умные чувства к чувственному и преходящему, приземлил их и потому, разумеется, стал подобен , ибо он познает, исходя лишь из чувственного» [Прп. Максим Исповедник, Вопросы и недоумения, п. 43]. пяти неразумным девам
«…Пост, бдение, молитва, девство и все другие добродетели, ради Христа делаемые, сколько ни хороши они сами по себе, однако же не в них одних состоит цель жизни нашей христианской и не затем мы родились, чтобы лишь только их творить; но цель жизни нашей – это есть та самая благодать Духа Божия, которую они приносят нам, и вот в стяжании, или в наживании, ее-то одной (через них приобретаемой) и состоит цель жизни христианской. Заметьте, что лишь ради Христа делаемая добродетель приносит плод Духа Святого, … Поэтому-то девы сии и названы юродивыми, так как забыли о плоде добродетелей необходимо нужном, то есть о благодати Духа Святого, без Которого и спасения никому нет и быть не может… Итак, всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает блага Духа Святого, но более всего их дает молитва… на нее всегда возможность есть и богатому и бедному, и знатному и простому, и сильному и слабому, и здоровому и больному, и праведнику и грешнику… Раздавайте дары сии благодати Духа Святого требующим, по примеру свещи [свечи] возжженной, которая и сама светит, но и другие свещи, не умаляя собственного огня, зажигает. И если это так до огня земного относится, то что скажем об огне Божественной благодати Духа Святого? Ибо, например, богатство земное при раздавании его оскудевает, богатство же Божией благодати чем более раздается, тем более приумножается у того, кто раздает оное» [Записки…, с. 233, 235—236, 238]. ибо ради Христа Дух Святой в мир вниде



