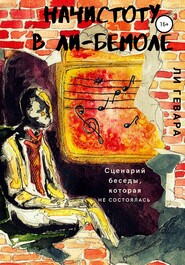 Полная версия
Полная версияНачистоту в ли-бемоле
Я не матерью, а, наверное, отчимом
и золовкой
предусмотрена в космических эпикризах.
Ведь куда ни глянь: за четвёрку – глаза в пол,
за мечту – за которой гнаться-то, подскажите?
Бог, как больной ублюдок, девочку в лес завёл
и ушёл, не оставив инструкций, как жить в нём.
Неуместна: ни рыба, ни дочь – половинка дочери.
Ровно на одного меньше тех, кто меня так звал.
Недостающих частиц, невживлённых почерков
чемодан, наверное, в Пулково опоздал.
Давай, ну давай не я – так хоть ты, текст мой,
будешь цельным, красивым, без выемок, без заплат!..
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ:
«Сегодня в Сети опять потерялся стишок. Неизвестный.
И ни один читатель не хочет с ним поиграть».
ОН. Грустно. Но, боюсь, ты права. Я думаю, что, даже если мы издадим вот эту нашу беседу книгой, её всё равно никто не прочтёт – просто потому, что это поэзия, а поэзию сегодня никто не любит. Наверное, она, как ты и говоришь, – и впрямь ребёнок: бесконечно красивый, но столь же несчастный. Может ли быть так, что поэзию губит именно красота? Как это случилось с Белоснежкой, чья мачеха отправила её из зависти в глухой лес?
ОНА. Тогда нам придётся стать гномами, которые её спасут. Ведь мы не можем перестать писать. Мы пишем, потому что только так способны жить.
Мы пишем, исчезая в темноте.
Мы пишем на коленке – не холсте.
Мы пишем, не стесняясь тем.
Мы пишем.
Шагая босоного по земле,
мы пишем, кажется, под толщей сотен лье,
и ни издатель, ни читатель не
отыщут
нас. Пока ещё сегодня,
пока нам телефонно и междугородне,
пока рифмованно ломать перегородки
по батареям
не надоест – мы будем сонными трамваями
творить внепланово смешные расставания.
Холодный город! Не сдержал, так отдавай меня –
не отогрею.
Так давай поставим друг друга на полку,
как можно ближе, чтобы казалось нам –
каждое слово нежнее шёлка
соприкасается.
И где бы ты ни был, в Москве или в Польше,
станет книжной каждая полка плацкарта,
где книги, обнявшись, приснят наше общее
дивное завтра,
в котором нас будут вовсю цитировать,
щёлкая пальцами, строку вспоминая,
где-нибудь на арбатских квартирниках,
а улицы назовут нашими именами –
им. Стародубцевой или им. Гевары?
Пока не решила, всё мимо… Мимо ли?..
Возьму биографию, зачеркну регалии
и заведу себе новых фамилий!
И вот когда нас опубликуют белыми
самолётами на небесном олове,
кто-то, стоящий за левым плечом
(ритм всегда начинается слева),
скажет: «Чёрт возьми, это было здорово!
А всё-таки ни о чём.
Возвращайтесь и пишите ещё».
За разговором наши герои не сразу заметили, как солнце спелой яичницей вылилось на голубую сковороду неба, а деревья и степи уступили место приземистым каменным постройкам. Поезд притормаживает у серого пустого полустанка. Вдоль вагона ковыляет кругленькая бабушка с вместительной сумкой; за ней резво скачет небольшая бодрая коза.
ОН. Смотри-ка… Кажется, и правда возвращаемся.
В ответ на его слова раздаётся тихое перешёптывание струн. ОН оборачивается и видит, что ОНА, вытащив из багажного отделения под полкой гитару, уже сидит с ней, закрыв глаза и что-то нашёптывая.
ОН. Что ты?..
ОНА. Тс-с. Я целую жизнь не вспоминала об этой песне. (поёт)
С возвращением, Ли.
Уж не знаю, надолго ли,
но, как вижу, здорова и
не совсем расслоилась в дали
инородной земли.
На́ снежок в руку белую,
забирай, не жалей его, –
с возвращением, Ли.
Мою сказку продли,
не понравится – переделаю,
без тебя меня долго не было,
больше так не боли.
От тебя ни Дали,
ни постель, ни зелёнка даже,
снегом место пустое мажу –
дезинфекция, понимаешь ли.
Слово «вечность» из камешков
в ожидании Ли.
Не гаси фонари –
многоточия в снежной вотчине.
Белым сумраком оторочены
ели, крыши домов, обочины, –
для тебя наряжались. Впрочем,
всё, что хочешь, бери.
Я стою на мели.
Я – нетвёрдая станция.
Блюз забытого танца
под холодными пальцами.
Te amo, mía gracia.
Не решившись признаться,
не воскликнув: «Останься!..»
С возвращением, Ли.
ОНА заканчивает петь и открывает глаза. ОН стоит, покачиваясь, не глядя на НЕЁ. Поезд, словно очнувшись от дрёмы, вздрагивает, потягивается затёкшей спиной и медленно ползёт по рельсам.
ОН. Теперь, когда финал так близок, я боюсь посмотреть на тебя. Боюсь спугнуть. Скажи что-нибудь, чтобы я знал, что ты действительно здесь. Что ты не исчезнешь.
ОНА. Больше не буду писать тебе.
Всё, что могла, я уже сказала.
Мне подавай перестук вокзала,
верхнюю полку да бал теней
над головой, да дымок от чая
(в тесном тамбуре не расплескать бы),
да за окном – золотую свадьбу
лета с осенью. И, отчалив,
в пыль полустанка втоптать стихи.
Пепел осядет смурным сугробом.
Если есть жизнь – она за порогом,
если и есть – то с твоей руки.
Время взаймы, поворот назад,
город целуется с ночью жадно.
Я подойду со спины, нежданная, –
«Здравствуй. Смотри: я пришла сама».
Я могу прочесть тебе ещё сотню стихотворений, но это вовсе не гарантирует того, что я не исчезну через секунду. Ты сам это прекрасно знаешь.
ОН. Неправда. Ты можешь остаться, пока я не проснусь.
ОНА. Или ты можешь остаться, пока не проснусь я?..
Издалека раздаётся голос. Он звучит словно сквозь вату, но всё ближе и ближе по мере приближения ПРОВОДНИЦЫ.
ПРОВОДНИЦА. Просыпаемся! Просыпаемся! Через 15 минут прибываем, просыпаемся!
ПРОВОДНИЦА заглядывает в пассажирский отсек героев и пристально смотрит на ребят.
ПРОВОДНИЦА (нахмурившись). Что-то я вас не припоминаю, молодые люди. Покажите-ка ваши билетики.
Внезапно её взгляд стекленеет. Она замирает на мгновение, а затем начинает медленно пятиться обратно в коридор.
ПРОВОДНИЦА (еле слышно, почти одними губами). Убирайся… убирайся… убирайся…
ОН (обращаясь к НЕЙ). Что она говорит?
Женщина, продолжая пятиться, всё с тем же невидящим взглядом уходит по коридору спиной вперёд (движения рваные, неестественные, словно в обратной перемотке), пока не скрывается в тамбуре. Её голос, наоборот, постепенно становится всё более слышимым, в конце переходя на крик.
ПРОВОДНИЦА. Убирайся из Морока. Снег или свет – не суть.
Белого бель за дальнюю даль неси.
Беглого воина во́роны донесут,
если нести себя у него нет сил.
Больше нет сил.
Тысяча дней и столько же – впереди:
там, где надменной медью маячит меч.
Выбросив руку вперёд, внимательно погляди:
меч разрубает тело твоё от плеч.
Тело облечь
в свет.
Тихая речь.
Бред?..
Морок тебе – враг.
Да свети́тся во тьме
Маяк.
Да кричится в тебе – ты. А мы на тебя пойдём.
Выспренным слогом, словом кричи. Хоть чем.
Будь – неизменный смысл, тенью не усреднён.
В сером тумане – голос будь, Стихочей.
Голос, который – чей?
Голос ничейно всех.
Всех – никого вокруг.
Морок тебе – друг?..
Реки из рук роняя, сумрак непостижим.
Реви, револьвер, веруй, эхом в тиши воспет:
нас уже войско, и все мы к тебе бежим.
Ты нас не видишь.
Тебя. Ослепляет.
СВЕТ!
Солнечный свет за окном становится нестерпимо ярким и жаркой вспышкой наполняет вагон. ОН вскрикивает и закрывает глаза, словно их и впрямь обожгло. Очки падают на пол и разбиваются. Когда наваждение проходит, ОН, тяжело дыша, опирается на столик и, неуверенно открыв глаза, обнаруживает, что ЕЁ в пассажирском отсеке больше нет. ОН бросается к тамбуру. ОНА стоит возле выхода из вагона.
ОН. Постой! И ты действительно вот так просто сдашься? Просто уйдёшь?
ОНА (оборачиваясь и тепло улыбаясь ЕМУ). Совсем наоборот.
Говорят, борьба в обмен на победу – самая лёгкая.
Говорят, если виден свет – хорошо идти.
Ну а если дорога – битая? Если – стёклами?
Если свет – это твой фонарь, и тебе нести?..
Уходить с пути?
Говорят, не видать конца – стало быть, начинать не стоило.
Говорят, ты живи, как есть, да еси иже.
Ну а если мне – двадцать семь, а хочу – по-своему?
Если дрожь руки – отпечатками на ноже?
Мне пора уже?
Только голос мой – он отныне не только мой.
Потому что звучит из сотни голодных ртов.
Этот голод не утолить никакой едой.
Этот враг сильнее любых врагов.
Кроме слов.
Кроме наших слов.
Да, не стёклами та дорога – дороги нет.
Да, не свет впереди; а что – я не расскажу.
Каждый сон я рисую дверь, за которой ждут.
Я рисую дверь; когда-нибудь да отворю.
За спиной у меня восстанет сотня моих побед.
И у каждой по фонарю.
Поезд, замедлявший движение с каждым ЕЁ словом, останавливается. Двери, дрогнув, словно раздумывая, открываться им или нет, всё-таки разъезжаются: тяжело, с протяжным шипением. Тёплый густой воздух бросается в тамбур, цепляется за длинные волосы девушки, будто пытаясь удержать ЕЁ в вагоне, но затем сдаётся. Последнее, что ОН видит – как хрупкая фигурка соскальзывает с подножки и растворяется в необычайно многочисленной для столь раннего часа толпе на перроне.
ОН делает пару быстрых шагов к дверям, но замирает в нерешительности, глядя на пугающий, стремительный поток безликих людей, в котором утонула ЕГО спутница. В этот момент на ЕГО плечо ложится рука. ОН оборачивается и видит ВРАЧА. Ярко-голубые глаза из-за очков – в точности таких же, какие были у НЕГО – смотрят ласково, понимающе и мудро. ВРАЧ начинает говорить, и его голос звучит как хор – хор множества разных голосов, мужских, женских, детских… Кажется, их десятки, если не сотни.
ВРАЧ. А девочка выходит
из леса и из моря,
из города и мира,
из неба, из земли.
На девочку навроде
почти не шли измором,
почти не вышли мимо,
а всем честным взялись
за тело. Но тянули
как лебедь, рак и щука,
как нелюдь, враг и недруг,
на все четыре сто,
роняя на тропу ли,
на бездорожье ль руки,
и руки пали в недра
на никелев престол…
А ноги-то, а ноги?
А ноги позабыли.
Волочатся поодаль,
ни живы, ни мертвы.
А ног хотелось многим,
и исподножной пыли,
такой себе породы,
чтоб шёпотом на «вы».
Богам подспудно мало.
Богам подвластна вечность.
Из темноты к опушке
девчонку доведут
в час, когда все намолят,
отстанут и ответят,
а избранные души
спасутся и спасут…
Ни много ли, ни мало
плыла из леса мавка,
из моря шла наяда,
бросался дождь с небес.
У сказки есть начало.
Но нет конца у яви.
Девчонке просто надо
идти.
А что тебе?
ОН разворачивается и бежит к выходу, но спотыкается на крутых ступеньках и падает, не успев прикрыть лицо руками. Лицо ударяется обо что-то мягкое и вязнет в этой субстанции, лишённой воздуха. Задыхаясь и чувствуя невыносимую, едкую боль во всём теле, ОН кричит и переворачивается на спину. Шум толпы становится громче и яснее, к нему примешиваются другие звуки: въедливый электронный писк, целлофановое шуршание, хлопки деревянных дверей. ЕМУ уже легче дышать, но кажется, будто к лицу прилип мёртвый паук. С омерзением ОН срывает холодную тушку с лица и видит, что это кислородная маска. Рядом с подушкой лежат разбитые очки.
Соседняя койка пуста и идеально застелена. На прикроватной тумбе лежит точь-в-точь такая же прозрачная маска.
ОН с трудом садится и видит на полу возле кровати напротив забытые ярко-красные кеды, беспощадно разрезанные вдоль. Слишком красные, чтобы сразу различить, что их ткань пропитана кровью.
Из коридора продолжает раздаваться голос медсестры: «Просыпаемся… Просыпаемся…»



