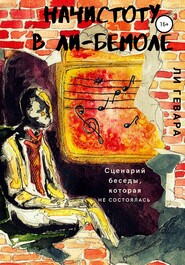 Полная версия
Полная версияНачистоту в ли-бемоле
Откуда иначе взялся такой закат?..
ОН. Милая, он ведь не единственный. И ты не одна. Многие потеряли отцов, братьев, сыновей… Я понимаю и твою боль, и твою злость, прекрасно понимаю, но кто мог знать, что так выйдет?
ОНА (не выдержав, в ярости спрыгнув с полки вниз и встав прямо перед НИМ). Я знала! Я предупреждала! Я предсказала это, когда всё только начиналось, ты забыл?
Шутов хоронят за оградой
под металлический набат.
Сооружайте баррикады –
куда ж в войну без баррикад?
Рядите города в блокады,
сжигайте шины – пусть горят.
Идёт реакция распада.
Историк! Не пером – гранатой
создастся «Украиниада»,
альтернативный вариант.
Свой фетр бросая грациозно
(срывая с головы дуршлаг),
вкушай кровавый хмель на розлив,
о рыцарь деревянных шпаг.
Страна больна сальмонеллёзом
и дышит в маску, кое-как.
Покуда бьёмся лбами оземь,
танцуя регги на морозе,
по трону задницей елозит
запатентованный дурак.
Война сегодня – добрый повод
для тех, кто мелочен и слаб,
пустить по будням мощный залп
и вспомнить: «Я так зверски молод!
Во мне есть силы и азарт
бросаться камнем или словом
в подорванный кордон столовой,
дабы хлебнуть халявный чай
и сделать фото невзначай,
что разлетится по просторам
с комментами – вот жжОт фотограф! –
или на кухне, под "молдову",
твердить: я был там! Я солдат!»
На пепелище потасовок
солдаты нынче нарасхват…
А помнишь милое безделье,
слоняющееся в метро?
Как в искрах пятничных костров
сжигали смуту понеделья,
и пах предчувствием апреля
нам каждый камешек дорог?..
В пыли гитары менестрелей.
А менестрели, взяв шинели,
идут под музыку шрапнели –
идут на смерть, сбиваясь с ног…
Боец распродаёт награды.
Богач бросается с моста.
Ребята мрут за клоунаду –
достойная, видать, мечта.
Сооружайте баррикады!
Не канет в Лету красота –
преграда порастёт балладой
о мире, где под гимн и ладан
шутов хоронят за оградой,
построенной рукой шута.
ОН. Прости меня. Я не понимал тогда, о чём ты говорила. Но что бы я изменил? Что? Отправился бы на Майдан с криками «перестаньте, вы делаете только хуже»? Разве кто-нибудь услышал бы меня тогда? Разве кто-то поверил бы?..
ОН выкрикивает это, а затем бессильно роняет голову на руки.
ОНА. Были долгие-долгие, разные-разные были.
Были длинные, тощие, славные, пьяные, злые.
Брат сестру обнимал, приговаривал разное, выл ей,
что, мол, мимо, не мил он,
шёпоты в милях
падали прорастали побегами крыльями долгими долгими
дó дому.
Были острые, грязные, грозные, умные. Пали.
Были, не были – рваные фото, газеты в опале.
Отгорела столица, сестра обезбрачена. Мало
нам врагов – сами станем
враги без остатка
без прошлого вечного вещего верного пламени
умные нумеро
уно.
Были мёртвые. Были живые. Были – и вот весь сказ.
«Так вставай же з колін, мати-мачуха щира!» – і оплиски.
В серці б'ється вогонь, рот разодран – бросается в рот весна,
разрывает язык пополам,
разжигает войну по краям,
да по улицам по полям
на полях от заметок тесно,
на роду нам, ныне и присно:
если «вы» – то закончим «выстрел»,
если «мы» – то, конечно, «мысль».
Якщо «ми» – то, можливо, «мир»?
Не отплавиться, не отмыться
на границе гнилых квартир.
За границей такие же точно лица.
Это наши лица, себе не ври.
Брат протягивает ладонь: на, сестрица.
Мы не скажем. Бери. Бери.
Видишь – общие нам движения,
рідна кров, я тебе зову!
Будешь ли ты со мной, отражение,
если зеркало разобью?..
Были сонные, славные, равные, самые, главные, близкие, милые.
Были…
ОНА замолкает, судорожно сглатывая. По щекам текут слёзы, и ОНА вновь забирается на верхнюю полку, подобрав на сей раз ноги в красных кедах и забившись в угол. ОН не должен разглядеть её заплаканного лица. Сейчас не время для этого.
ОН. А ведь я был там. Уже потом, после… Попал в военный госпиталь. Если можно так назвать полуразрушенное здание без отопления и практически без оборудования.
ОНА. И что ты видел?
ОН. В палате на одного темно. Горит лишь фонарь в окне.
Врачу до обхода совсем немного выспаться без огней
аппаратов и глаз посетителей: доктор, что там с моим/моей?
Столько толп не видывал и Ледовый, и Кремль таких не имел.
Узкая койка опасливым скрипом выдаст присутствие.
То, что от глаз посторонних скрыто – лагідно, сумно так –
здесь темнота старанно відшукує: то не одне – два лиця.
«Ти же ніколи не випустиш руку?
Пообіцяй».
Нет ни границ, ні кордонів, и даже гвардии нет дела до
тех, кто припрятал секретное дважды глибоко у ладонь.
Что защищали во время битвы – три цвета або два?
Из-под обстрела спаслись обидва, и сразу – на абордаж.
Різними мовами з'єднані душі хлопчиків та дівчат.
Хочешь – оспорь; но лучше – послушай, послушай, как двое молчат.
Стихает атака. Смолкает вой. Затишок хоч на мить.
Врач заходит в палату на одного.
В ней пахнет двумя людьми.
ОНА. Надеюсь, они умерли. Это была бы лучшая концовка твоей истории.
ОН (в ужасе). Что ты такое говоришь?!
ОНА. Есть кое-что похуже, чем отдать жизнь.
В моём Шоушенке – сплошная стена и космос.
Врут, что время в тюрьме стои́т: оно мчит со скоростью
восьмидесяти осеней в час.
Двадцати девяти старостей.
Знаки ограничения не для тебя поставлены, что ли?
Смотри, я сама начертила один за шторой
на сплошной стене моих глаз.
Упиваясь своею самостью,
время, я трачу тебя вслепую,
даже когда ору тебе, а не рифмую –
как полюбить такую?
Спасение внутри? Врут.
Они врут, ну а я ору.
И вкус немоты во рту.
Потому что внутри моего Шоушенка – я.
Я за мир и войну, за мясо и шинкаря.
И никакого вам тут спасения.
И ни ночи без обещания:
я клянусь, я выберусь, выдерусь, ход прокопаю во мрак,
проползу все положенные беглецу пятьсот ярдов дерьма
и пойду гулять по-осеннему,
по-свободному, по-брусчатому…
Где гарантия, что всего пятьсот?
Что не тысяча мне высот?
Что спасёт?
Смогу ли выползти чистой?
Смогу ли выползти?
Смогу ли?..
Спасение внутри – блеф.
Сплошная стена – не рельеф.
Вкус немоты – срыв.
Некоторых птиц не запрёшь по ГОСТу:
перья яркие слишком, голоса не шепчут.
В моём Шоушенке 173 сантиметра роста.
И зовут меня, конечно же, не Шоушенком.
ОН. Ты словно и впрямь о тюрьме говоришь.
ОНА. Конечно, нет. Быть запертым в собственном искалеченном теле, не иметь возможности пройти по городу, потрогать пальцем ноги ласкового котёнка волны или сбегать в аптеку за лекарством маме, стать зависимым и бесполезным – это куда хуже, чем тюрьма.
Сестра, колите! Ведь дело – швах. Талант с корнями в декабрь вморожен. Я задолбалась крутить колёса. Когда же на ноги? Всё же, всё же нет мочи видеть кривые рожи больных и хилых, кричащих: «Боже! Почто мне это?!..» В кровати лёжа, курю московский "diablo rossa", творя кривую кольца из носа –
кольца, что Бильбо украл в горах.
Сестра, не спите! Солёный страх иглой танцует по бледной коже, берёт гитару, больной и босый, он старый аскер и он – прохожий, чуть отвернёшься – достанет ножик, рванётся в душу. Закончен прожиг, теперь всё сбудется. Мне негоже сдавать «сегодня» в хмельное «после», но парикмахер сжигает косы,
и сила слова – лишь на словах…
Сестра, дышите. Вам нужно жить, не то, что мне – пятьдесят на тридцать. Ещё немного, и выйду в ноль. Плохому сну тяжело досниться, плохим мечтам не дано свершиться, и в двадцать три я устала биться. Долги за боль возвращать сторицей и слышать «милая, я не твой» – уж лучше слушать часовий бой
и быть хоть сказкой, но всё же – БЫТЬ…
Сестра, молчите. Ведь Гэндальф сыт. Он на полставки ушёл в возницы, меняет разум на циклодол, а отчий дом – на дурман столицы. Одно желание на ресницу – вернуться шелестом по страницам в начало повести, на границу, за коей девочка учит роль
о той капусте, что всё ж капуста, пускай растил её сам король.
О том, как молодость пережить.
О том, что с ней не должно случиться,
и как же заново научиться
пускай до ручки – но доходить.
ОН (после паузы). Я и понятия не имел, что тебе настолько плохо.
ОНА. Серьёзно? И как, по-твоему, должен чувствовать себя человек, у которого в одну секунду отняли самое главное, что у него было?
ОН. Вы давно не виделись, да? Человек и дерево.
Но – как там было – ничто не бывает вечно,
правда ведь?
Дерево в юный ливень апрельски верило.
Человек просто верил; о, как это человечно.
Паперти
не хватало ещё одного – так она его получила.
Не вините ветер: он – лишь слепой разносчик
злаковых
на окладе. Помнишь – глаза лучились?
Помнишь – в последний раз ночью
плакали?
А потом было поле: чёрное с белым крошевом.
Мир наизнанку вывернули да оставили
полем горизонтальным, безгоризонтным, ношеным.
Сморщенным сюртуком на плечах равнодушных спален.
Ай, беги по полю, иди по полю, ползи.
В недоверии по колено, по рукава в грязи.
Пусть нельзя – у тебя отродясь нет такой нельзи.
Пусть не знаешь, куда ползёшь – рисуй на предплечье карту.
Да разверзнутся тучи! Да протянется вниз рука!
Но…
Одна подножка южного ветерка.
Одно самое из событий срастается с ДНК.
Дерево не покинет пределы парка.
Ветер всё не уймётся, страницы столиц листая.
Не вините дерево: ветви не отрастают.
Человека спасут – это дело единственной
Вечности.
Дерево, как человек, теперь
искалечено.
ОНА (глухо). Да не виню я дерево. И тот ураган не виню. Наверное, теперь я виню только себя. Не нужно мне было уезжать из Киева, не нужно!..
ОН. Ты прекрасно знаешь, что ты тоже не виновата. Никто не виноват. Вещи просто… происходят. Не почему-то и не для чего-то, а просто так. Просто так кто-то рождается здоровым, а кто-то всю жизнь выживает всё возможное из диагноза «ДЦП». Просто так убийцы и воры живут до старости здоровыми и богатыми, а на невинных девчонок падают деревья. Кого-то сбивает машина, кто-то неудачно ныряет, последствия неисправимы – а обвинить некого, и высшего смысла в этом нет. Просто так, пойми…
ОНА. Если ты прав – я тем более не хочу жить.
Оба замолкают и смотрят в окно, где по щербатой линии горизонта медленно растекается розовый свет. Его ещё не хватает на то, чтобы выхватить из темноты лица собеседников, но до утра уже можно подать рукой. Внезапно загустевшая, засахаренная, как позабытое в холодильнике сгущённое молоко, тишина взрывается оглушительным треском. Это выпала зажатая между ставен пластиковая бутылка. Стеклянные створки окна с грохотом захлопываются, и плацкарт тут же наполняется тяжёлой духотой.
ОНА. Открой, пожалуйста, форточку. Ты внизу, тебе ближе.
ОН. Иные форточки лучше не открывать.
Слишком свежий воздух; слишком легко дышать.
Слишком громко ухнут в тебе слова –
вот уже их почти что конница, вот их рать,
и становится слишком тесна кровать
для тебя, умноженного на два.
Вот же спутались – как наушники, вынутые из кармана,
не умеем действительно говорить, кроме как стихами,
да и после не разберёмся в своих стихах.
Короткое замыкание. Длинное замыкание.
Мало выгнать твой запах взашей из сердечных камер –
он застревает занозистой линией на руках.
В нарушении изоляции время закоротит.
Самое важное может случиться и взаперти.
Форточка запирается изнутри.
Нет, ты смотри на неё,
смотри,
смотри
и дыши, дыши из неё, покуда хватает места,
сквозь трахею, до альвеол. Представь себе, что ты – тесто,
изваляйся по горло в этом чёртовом сквозняке.
Потому что (допустим), если б я был Дантесом,
я хотел бы, чтоб в детстве стало чуть больше детства
и за миг отскользнул указательный на курке.
Потому что под капюшоном музыка шепчет чище.
Тысячи обездоменных Элли по бездорожьям рыщут,
ни одного из обещанных Гудвинов недоищась.
Дотянись до форточки, стань на секунду нищей.
Вот закроется – и сиди себе в своём сонном днище,
выдыхая молекулы затхлости и борща.
Мы же выдохлись, как шампанское к январю.
Уходи из меня, из города, я сам здесь всё приберу.
Моя форточка хлопает на ветру.
Я смотрю на неё.
Смотрю.
Смотрю…
ОНА. А ты распахни окошко. Увидь этот виноград,
спелой гроздью в ладонь пикирующий: куси.
На́ эту рассветно созревшую ягоду над
газированной речкой. Ешь её, если нет сил,
пей, не бойся, выцветшим блюзом слов,
пой себя выгоревшим аллегро карандашей.
Представь: ты уже художник, если открыть засов
и выгнать тоску. Выгнать её взашей.
Может, ей тоже хочется виноград,
хочется солнце, объятия и шоколад –
бедный кусочек грусти станет безмерно рад;
стало быть, грустью быть перестанет.
Никакого до, только соль и ещё диез.
Дезинформация – всё, что с приставкой «без»,
выйди наружу и назови подъезд
таксисту, конечный адрес не называя.
Шрам первозданности здания на Пречистенке
или арбузный румянец села Херсонщины
станут тебе на целую ночь отчизною,
дождь над Дунаем – отцом тебе, безотцовщина,
всякий проспект Мира да будет мир.
Мирное небо шлёт тебе сообщения –
ну и как их прочесть сквозь пыль сетевых квартир?
Распахни сердце.
Проветри помещение.
ОН встаёт из-за стола, поднимает с пола упавшую бутылку и, выпрямившись, резко щурится: в этот самый миг первый луч солнца выныривает, словно щупальце исполинского золотого осьминога, из-за горизонта и наотмашь бьёт молодого человека по лицу.
ОН. Ах ты ж…
ОНА (смеясь и вновь соскакивая с полки): Ты только посмотри!
В окна шагают долговязые солнца,
чтобы первыми до лица дотронуться,
сцапать сон и накапать света в колодцы глаз.
Я пожму паутину их жёлтых пальцев
и внезапно узнаю, что мне – шестнадцать,
и ещё сто пятнадцать месяцев до сейчас.
И все витринные отражения неудержимо молоды,
и каждый хрустящий лист под ногами – золото,
ноги неторопливо листают каждый такой листок,
и до финала этого томного тома города
столько ещё четвергов, переодетых субботами,
а небу, наверное, кажется – весь город в один глоток
выпить бы, сладкий воздух бесстыдно нюхая,
разукрасить асфальт солнечными оплеухами,
посекундно творя картины на месте черновика.
Позволяю себе обратиться ко всем, кто слушает,
кто может смотреть на стену, а видеть грушевый,
беспричинно праздничный, как вино, закат:
ты вот, именно ты – угрюмый, разутый сонностью,
бери вдохновение, скорей выбегай из дома с ним,
выбегай в пространство уличного измерения.
Как можно жалеть о несчастной влюблённости,
если сквозь неё – приглядись ты, опомнись ты! –
прорастает хорошее стихотворение?
И можно споткнуться о камень, что коварно подкрался сзади
и бросился прямо под ноги; выругаться, с досадой
дуя на оцарапанные когтями земли ладони.
А можно представить, что здесь был дом, и была ограда,
и к дому прилип балкон, укутанный виноградом –
слышишь, а вот и песня о добром зелёном балконе!
Или вон – первый троллейбус тащится: проводов букет,
пузо набито людьми в предрассветном обмороке,
он зевает – и люди выходят. Конец пути.
А вдруг ему снится, что он – самолёт, и сияющ, и лёгок он,
облака отражаются в луже – и лужа становится облаком?
Помашем ему рукой: лети, дорогой, лети!
Дневную норму несчастий мы уже выбрали.
Выброшу руки из раскрытого рта квартирного,
небо выплюнет в них прохладный компот дождя.
Сто пятнадцать жизней. Мне их уже не вымарать.
Но, если вдуматься – большего счастья в мире нет,
чем просто идти вперёд и каждого поворота,
как чуда,
ждать.
Оба, взявшись за руки и улыбаясь, смотрят в окно на юный сентябрьский рассвет. Внезапно ОН хмурится и поворачивается к НЕЙ.
ОН. Постой… Но, если ты так и не смогла ходить, – как же ты пришла на вокзал? И как мы стоим сейчас здесь, рядом?
ОНА (задумавшись). Да, действительно, странно. Может быть, это вообще не я? Или я, но не совсем?
Вдруг где-то в ином измерении, в сказочной Летаргии,
есть альтернативная версия маленькой бойкой Ли?
Листья шумят над нею праздничной литургией,
листья ныряют в кожу – на-ка вот, наколи,
мама не будет против, мама сама в орнаментах.
Мама включает "pistols" – правильно дочь растит.
Папа, живой и мудрый, рядом сидит с гитарой:
можно подпеть, а можно выдумать новых стих…
…о, и творений тоже. Ли не боится хрени:
хрень – это лишь синоним иззаскалистых волн.
Ли можно лить сумасшедших плясок терпсихореем,
можно не катастро́фой, а яркой катастрофо́й,
можно лечить несмыкание тонких связующих нитей,
пальцами по балаклавишам истово барабаня.
Брать раздобревшее утро – кто-нибудь, ну чихните! –
пусть это будет правдой.
Вагонно да караванно
Ли сочиняет новую, неутомимо ласковую,
неудержимо грустную повесть о той, что днесь
плачет случайным виски под стражей у копипастырей
по том, что могло и выжить,
но во сне, но не с ней, но не с…
Где-то в ином измерении. Где-то в пределах чуда.
Где-то близ Радостана есть место, где быть смелей.
Ли опрокинет хохот – не виски, но верлибрюта.
Ли и не снилось даже, что где-то в ином измере…
ОН (перебивая). Ох, ну ты и загнула. Хотя, знаешь, против альтернативной Ли я ничего не имею. Главное, чтобы это не был какой-нибудь её двойник или вроде того.
ОНА. А что? Так тоже бывает.
Своевременно совы веруют в непременность ночных охот.
Не попасться бы совам в пасти бы, не остаться бы у ворот
без особенного без пропуска, разособленно, без прикрас.
По последнему ли поступку ли нас засудят, осудят нас?
Не остудят ли в сумме сумрачных, сумасбродных своих идей?
Не хотите – не заходите, а хотите – закрыт Эдем,
вот, пожалуйста (просто жалко вас), оббежать – за углом тайник:
если спрятаться незапятнанно, может статься, вас ждёт двойник.
Ну и рожа – точь-в-точь похожа, точно выточена под вас!
Не желаете? Что ж, обжалуйте. Мы не жадные.
Кто подаст
мне по паспорту, по кадастру и причастности к доброте?
Если после нас что-то бьётся – на что мы рвёмся из темы к тем,
кто по ниточке тектонически совмещает привычный мир?
Если на спор ворота в райские стены врезаны как пунктир,
а на входе, выходит, холодом развернут – не в чести твой ник.
Благочествуешь, гонишь нечисть – а для чего, если ты – двойник?..
Я думаю, выше, я думаю, ниже,
я думаю, над, через, из-за и под
живёт тише мыши, движей обездвиже,
пра-протагонист – сам себе антипод.
Живёт древнегречневый человечек,
живёт сотню вечностей – делать-то нечего,
никем не замечен, нигде не засвечен,
излечен хронически от червоточин,
точнее, чреватостей; чёрен как вечер,
бел как молчание, нем, обесточен;
зачем-то, чудак, отучился на мечника:
выковал меч – голову-с-плеч –
четвёрка в зачётке, да некому всечь.
Глядь через прядь – леденеет гладь.
А за пядью пядь, а за гладью – хвать –
отражений свора оживает споро.
Далеко видать. Так тому бывать.
Выберу одно, разверну да вскрою.
Не стесняйся, брат: что тебе скрывать?
…Отражение мигнуло, отражение махнуло,
улыбаясь, колыхнулось – и пропало в темноте.
Почему-то стало страшно. Показалось? Окунула
руки в ледяную воду. Показалось.
Между тем
запись сделана, дело склеено, имя вписано – и привет.
Леденею я, индевею я, но отдельно: мерцает свет,
так идти б к нему, однотипному, я ведь правильно, я смогла!..
Свет – для зама тот. Место занято. Языкато глядит с угла
я не я – мой двойник.
Зря ходила в тайник.
Зря жила, пела зря:
тенью у фонаря
остаюсь, недосказана,
всё стою, недописана,
всё лежу, ныне, присно ли,
тенью, облаком, саженью…
…Безмятежная небрежность каждоутреннего дыма
продолжает цвет на сепию устало заменять.
Я живу ничейный голос,
я ору чужое имя.
Кто-то там меня незримо
проживает за меня.
ОН. Забавно. Почти ничего не понял, но забавно. Шипящих много и звукосочетаний всяких, язык сломать можно.
ОНА (хохоча и шутливо кидаясь на НЕГО с кулаками). Дурак! (остыв и присаживаясь – теперь на нижнюю полку) Между прочим, я никогда и не говорила, что у меня все стихотворения хорошие.
ОН. Поспорю, но допустим. Почему же тогда ты их все публикуешь, если достойны того, по-твоему, не все?
ОНА. Хм… Интересный вопрос. Наверное, они все для меня как дети. Впрочем, почему «как»? Хорошие ли, плохие, здоровенькие или нет – они мои дети, я не могу не выпускать их погулять. И всякий раз надеюсь, что их ждёт участь лучшая, чем моя.
ОН. И?..
ОНА. И каждый раз – вот так:
Давай, ну давай же! Я ж тебя родила,
текст мой,
я тебя выносила, вытошнила осколками,
я тебя так хотела пестовать и одевать
в детство,
да не в ношеное, арбенино или (чур!) ессоево,
не в лигеварово даже: любое – твоё. Носи
и беги играть с другими детьми – читателями.
Для тебя нараспашку страница – живи, не ссы,
там полюбят тебя! Обязательно.
Обязательно…
Но нет, я не мать, хоть дети мои на полке
жмурятся, если нечаянно взять и открыть их.
Я не мать, пусть делюсь каждым днём на дольки,
а сестрёнка – младшая – когда говорит «родители»,
меня подразумевает в том числе;
как неловка
и ценна мне этакая её близость.

