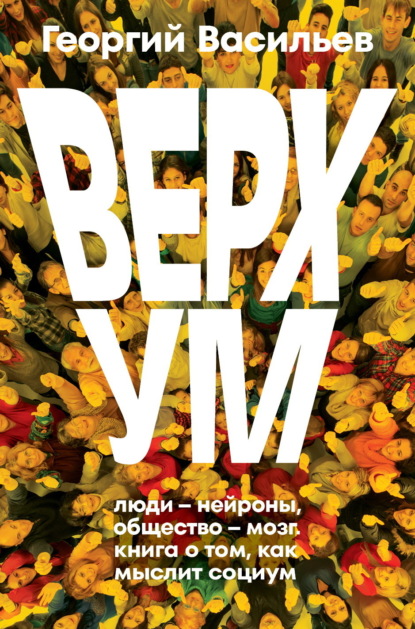
Полная версия:
Верхум
По большому счёту не важно, чем закончится эта история. Можете закончить её по своему вкусу. Понятно, что как-то проблема будет решена. Быть может, мама дожмёт папу или отложит свою работу на кухне, или дети договорятся, что сегодня с собакой гуляет Кира, а завтра – Гордей, или собаке придётся ещё полчасика потерпеть. Обратите внимание, что никому с собакой гулять не хочется. То есть любое решение, которое примет семейный гипермозг, не будет лучшим для каждого из членов семьи по отдельности.
Ещё обратите внимание на то, что в этом гипермозге нет верховного модуля, который тупо командует остальными. Модули настаивают на своём, но ищут компромисс. Они обмениваются идеями, которые влияют на финальное решение. Этот обмен информацией способен даже породить полезное знание. Например, Гордей может по телефону дать клятву, что выгуляет собаку завтра. Зная об этом, Кире будет сегодня намного легче выйти с собакой в сырость и темноту.
Приводя пример работы семейного гипермозга, я сказал, что в нём 5 автономных модулей. Но если вы сосчитаете всех членов семьи, то получится 4 человека. Возможно, вы уже заметили ошибку. Ну так вот это не ошибка. В нашем мини-социуме не 4 участника, а 5. Все люди воспринимают собаку как члена семьи. К её сигналам прислушиваются, её интересы учитывают. Как ни странно, описанная мной работа семейного гипермозга без собаки окажется бессмысленной.
Кроме животных в работу гипермозга может включаться техника. В нашем примере люди и животные общаются с помощью звуковых сигналов. Но при этом папа сидит за компьютером, а мама говорит с сыном по телефону. Ну ладно – папин компьютер только мешает поиску коллективного решения, но мамин телефон для этого просто необходим. В общем, наш маленький пример демонстрирует важный принцип: чем лучше социум оснащён информационными технологиями, тем эффективнее работает его гипермозг.
Я отдаю себе отчёт, что словосочетание “семейный гипермозг” выглядит довольно несуразно[34]. Семья – это что-то близкое и уютное, а гипермозг – что-то большое и пугающее. Даже смешно сравнивать! Однако именно такого эффекта я и добивался, сочетая эти два слова. Мне было важно показать, что информационные процессы, которые сильно напоминают работу человеческого мозга, могут происходить не только в каком-то непонятном интермозгонете в далёком будущем. Они происходят вокруг нас ежедневно и ежеминутно. Они характерны для любого социума, для любого коллектива, даже такого малого, как семья.
Этот короткий семейный диалог, как капля воды, отражает принципы работы гипермозга любого масштаба. В основе этой работы – информационное взаимодействие модулей. Правда, в семейном гипермозге модуль – это живой организм. А в других случаях модулями могут выступать объединения людей. Например, в парламенте это – партийные фракции, в рыночной экономике – корпорации, в науке – соавторы статьей или целые НИИ. Каждый модуль собирает информацию, перерабатывает её и делится с другими модулями. Естественно, нередко между модулями возникают конфликты. Но эти конфликты разрешимы, потому что есть общие правила, по которым модули общаются между собой. В результате гипермозг генерирует компромиссные идеи и вырабатывает коллективные решения. Мы видели, что так работает и гипермозг Википедии, и гипермозг науки, и гипермозг районного правительства, и семейный гипермозг.
Если бы нам удалось проникнуть в голову Киры, то мы бы и там обнаружили борьбу нейронных модулей. Один модуль ощущает тепло и уют комнаты. Другой сигналит, что на улице холодно и сыро. Третий придумывает отмазку – мол, нужно доделать домашнее задание. Четвёртый сочувствует собаке, которая хочет писать. Пятый обижается на брата… Чем этот внутренний мыслительный процесс отличается от внешнего диалога? Принципиально ничем. Вот почему так хорошо работает параллель между мышлением человеческого мозга и информационными процессами в социуме.
Что такое верхум?
Народная мудрость гласит: одна голова хорошо, а две лучше. Если следовать этой логике, то три головы лучше, чем две, а четыре лучше трёх. Но так ли это? К примеру, Булат Окуджава считал, что умный “ценит одиночество превыше всего”, а “дураки обожают собираться в стаи”.
Здесь я не могу не вспомнить одну историю. Сто с лишним лет назад Фрэнсис Гальтон рассказал её в солидном научном журнале[35], и с тех пор она много раз пересказывалась в научно-популярной литературе[36]. В 1906 году на Плимутской ярмарке проводился занятный конкурс. Посетителям показывали быка и предлагали на глаз оценить, сколько он будет весить после того, как его забьют и освежуют. Тех, кто даст самый точный прогноз, ждали призы. Желающих выиграть приз отыскалось аж 800 человек. И разумеется, среди них были не только специалисты-мясники, но и множество зевак. Гальтон, который оказался неподалёку, заинтересовался результатом. Нет, не тем, кто выиграл главный приз. Гальтон был статистиком и захотел узнать, насколько предсказание толпы разошлось с реальным весом быка. Он с дотошностью учёного проанализировал все билетики с прогнозами и выяснил, что средняя оценка веса быка составила 1197 фунтов. А его фактический вес оказался 1198 фунтов. Точность предсказания – 99,9 %!
Этот результат настолько потряс заслуженного учёного, что он написал научную статью с далеко идущими выводами. Гальтон предположил, что обыватели на ярмарке разбирались в разделке быков не лучше, чем избиратели в политиках и их программах. Но если усредненная оценка веса быка неспециалистами оказалась столь точной, то почему же не верить избирателям на демократических выборах? Пусть каждый из них по отдельности не в состоянии оценить все сложности политики, но вместе они могут обеспечить вполне надёжный результат. То есть демократия, она же власть народа, не так уж и плоха. Вы, конечно, вправе поставить под сомнение выводы Гальтона. В самом деле, можно ли судить о мудрости толпы по единичному случаю?
Но вот вам результаты солидных исследований, выполненных по современным научным стандартам. Несколько американских университетов объединили усилия, чтобы проверить, действительно ли коллектив умнее отдельного человека[37]. 700 испытуемых были разбиты на небольшие группы размером от двух до пяти человек. А потом каждой группе поручили выполнить несколько стандартных заданий, которыми обычно проверяют уровень интеллекта. Можно было ожидать, что результаты работы группы будут тем лучше, чем выше средний IQ её участников или чем умнее самый умный участник группы. Но нет. Факторный анализ показал, что основной вклад в результативность группы вносит совсем другой фактор, почти не связанный с уровнем интеллекта каждого из её членов. Учёные назвали его фактором коллективного разума. Причём уровень коллективного интеллекта каждой группы удалось оценить количественно. И чем он был выше, тем группа лучше справлялась с решением самых разных задач.
От чего же зависит уровень коллективного интеллекта? В первую очередь от умения каждого участника группы понимать других людей. А ещё обнаружилось, что коллективный разум тем лучше работает, чем больше в команде женщин и меньше “начальников”, которые тянут одеяло на себя. Видимо, женщины более общительны и склонны к компромиссу, что повышает умственные способности коллектива. А люди, жёстко навязывающие своё мнение, больше мешают, чем помогают. Коллективный интеллект повышается, если в группе есть люди с разным стилем мышления[38]. Разумеется, если они на всё смотрят по-разному, им трудно договориться, но умеренное разнообразие мнений и навыков только на пользу коллективному разуму.
Мне было приятно получить такое весомое подтверждение от науки, но вообще-то сам я ни минуты не сомневаюсь, что одна голова хорошо, а две лучше. Ещё в школе я начал играть на гитаре и сочинять песни. А поступив в университет, встретил там Алексея Иващенко, который тогда был младше меня на год, но в умении играть на гитаре и сочинять песни мне не уступал. Мы с Алексеем образовали дуэт. Каждый из нас умел делать то же, что и другой. Отчего же мы “собрались в стаю”? “Не от большого ума”, – сказал бы Булат Окуджава, который всю жизнь сочинял и пел один.
Но сейчас я осознаю, что, став творческим дуэтом, мы вытянули счастливый билет. Тогда, в 1980–1990-х, жанр авторской песни переживал расцвет, и нас вынесло на гребень волны. Мы дали сотни концертов в разных странах мира. Наш коллективный разум сумел сотворить такие песни, которые и спустя несколько десятилетий продолжают волновать людей. Ни один из нас по отдельности не смог бы этого достичь. И уж тем более по отдельности мы бы не создали “Норд-Ост”.
Вот несколько примеров нашего совместного творчества с Алексеем Иващенко – иллюстрации 1-06, 1-07, 1-08.

Илл. 1-06. “Несанкционированный концерт”. Мы дали его осенью 2022 года после 20-летнего перерыва в совместных выступлениях на большой сцене.

Илл. 1-07. Мюзикл “Норд-Ост” в первоначальной постановке. В таком виде спектакль шёл на сцене Театрального центра на Дубровке в 2001–2003 годах.

Илл. 1-08. Мюзикл “Норд-Ост” в передвижной версии. Эта версия спектакля была создана для гастролей по городам России в 2004 году.
Естественно, для создания мюзикла “Норд-Ост” нас двоих было недостаточно. К нашему коллективному разуму присоединились художник-постановщик, художник по свету, композитор-аранжировщик, дирижёр оркестра, хореограф, режиссёр по пластике, художник по костюмам, технический директор, проектировщики декораций, звукорежиссёры, педагоги детской труппы и многие другие талантливые люди. Мы увлечённо творили, понимая, что создаём нечто небывалое. “Норд-Ост” стал первым русским мюзиклом, который был сделан по бродвейской технологии. Мы начали показывать его, как на Бродвее, – каждый день в одном и том же месте. И это вызывало недоверие критиков. Нам говорили, что в России такое невозможно. Это противоречит традиции русского театра. Наши актёры не смогут ежедневно повторять на сцене одно и то же. Мол, спектакль через несколько показов начнёт разваливаться. Однако вышло с точностью до наоборот.
Через несколько десятков ежедневных показов мы обнаружили, что спектакль не только не разваливается, но улучшается прямо на глазах. Это происходило потому, что в работу нашего коллективного разума включились ещё десятки творческих людей. Актёры оттачивали пластику и вокал, делали своих героев более живыми. Музыканты оркестра играли всё слаженнее и выразительнее. Осветители, реквизиторы, костюмеры использовали каждую мелочь, чтобы сделать спектакль более зрелищным. Даже дети, которые играли на сцене, постоянно радовали творческими находками.
Честно говоря, тогда я даже не представлял, сколько человек было подключено к коллективному разуму “Норд-Оста”. Я узнал об этом только после теракта[39]. Тогда все люди, которые работали в “Норд-Осте”, лишились работы, и государство пообещало выплатить им пособие в размере двухмесячной зарплаты. Оформляя документы на это пособие, мы наконец пересчитали всех постоянных и временных сотрудников. Нас оказалось больше 400 человек.
Вам может показаться, что эффект коллективного разума возникает, только когда речь идёт о творческих проектах типа создания мюзиклов или научных теорий. Но нетрудно убедиться, что подобный эффект проявляется и во многих других ситуациях, когда люди сообща что-то делают. Давайте возьмём пример какой-нибудь коллективной работы, которая не создаёт ни культурных ценностей, ни даже материальных объектов.
Скажите – кто управляет кораблём? Первый ответ, который приходит в голову, – капитан. Но это не совсем так. Капитан ведёт корабль по курсу, который прокладывает штурман. Значит, штурман? Тоже нет. Порт назначения определяет не штурман, а судовладелец. Но и судовладелец лишь выполняет волю фрахтователя, который нанял корабль. Вы скажете, что это уже полный абсурд. Если и говорить, что кто-то реально управляет кораблём, то рулевой, который крутит штурвал. Крутить-то он крутит, но не по своей воле. Над ним стоит старпом, который сейчас в рубке за главного. Хотя и старпом тоже не свободен в своих действиях. Его решения зависят от сведений, которыми его снабжают главный механик, синоптик и боцман, а также от указаний капитана, который пошёл отдохнуть. Выходит, что кораблём никто по отдельности не управляет.
Вдумайтесь ещё раз в вопрос. Кто управляет кораблём?
Если и есть разум, который это делает, то он не принадлежит ни капитану, ни старпому, ни штурману, ни рулевому, ни судовладельцу. Тогда кому? Никому отдельно и всем вместе. Это их коллективный разум.
Когда я искал название для своей книги, я подумал, что было бы здóрово связать его с этим удивительным свойством человеческих сообществ – способностью мыслить коллективно. Первая мысль была взять готовый термин, каких учёные и философы напридумывали множество[40]. Но потом я обнаружил, что все уже придуманные слова делятся на две группы. Одни звучат слишком глобально, к примеру, “ноосфера” или “глобальный разум”. Другие – наоборот, слишком узко, например, “распределённое познание” или “групповой интеллект”. Мне хотелось найти слово, которое было бы применимо и на уровне всего человечества, и на уровне семьи. Короче, пришлось его придумать.
Помните, в предисловии мы говорили о “телесных” метафорах? Это метафоры, самые близкие к телу и поэтому самые доходчивые. Я вам сейчас задам несколько вопросов, а вы, пожалуйста, на них ответьте – только не словами. Просто покажите пальцем или рукой. Можете даже подбородком.
Где находятся законы и правила, которые вам приходится выполнять? Откуда к вам приходят удачные идеи? Куда улетает письмо, когда вы нажимаете кнопку “отправить”? Где царит непринуждённая атмосфера, когда вы в большой и весёлой компании? Где обитает общественное мнение? Куда попадает картинка, которую вы перепостили? Социальные сети – это вообще где?
Если вы потрудились ответить на эти вопросы хотя бы движением подбородка, то, скорее всего, обнаружили, что всё это находится где-то вокруг и выше вашей головы. Иными словами, всякий раз, когда мы подключаем свой ум к коллективному уму других людей, мы ощущаем, что подключились к чему-то наверху. Вот почему я остановился на слове “верхум”, которое можно расшифровать как “верхний ум”.
Верхум – это эффект разума вне человеческого мозга. Это способность социума мыслить подобно тому, как мыслит отдельный человек. Верхум работает, когда люди обмениваются идеями. Он генерирует, хранит и раздаёт знания. Человек наделён разумом, а общество – верхумом.
Когда мы говорим о человеческом разуме, то, как правило, имеем в виду целый комплекс психических черт. Это и память, и способность учиться, и приобретённые навыки, и абстрактное мышление, и ценности, и темперамент, и самосознание, и ещё многое другое, из чего состоит человеческая личность. Как мы увидим в дальнейшем, социум тоже обладает многими чертами личности. Поэтому я буду употреблять слово “верхум” не только в узком, но и в широком смысле. Верхум в узком смысле – это разум социума. Верхум в широком смысле – это личность социума.
В этой книге мы будем обсуждать самые разные верхумы – верхум семьи, верхум корпорации, верхум науки, верхум рынка, верхум церкви, верхум школы, верхум государства, верхум страны, верхум армии, верхум соцсети и многие другие. Мы разберёмся, как устроено мышление верхума и его память, как верхум учится, откуда берутся его цели, как верхумы рождаются и умирают, как они конфликтуют и уживаются. При обсуждении этих вопросов у вас может сложиться впечатление, что я употребляю слова “социум” и “верхум” как синонимы. Но это не так.
Как вам такая фраза: “Великий русский писатель Лев Толстой родился в 1828 году”? По мне, так она довольно нелепа, ведь новорождённый младенец по-русски ещё не говорил и не писал. Очевидно, что Лев Толстой как писатель родился гораздо позже, а уж великим мы его знаем только в образе седобородого старца. Фраза выглядит несуразной, потому что в ней смешаны два понятия – человек как живой организм и человек как личность, обладающая разумом и уникальным жизненным опытом.
Социум – это социальный организм, который состоит из живых людей, подобно тому как организм человека состоит из живых клеток. Как и человеческий организм, социум способен мыслить. На какой-то стадии своего развития он приобретает черты личности. И тогда верхум начинает направлять действия социального организма так же, как разум направляет действия человека. Во избежание недоразумений, как с великим младенцем Толстым, я постараюсь максимально развести понятия. Имея в виду социальный организм как таковой, я буду употреблять слова “социум” или “сообщество”. А слово “верхум” будет появляться, когда мне нужно будет подчеркнуть, что социальный организм – это личность, наделённая способностью мыслить, памятью и собственными целями.
Ну вот. Теперь вы знаете, что такое верхум. И это даёт мне прекрасную возможность одним махом ответить на основные вопросы этой главы:
– Кто пишет Википедию?
– Верхум.
– Кто руководит городом?
– Верхум.
– Кто создаёт мюзиклы?
– Верхум.
– Кто родитель квантовой механики?
– Верхум.
– Кто решает семейные проблемы?
– Верхум.
И наконец, самый главный вопрос:
– Кто управляет кораблём?
Ответ тот же:
– Верхум.
Заранее согласен с вашей критикой: отвечать на все вопросы одним придуманным словом – это, мягко говоря, неинформативно. Но не торопите события. Впереди ещё шесть информативных глав. Они помогут нам рассмотреть верхум с разных сторон и убедиться в его реальности и силе.
В третьей главе мы поговорим о мышлении верхума – чем оно похоже на человеческое мышление и чем отличается. Мы познакомимся с несколькими механизмами мышления верхума и увидим, как они сочетаются друг с другом в реальной жизни. Четвёртая глава посвящена верхуму в широком смысле. Мы убедимся, что верхум – это не только разум социума, но и его личность. У верхума есть память, он умеет учиться, он стремится к достижению собственных целей, а в некоторых случаях даже проявляет признаки сознания. В пятой главе мы увидим, как верхумы рождаются, растут, стареют и умирают. Мы вникнем в сложности отношений между разными верхумами, понаблюдаем, как они конкурируют и сотрудничают. В шестой главе мы углубимся в прошлое, чтобы понять, откуда взялся верхум и какую роль он сыграл в эволюции человека. Естественно, мы также поговорим об эволюции самого верхума. И наконец, в седьмой главе мы затронем самую чувствительную тему – взаимоотношения верхума и человека.
В общем, нам предстоит неблизкий путь. Но прежде, чем в него пуститься, нам нужно будет разобраться с принципиальным вопросом: что такое мысли верхума? Об этом и пойдёт речь в следующей главе, второй по счёту.
Глава 2
Мысли и мемы
Как выглядят мысли верхума?
Знания, ценности, правила, технологии, традиции, верования – все эти идеи, которые возникают и накапливаются в социуме, Карл Поппер предложил называть “объективным знанием”. Юваль Харари предпочитает собственный термин – “коллективное воображение”. А мне больше нравится слово, которое употребляют эволюционные биологи, – старое доброе слово “культура”.
Биологи, изучающие поведение животных, вкладывают в это слово особый смысл. Для них культура – это знания и навыки, которые одно животное может перенять от другого при жизни. Не удивляйтесь этой странной приписке – “при жизни”. Разумеется, после смерти никакое знание уже перенять нельзя, однако его можно получить до рождения. Родитель передаёт потомству свои гены, а вместе с ними – врождённые инстинкты. Вот почему биологи говорят о двух способах передачи информации – генетическом и культурном. Передавать друг другу информацию негенетическим путём способны очень многие животные – и млекопитающие, и птицы, и даже насекомые. Хотя по-настоящему развитой культурой обзавёлся только человек.
40 лет назад Ричард Докинз предложил по аналогии с понятием “ген” ввести понятие “мем”[41]. Если ген – это единица генетической информации, то мем – единица культурной информации.
Новое слово сразу всем понравилось. За годы своего существования оно успело покинуть кабинеты учёных и уйти в народ. Но народ стал его понимать не совсем так, как предлагал Докинз. В сети мем – это просто завирусившаяся картинка или видео. Впрочем, Докинз может быть доволен. Он видел аналогию между геном и мемом в том, что они умеют создавать собственные копии и при этом иногда мутируют. Интернет-мемы так и работают. Они широко расходятся по сети, если нравятся людям. То есть они самокопируются. Порой на базе старых интернет-мемов возникают новые. То есть они мутируют. Для примера я собрал на рисунке (илл. 2-01) несколько интернет-мемов с Джокондой[42].

Илл. 2-01. Мутация интернет-мема.
В учёном мире слово “мем” тоже стало популярным, причём настолько, что даже появилось отдельное научное направление – меметика. Его главная цель состояла в том, чтобы применить к мемам концепцию дарвиновской эволюции. Однако через некоторое время интерес к меметике заглох. Одной из причин этого стало упрямство учёных. Они так и не смогли договориться, как следует понимать слово “мем”[43]. Одни считали, что мемы – это идеи в головах людей. Другие настаивали на том, что мемы – это не идеи, а слова, жесты, картинки и другие символы, с помощью которых информация передаётся от человека к человеку. Мы с вами в этот спор можем не ввязываться, потому что существует третий вариант.
Мы будем придерживаться изначального определения: мем – единица культурной информации. А в слово “культура” будем вкладывать тот же смысл, что и Поппер – в своё “объективное знание”, а Харари – в своё “коллективное воображение”. Мем – это не мысль в голове и не символ, кодирующий информацию. Мем – это идея, которая существует вне мозга.
Вспомните злых инопланетян, которые не смогли уничтожить нашу цивилизацию, потому что забыли про библиотеки. Мы сумели быстро воссоздать наши машины, компьютеры и интернет, потому что осталась жива наша культура. А культура выжила благодаря тому, что библиотеки сохранили наши мемы.
И мысль, и мем – идеи. Но природа у них разная. Мысли в человеческом мозге порождаются благодаря взаимодействию нейронов и нейронных модулей. А мемы возникают при взаимодействии людей, когда они пытаются передать друг другу свои мысли.
Все компьютеры, сошедшие с конвейера, одинаковы. В них можно загрузить одну и ту же информацию, запустить одну и ту же программу и получить один и тот же результат. С мозгами так не получается. Ни один не похож на остальные. Миллиарды нейронов в мозге каждого из нас сплетены в уникальную сеть. Вот почему мы не можем просто перекачать мысль из одного мозга в другой, как информацию из компьютера в компьютер.
Посмотрите на эту старую чёрно-белую фотографию (илл. 2-02). Она вам что-нибудь говорит? Когда я бросаю взгляд на это фото, миллионы и миллионы моих нейронов начинают интенсивно трудиться. Мой мозг определяет контуры объектов, отделяет их от фона, заливает оттенками серого и показывает мне. Параллельно он распознаёт лицо женщины на этом фото, и я узнаю свою маму. Второе лицо моему мозгу распознать труднее, потому что живьём я себя в этом возрасте не помню. Но мозг роется в памяти и достаёт оттуда информацию, что это я. Ну конечно, ведь я и раньше видел эту фотографию. А потом мой мозг как-то там колдует с нейромедиаторами, и я наполняюсь теплом от маминой улыбки. И я тоже улыбаюсь, потому что в этот момент у меня в мозге срабатывают зеркальные нейроны. Потом моя улыбка становится печальной, потому что мой мозг вспоминает, что моей мамы больше нет. И меня начинает мучить раскаянье, что меня не было рядом, когда она уходила, и что я не нашёл нежных слов, когда мы прощались с ней, как оказалось, навсегда. И поверх всего этого – большое и сложное чувство любви и благодарности.

Илл. 2-02. Моя мама. Запорожье, 1958 год.
Вот что такое моя мысль о маме, когда я смотрю на эту фотографию.
Когда мы обмениваемся друг с другом словом “мама”, всем понятно, что имеется в виду. Но при этом в мозге каждого из нас возникает масса ассоциаций с этим словом, которых не найти ни в одном другом мозге. Ведь у каждого из нас мама своя – и у меня, и у вас, и у Алексея Иващенко. Почему же мы в состоянии понять друг друга? Потому что в наших мыслях о маме есть нечто общее. Эта общая идея и есть мем. То есть мем – это абстрактный смысл слова “мама”, понятный и мне, и вам, и Алексею.

