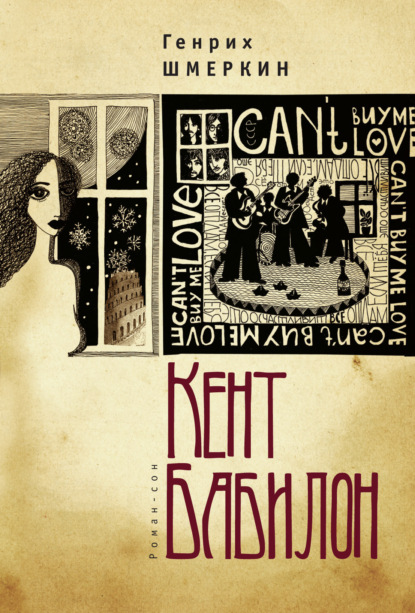
Полная версия:
Кент Бабилон
– Зачем мне это надо? У меня хорошая служба и никакой материальной ответственности. А на твоём складе у меня будет пухнуть голова за каждую портянку.
– Хорошо, – говорит Рогов, – не хочешь переходить, тогда просто помоги. Я знаю евреев, у них хорошо работает голова.
И он рассказал, что через неделю ожидается ревизия из штаба округа. И у него не хватает 200 простыней. Одна простыня стоит шестьсот рублей. А 200 простыней – это уже сто двадцать тысяч. И денег у него таких, понятно, сроду не было, и светит ему трибунал, а у него мать-учительница и брат – председатель колхоза.
– Ладно, говорю, а куда ты эти простыни девал?
– Ты понимаешь, говорит, я простынями с бабами рассчитывался. За каждый раз простынку давал.
– Хорошо, говорю, через три дня мы с тобой едем в город Крупки.
– А почему через три дня?
– Потому что через три дня – воскресенье.
И вот в воскресенье мы едем в город Крупки, и с собой у нас – два порожних вещмешка. Мы приезжаем на толчок. И там, у торговки жмыхом, я спрашиваю, где можно купить домкрат.
Рогов говорит:
– При чём здесь домкрат?
А я говорю:
– Подожди, скоро увидишь.
И мы с ним идём туда, где можно купить домкрат. И я вижу то, что нам нужно. И я спрашиваю у продавца, что он за это хочет. И продавец отвечает, что хочет за это 40 рублей.
И я беру у Рогова 40 рублей и отдаю продавцу, не торгуясь.
– Что ты делаешь, Мотя? Это же тряпьё, которым шоферня протирает машины! – говорит Рогов.
– Нет, говорю я. Это не просто тряпьё. Это белое тряпьё.
И мы затариваем этим тряпьём вещмешки. И я говорю Рогову, что он должен сказать комиссии, что это и есть его простыни. И они просто изорвались от частой стирки.
– А печати? На них должны быть печати, – говорит Рогов.
– Не волнуйся, будут тебе печати.
И мы приезжаем в часть, и я мажу ваксой старый каблук от сапога, и штампую на этих тряпках “печати”.
Короче, заявляется к нему ревизия – один капитан и три подполковника – и у него этот номер проходит, как шашка в дамки. И он приволакивает мне литруху чистого медицинского спирта, кило крестьянского масла и копчёную тюльку, и мы с ним принимаем на грудь, и его – как прорывает:
– Спасибо, Мотюха! Я же говорил, у евреев хорошо работает голова, сам бы я никогда бы до такого не допёр.
А я ему:
– Капитан, ты же умный человек! Зачем было им простыни давать? Ты что, не мог любить баб за так? Как я!».
Кармэн
Воинский долг родине я отдавал в Чернигове, в училище лётчиков-истребителей. Загородный этот плацдарм утопал в зелени и походил более на профсоюзный санаторий, чем на обычные военные части – с их сивокирпичными казармами, гулкими плацами и голым асфальтом. Рядом с оркестровым «манежем», в тени каштанов, прятались беседки, парикмахерская, буфет и ателье военного индпошива. Ближе к КПП дислоцировались офицерские огороды. На огородах застенчиво краснели помидоры, набирались зрелости огурцы и прочие витамины, которых так не хватало молодым растущим организмам.
Корячиться на плантациях приходилось командирским жёнам. Сами офицеры до холопского труда не опускались, а привлекать солдат и курсантов (пусти козла в огород!) опасались. Лейтенанты-майоры-прапорщики выполняли привычную мужскую работу: заступали ночами в дозор, охраняя грядки от вражьих набегов. А за забором – было небо, сказочный Черниговский лес, прохладная речка Стрижень, кучная стайка деревенских хаток и озерцо, полное рыбы.
…Нас было ровно пятьдесят музыкантов-бойцов: 20 кусков, 20 срочников и 10 воспитонов. Трубачи, кларнетисты, флейтисты, тромбонисты…
Оркестром командовал майор Дунькин – крупнолицый человечек с волнистой шевелюрой и удивлённым взглядом на мир.
Времени на разучивание маршей уходило, на удивление, мало. Играли мы, в основном, симфоническую – самую что ни на есть цивильную – музыку. Концертировали по военному миру, выступали на городских торжествах.
Оркестр размещался во втором этаже двухэтажного краснокирпичного здания старинной постройки – с «дебелыми» стенами, высоченными потолками и просторными окнами.
Репетиции проходили в Студии. Это была мрачная душная горница с видом на курилку.
Стены Студии были обиты звукопоглощающей тканью. Помимо звуков ткань поглощала время. Репетировать я был готов сутками – голова была занята форшлагами, трелями, триолями, отсчётом пауз, в эти минуты я не думал о Марине.
В глубине стоял 12-створчатый шкаф, в котором хранились наши дудки. Рядом со шкафом помещался рояль «J. Becker».
Посредине, у стены – дирижёрский амвон. На нём – тучный, как дирижабль, дирижёрский пульт из «отлетавшегося» алюминия. Перед амвоном – квадратно-гнездовым способом – расставлено 50 «уставных» табуретов с прорезью на сидении. Перед каждым табуретом стоял металлический пюпитр.
А через стенку находился кубрик с двумя рядами идеально заправленных двухъярусных коек.
В предбаннике, напротив входного проёма – стеклянный саркофаг с «мумией» боевого красного знамени, пробитого немецко-фашистскими пулями. Тумбочка с телефоном, бачок с питьевой водой, электронный блок «тревожной» сигнализации. Книжная полка с одиноким «Воинским уставом». Дальше по коридору – шесть массивных дверей. Первая – в кабинет майора. Вторая – в Ленинскую комнату. Третья – в каптёрку. Четвёртая – в Студию. Пятая – в кубрик. И шестая – вела в туалет.
В узком туалете – друг против друга – сияли хлоркой два белоснежных эмалированных очка. Когда оба очка были задействованы, «действующие лица» едва не упирались лоб в лоб, навевая воспоминания о «борьбе нанайских мальчиков».
На первом этаже, под оркестром, размещалась почта и переговорный пункт с единственной телефонной кабинкой. Каждое утро к нам заходил почтальон и передавал дежурному рыхлый холщовый мешочек. В мешочке, как правило, были газеты и несколько писем.
Прессу дежурный относил в Ленинскую комнату, а письма раздавал лично, заставляя счастливцев плясать.
Вне Студии мы обращались к Дунькину: «товарищ майор!».
В Студии же, во время репетиций – он просил называть его не иначе как «Григорий Борисович». Потому что он не какой-нибудь солдафон, как некоторые майоры. Он музыкант. Только в военной форме.
Душными летними вечерами – когда письма родным были написаны, валторны надраены, а Ленинская комната блестела, «как котбвы яйца», – музыканты-срочники собирались в курилке. Находилась она под открытым небом (чуть не ляпнул – на свежем воздухе), рядом с казармой и представляла собой квадрат 2 на 2 метра, образованный четырьмя вкопанными по периметру, выкрашенными в защитный цвет скамейками.
В центре квадрата щерила дымящееся жерло коричнево-зелёная урна (здесь мне никогда не согласиться с университетским профессором Сенькой Пузенко, утверждавшим, будто «урна есть условное обозначение места, вокруг которого следует бросать окурки»).
В курилке той – до самого отбоя – солдаты вспоминали гражданку.
Иногда это были мемуары о еде.
Подробно рассказывалось – что, где, с чем, в каком количестве, под что.
Короче, садо-мазо…
Яичница! Янтарно-мраморная яичница – из трёх полновесных яиц – под хрусткие солёные огурцы и пенные помидоры «со слезой»!
Картошка, поджаренная на сливочном масле – распаренная, томящаяся, прямо со сковороды…
Слоёный мамин «наполеон» с заварным кремом, инкрустированный шоколадными и ореховыми звёздочками…
Вязнущие в топком желе заливные языки, не успевшая остыть кулебяка, домашний борщ из капусты, картошки, морковки и свеклы, припущенные в томате тефтели величиной с апельсин…
Подробно описывались рецепты, вкусовые и ароматические оттенки. В воздухе витали пары булькающих кастрюль, дымки коптилен, фантомы жарящихся цыплят и фаршированных телячьей печенью бараньих сёдел.
Но чаще, конечно, рассказывали про женщин. Когда, какую и как…
Затягиваясь удушающим табачным дымом (сигареты «Северные», 7 копеек пачка), истосковавшиеся по нормальной человеческой жизни бойцы ощущали сладкий запах женского тела, оглушительный аромат духов…
Парфюмерией несло от интенданта-прапора, сидящего рядом.
Прапор, не разуваясь, с мученической миной, заливал в свои грибковые кусковские туфли дезинфицирующую «тройняшку».
…Развёрнуто воссоздавались блузки-юбки-лифчики-трусики, габариты, округлости, стоны, конфигурация изгибов. Сообщалось, чья она жена…
Встрять со своей историей было нелегко. Что рассказать – было почти у каждого.
Мне было 27.
Одиннадцать месяцев назад я женился на Марине…
Слушая откровения 19-летних «казанов», думал только о ней. Где она сейчас? Что делает? С кем говорит? Был страх. Страх оказаться рядом. Что-то узнать. Увидеть – с кем она. Где. Во что одета. По какому такому случаю?..
На фаготе у нас играл киевлянин-подолянин Лёня Лантух, по кличке Кармэн.
Кармэном его прозвали за вороний нос.
«Каррр! – мэн».
В армию Лёню загребли сразу после получения школьного аттестата.
Вечерами Кармэн, пуская слюнки, слушал рассказы донжуанов срочной службы.
Однажды Лёня не выдержал:
– И мне есть что вспомнить на гражданке, – вздохнув, сказал он. Наступила тишина. Все считали Кармэна девственником.
– Это случилось на выпускном. Вернее, сразу после выпускного, – продолжил Лёня. – Получили мы аттестаты. Потом танцы-шманцы. Алкоголя не было. Почти. В основном – ситро, чай. Ансамбль «Кобзу» пригласили. Танцевали до четырёх. Потом пошли ко мне – всем классом. Догуливать. Родители уже ждали. Оливье, селёдочка, картошечка, котлетки. И водка с шампанским. Короче, целая свадьба. Постарались предки от души. И вот посидели мы, значит, как следует, выпили, магнитофон включили. А одной девчонке, Нэсе Зельцерман – она, видно, никогда не выпивала – вдруг плохо стало. Здоровенная такая шпала, морда кирпича просит, мы её «Лох-Нэсси» дразнили. И вот эта самая Нэся вдруг возьми да и свались со стула. Прямо за столом. А девчонки её подняли и в ванную отвели. Стали в чувства приводить. Раздели до пояса, над ванной наклонили и начали из душа поливать, холодной водичкой. А я как раз мимо проходил, дверь приоткрыта была. Смотрю – стоит Нэся, красивая такая, бледная, практически (мне хорошо запомнилось это слово: «практически») голая, волосы мокрые, и (тут наш Кармэн расплылся в светлой улыбке!) – у неё такая большая белая грудь…
Всё отдам…
Каррр!!!
Варежка
«Семейные проблемы? Коварная соперница отбила вашего мужа?! Очаровательная сексапильная блондинка отобьёт его вам обратно!»
Объявление в газетеРазреши тебе представить, читатель: профессор Семён Васильевич Пузенко.
Он, правда, не слышит, он далеко. Поэтому заложу тебе его кликуху.
Нет, не Пузя. С чего ему Пузей быть, если худющий, как щепка?!
Профессора Пузенко с младых ногтей дразнили Варежкой…
Ходил Сеня на полусогнутых. А «Варежка» – потому что зимой и летом в варежках парился.
Крючковатый нос и рыжеватые усики – от матери-еврейки.
Ноги вприсядку и шестипалость – от украинца-отца.
Смесь получилась офигеннейшая.
У Семёна сразу два таланта: он атомный (это не специализация, а степень офигенности) физик и атомный джазмен.
Рук своих стеснялся страшенно. Шесть пальцев всё-таки. Только дома варежки и снимал. И на эстраде – когда за рояль садился.
Пальцы длинные, как ни у кого – особенно мизинец. Издали можно подумать, что выпить всем предлагает.
Из музыкальной школы вытурили – из-за проблем с аппликатурой.
Когда поступал, на ненормативную анатомию внимания не обратили. Проблемы начались потом. В нотах – всё для пяти пальцев расписано. Примитив. А Семёну нет мазы – в такие игры играть. Он всей шестернёй ворочать может. И музыка получается иная. Не такая, как у аллес-нормалес.
– Нет, – сказала завуч Вера Емельяновна Чибисова, – такого допустить мы не можем – чтобы всякие с нетрадиционным числом пальцев, вразрез с программой ГОРОНО, чем попало в клавиши тыкали!
Короче, выгнали Варежку с треском.
И подобрал юного Сенечку Григорий Евсеевич Пинхасик, администратор театра музкомедии, и посадил за пианино в «джаз-банду», играющую в фойе на втором этаже – до и после спектаклей.
И тут – странное дело – начали все замечать, что у Варежки, как только он свою дюжину в клавиатуру погружает (неважно – солирует или подыгрывает), в глазах сразу свечение появляется. Носище страшный исчезает, и улыбка появляется – обаятельнейшая. И такие аккорды он из инструмента выковыривает, что просто обнять и плакать! Такое ни Игорьку Брилю, ни даже неграм не снилось! А образования музыкального нет. Поиграл-поиграл, а потом заладил: «Давайте джазовую программу делать – тарификацию пройдём!». Для него это единственная возможность – стать музыкантом в законе. Потому что для музшколы он переросток был, семнадцать уже всё-таки. Я имею в виду: лет – семнадцать… И ни в консу, ни в бурсу тоже не возьмут. По той же причине. Неправильный рентген руки. Значит, надо тарифицироваться! Одному не разрешают. Только с коллективом. Надо-то надо, а только никто не хочет. Никому это не нужно. У нас ведь один хрен – тарифицированный ты или нет. За вечер пять рублей в зубы и – привет семье. А программу подготовить – не так-то просто. За аранжировки нужно бацулить… И за репетиции нам (я тоже в то время в джазе Григория Евсеевича – на тенорушке – играл) никто ни черта не башляет. Вот и прикинь… Короче, не захотели мы тарифицироваться. И свалил Варежка от нас – в ДК строителей, к Маркизу в биг-бенд. И учиться поступил не в консу, а на физтех универа. И там, в универе, оказалось, что у него не только шесть пальцев на каждой лапе, у него ещё и во лбу – семь пядей. Через год сразу на третий курс, на своих полусогнутых, перескочил. Всё это время на танцульках подрабатывал, у Маркиза. Девчонки – из тех, что на пляски бегали – от него просто таяли. Стоило им Сеньку увидеть, – когда он «при исполнении», у рояля, втрескивались с полуоборота. А потом уже и не замечали – что нос крючком, что ходит на полусогнутых… Женился на скрипачке. В колхоз-миллионер с ней съездил – встречать делегатов XXIII съезда. А после концерта был банкет. Самогон, куры, арбузы до отвала. Остались, заночевали. А через три дня Варежка, на своих полусогнутых, в ЗАГС её повёл – заявление подавать. Он скубентом тогда ещё был. Через месяц приходят они в ЗАГС расписываться. В свидетелях – шеф его Маркиз с супругой. Но записали ребят только со второго захода, с первого не получилось.
…Регистраторша говорит:
– А сейчас прошу невесту – в знак любви и согласия – надеть жениху кольцо на безымянный палец правой руки.
И чувствует регистраторша, что в глазах у неё – «сплошная двойня». Голова кругом пошла…
Недаром, буквально вчера, говорила ей приятельница – зав. индпошивом Ариадна Алексеевна Кутикова: «Ну что ты, Люсенька?! Нельзя быть такой чувствительной. В моём форшмаке, например, ты почувствовала и яблоко, и варёную треску…».
Оклемалась Люся на следующий день. Подарили ей молодожёны, за такие страдания, флакон «Красной Москвы». И вручила она им свидетельство о браке, только глаза всё время в сторону отводила.
…Окончил Варежка универ. В НИИ работать пошёл, защитился.
Родил с женой трёх сынов и влюбился в буфетчицу, которая в «Пассаже» на бутербродах стояла.
Взял у неё как-то целых четыре бутерброда (голодный был, как собака!), встал рядом и начал жрать. Полбутерброда заглотнул, – чувствует, наелся. Верней – не наелся, а потерял аппетит. Сам не понимает, почему. Возможно, колбаса маленько не того… А возможно, и другое. Я тоже не очень врубаюсь, отчего он аппетит потерял. Ничего особенного в той буфетчице не было. Буфетчица как буфетчица. Даже описывать не стану. И бутерброды у неё всегда с левой резьбой были – здоровущий кусок батона без масла, а сверху – тоненький (как писк умирающего комара!) кусочек колбаски, иногда любительской, иногда эстонской – как когда.
Короче, ты понял, читатель. Перехотелось Варежке принимать пищу.
Путь к сердцу мужчины лежит через желудок?! Возражений нет, связь с желудком – налицо. Но какая? Я ведь тоже, когда влюблялся, есть не мог…
Варежка-Пузенко подходит к буфетчице и начинает выяснять, сколько приблизительно лет этим бутербродам, и как её фамилия, и не примет ли она у него бутерброды обратно – совершенно при этом не понимая, что поражён в самое сердце. А она отвечает, что бутерброды режет не она, и что это совершенно неважно, какая у неё фамилия, и предлагает Варежке пройтись по Сумской выше, до театра Шевченко, а там, на левой стороне, будет комиссионный магазин, куда сдают подержанные вещи. И что именно туда ему, возможно, стоит обратиться. И что там у него, возможно, примут его три с половиной бутерброда, но больше чем за один бутерброд он всё равно вряд ли выручит. И ещё она ему сказала, что жлобов за свою жизнь повидала не приведи господи, но такого – ни разу.
А он всё это выслушал и – как запустит в неё бутербродами!
Скрутили Варежку, милицию вызвали. Акт составили.
Фамилия её Трепачёва. Зовут Людмила Ивановна. Проживает: проспект Ленина, 54, кв. 22. Стал он у этой Люси бывать – и на работе, и дома. На танцы она к нему зачастила. Но от жены не уходил. Не хотел сиротить детей – сначала троих, потом четверых, потом пятерых сиротить не хотел. Люсю тоже не хотел бросать. Потому что любил. И тут слегла жена. Нехорошее что-то.
Всё успевал. И детей в школу выпроводить, и прибрать-постирать, и обед сварить, и уроки проверить, и к Люське, на проспект Ленина, заскочить. И, самое главное, – в выходные в ДК – на рояле душу отвести.
Но – всё до поры до времени. На смену оркестрам пришли ВИА. Пианисты побросали свои пианино и начали свиристеть на «иониках» (так звались у харьковского бомонда клавишные). Контрабасисты подались в бас-гитаристы. Маркиз тоже – предложил Варежке с пианино на ионику перейти. Шестьдесят рублей в месяц всё-таки. На дороге не валяются. А не перейдёшь – гуляй Вася, и скатертью дорожка! Попробовал Варежка. И так, и сяк звук выставлял. Не получается. Не может он этот визг-скрежет слышать. Хотя другие перешли, не моргнув. Для других это – как два пальца об асфальт… Извиняюсь, что снова про пальцы.
Уволил Маркиз Варежку.
Это в семьдесят четвёртом было. Тогда все на ионики да на электрогитары переходили.
Рассказывают, приехал в Харьков сам Алексей Козлов – со своим «Арсеналом». В «Украине» у него три консервы было.
Варежка билеты на все три достал. Пришёл за два часа до начала. В «Украину» ещё не пускают, в кафе-мороженое зашёл. Взял чашечку шоколада горячего (на улице ноябрь). Смотрит, – через два столика – Алексей Козлов собственной персоной. Бросился к нему, умоляет: «Я пианист! И тоже играю джаз! Послушайте, как я играю!».
Ну, а Козлов, говорят, большой интеллигент. Ему неудобно человека сразу на три буквы посылать. Поэтому он Варежке и говорит:
– Приходите ко мне в гостиницу «Харьков» через неделю, в 412-й номер. Я вас с удовольствием послушаю.
А Варежка в курсе, что Козлов через неделю – уже в Днепропетровске.
И оголяет тут Сеня свои шестерёнки, и начинает ими, в натуральном виде, щеголять. И так разворачивает, и этак.
Козлов, как увидел, – аж затрясся. Сразу понял, что к чему. Пойдёмте со мной, говорит.
Заходят в «Украину». И прямо на сцену. Раздеваются, шмотки на рояль бросают. Они вдвоём, больше никого. Не успел Варежка и трёх аккордов своими двенадцатью надавить – Козёл уже в экстазе. Саксофон распаковывать мчится.
Короче, налабались вдвоём от пуза.
А после того как налабались, вытащил Козлов бутылку «Ахтамара», и оприходовали они её вдвоём – только так.
Вскоре двери захлопали, оркестранты появляться стали. Варежка стесняется. Руки обратно в варежки засовывает.
Говорит Козлов Варежке: «Ты чего руки прячешь? Такими руками гордиться нужно».
А Варежка стоит и не знает, что ответить.
Всё, говорит Козлов, решено. Беру тебя в «Арсенал». Квартира в Москве, ставка солиста, да плюс халтуры.
Варежка от радости чуть не прыгает.
Только не на рояле играть будешь, говорит Козлов, а на ионике.
Как услышал это Варежка, побледнел сразу сильно и говорит самому Козлову, золотому саксофону нашей страны: «На ионике – никогда!»
Козлов его уболтать пытается, ну как же, мол, как же! По свету поездишь, мир увидишь: Омск, Свердловск, Ухту, Запорожье, Краматорск, Нарофоминск…
Оделся Варежка, из «Украины» вышел, даже на консерву не остался.
Такие проблемы…
Десять лет прошелестело. 85-й на дворе.
Работаем в «Богдане» ни шатко ни валко, с Электрошуркой. В месячишко – по пятихаточке выруливаем. Минимум. Отыграли как-то первое отделение, вышли покурить, воздуха глотнуть. Зима была. Вижу – со стороны трамвайной остановки, на полусогнутых, Варежка чешет. В варежках, как обычно. Пожилой уже, можно сказать, мужик. Видбс – обшарпанней не бывает. Пальтишко на нём засмальцованное. Рукава – коротковатые, посеченные, как объявление с телефонами. Типа «обрывай – не хочу». Как школьник-переросток. С сумками какими-то отвратными…
– Привет, Сеня!
– Привет!
– Как дела?
– Спасибо, на букву X.
– В каком смысле?
– В смысле, хорошо.
– Ну, рассказывай.
– А что рассказывать? Оле (Оля – его жена) коляску-инвалидку дать должны. Третий год никак не дадут. На лапу совать надо. С деньгами – полная засада. В институте второй месяц зарплату не дают. Старший, правда, женился. Уже легче. В таксопарк мойщиком устроился. А остальные на мне. Веня и Яша в политехе, Витька консу оканчивает. Пианист, в меня пошёл.
Я, между нами, детей его никогда не видел. Точно сказать, что значит «в меня пошёл», не могу.
– А у Валерика, у младшенького, аллергия буквально на всё, – продолжает Варежка. – И Людмила Ивановна моя тоже не очень. Сына её от первого мужа в тюрьму посадили, три года дали. Говорит, что не воровал. Тёмное дело, короче. Мается Люсенька, места себе не находит. Она без него – как я без неё. Такие дела. А на работе всё нормально. Сто двадцать «красных уголков» – тьфу-тьфу-тьфу! Экономическая выгода – только держись! Вот, в домовую кухню профсоюз талоны выделил. Пойду, рисовую кашу и пирожки с капустой получу. Отличное, что ни говори, подспорье.
– А на фано не играешь, Сеня?
– Играю. Фано дома отличное, «Ibach und Söhne». Приходи – вместе «Самер тайм» зашарашим.
– А на ионике, Сеня?! Лабал бы сейчас на ионике и в хрен бы не дул!
– Да нам, в принципе, хватает. По ночам пристроился садик охранять. Работа непыльная. Ведро картошки деткам начистил – и спи, сколько влезет. И зарплату не задерживают.
– А мы на их задержки чихать хотели. Мы своё и без зарплаты вырулим.
– Извините, чуваки, Оля кашу ждёт, кормить пора.
И попилял он со своими талонами в кухню для нищих.
Сто двадцать изобретений всё-таки, учёный, видать, нехилый. И музыкант – не из последних…
Хорошая, как говорится, голова, а дураку досталась!
Адольф
После того как из нашего «фойерного» (не от «фойер», а от «фойе»), музкомедийного джаза свалил Варежка, Гриша Пинхасик привёл нового пианиста.
Звали новичка Адольф Яковлевич Хилоидовский, он годился мне в отцы.
У Адольфа был хищный сионистский нос, голову украшал слиток свалявшихся рыжих волос, смахивающий на вычурный золотой портсигар.
Казалось – над матральником Хилоидовского поработал неумелый бутафор. Нос Адольфа Яковлевича смотрелся так, будто его наклеили наспех.
Надыбал его Пинхасик в симфоническом оркестре филармонии, где Хилоидовский играл третью скрипку.
…Адольф рассказывал, как в войну дали ему деревенские пацаны прозвище Гитлер. Отец на фронте погиб, а сын вдруг – Гитлер!
В войну Адольф с матерью в эвакуации были. В Узбекистане, под Ташкентом. И приписаны – к бахчеводческому колхозу имени товарища Герцена.
Пошёл Адик к председателю сельсовета товарищу Прохорову и попросил выправить «Адольф» на «Аркадий».
И сказал ему председатель, что менять имя – это просто дурь. Потому как в канцелярии небесной уже записано: «Адольф». И числиться ему там – Адольфом – по гроб жизни, несмотря на сельсовет и прочие высшие инстанции.
И что сам он после 1917-го тоже хотел имя сменить, но отговорила его маманя, земля ей пухом. А сейчас – и в голову никому не придёт – такого имени стесняться. А по тем временам звучало оно так, что не приведи господи.
Неудобно Адику стало, что не знает, как председателя кличут.
– Извините, а как вас зовут? – спросил Адик у товарища Прохорова.
– Очень просто, – ответил тот, – Николай.
Парткотлеты
В тот день в Музкомедии проходила городская партконференция.
Напустили полный зал коммуняк и прочей выдвижимости. Вечером для участников давали «Весёлую вдову».

