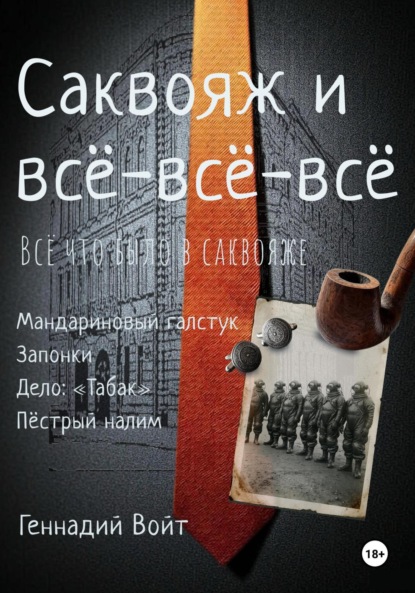
Полная версия:
Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже
– Смотрите, – прошептала Дарья, проводя пальцем по деревянной раме, обрамлявшей циферблат, – здесь какие-то отверстия.
Действительно, по обеим сторонам циферблата в искусной деревянной инкрустации виднелись два небольших отверстия, настолько аккуратных, что их легко было принять за часть узора.
– А что если… – я взял у Дарьи одну из запонок и осторожно вставил фиксатор в левое отверстие. Он вошёл в него с мягким, точным щелчком, будто две части одного механизма, разделённые веком, наконец нашли друг друга.
Дарья, затаив дыхание, проделала то же самое со второй запонкой.
Мы переглянулись. Я кивнул. Она – в ответ. И мы одновременно повернули запонки.
– Ну вот, – вздохнула она, нервно поправляя выбившуюся прядь волос, – я уж думала…
– А чего мы, собственно, ждали? – пробормотал я, пытаясь скрыть разочарование. – Что это сработает и мы найдём клад?
Дарья рассеянно вертела в руках свою запонку, разглядывая причудливый узор.
– Постойте-ка… – она прищурилась, поднесла запонку ближе к настольной лампе. – А вы заметили? Один, два… семь желудей! Точно такие же, как и на циферблате. На вашей запонке тоже есть?
Я кивнул, разглядывая свою:
– А на моей… Девять, – произнёс я и вдруг меня осенило. – Дарья, а что если… Что если нужно повернуть их определённое количество раз? Семь и девять?
Мы переглянулись.
Снова вставили запонки. Я досчитал до девяти, Дарья – до семи. Тишина. Только маятник продолжал лениво покачиваться.
– Чёрт возьми, – пробормотал я и уставился на циферблат. – А что если…
Я принялся считать жёлуди на часах, водя пальцем по бронзовой поверхности. Дарья следила за моим подсчётом, беззвучно шевеля губами.
– Шестнадцать, – объявил я. – Как на обеих запонках. Но зачем? Какой в этом смысл?
Дарья молчала. На её лице застыло то особенное выражение, которое появляется у людей за секунду до важного открытия. Она протянула руку к часам и осторожно повернула стрелки. Минутная стрелка замерла на двенадцати, часовая – на четвёрке.
– Шестнадцать часов, – прошептала она.
– Точно! А вы молодец, – хмыкнул я.
Мы снова взялись за запонки. Семь поворотов, девять поворотов. Внутри часового механизма что-то сухо щёлкнуло, затем раздался мелодичный звон, будто упала маленькая серебряная ложечка, и циферблат отскочил, как кассетный лоток на старых советских магнитофонах, открывая тёмное нутро часов.
Я даже невольно отпрянул.
– Невероятно! – выдохнула Дарья, хватая меня за рукав. – Смотрите, смотрите!
Сразу за циферблатом блеснула круглая бронзовая дверца, в которую было искусно вделано небольшое зеркало. На его поверхности изящной вязью было выгравировано: «Antoine Lemorge».
– Антуан Леморж, – прочитал я вслух. – Должно быть, часовой мастер?
Дарья уже достала телефон и быстро застучала пальцами по экрану.
– Ага! – воскликнула она через несколько секунд. – Антуан Леморж, русско-французский часовщик XIX века. Известен созданием уникальных часовых механизмов с секретами для аристократических семей. Считался непревзойдённым мастером сложных часовых головоломок. – Она подняла на меня глаза, и в них уже не было страха, только азарт исследователя. – Кажется, Виктор, мы только что нашли ключ. И совсем не от часов.
***
Всякий губернский город, если он себя хоть сколько-нибудь уважает, обязан иметь свою легенду. Не какую-нибудь банальную историю о кладе, зарытом Стенькой Разиным, а нечто более изящное, с европейским флёром. В городе N такой легендой, вне всякого сомнения, был двухэтажный домик с мезонином, притулившийся в кривом, точно сабельный шрам, переулке близ Торговой площади. Вывеска на нём, исполненная витиеватой вязью, гласила: «Часовыхъ дѣлъ мастеръ А. Моржовъ». Этот дом и его хозяина знал каждый горожанин, от последнего мальчишки-газетчика до самого градоначальника, ибо не было в округе человека, кто хоть раз не заглядывал бы к старому часовщику со своей остановившейся брегеткой или барахлящими ходиками.
Имя мастера, Антон Степанович, на самом деле было лишь удобной русской ширмой, за которой скрывался Антуан Леморж – человек поистине удивительной и, как сказали бы романисты, авантюрной судьбы. В Россию он, правду сказать, не стремился, но оказался здесь волею того самого слепого случая, что с упорством маньяка-железнодорожника переводит стрелки на чужих судьбах. В достопамятном тысяча восемьсот двенадцатом году, будучи совсем молодым сержантом Великой армии Наполеона, он получил тяжёлое ранение под Малоярославцем. Что было дальше – сюжет для чувствительной повести, из тех, что дамы в девятнадцатом веке читали, промокая глазки кружевными платочками. Замерзающего, в бреду и горячке, его подобрала Агафья Петровна Смирнова, кроткая дочь местного священника. Выходила она француза, как и полагается в таких историях, травами да молитвами, а как оправился он – так девичье сердце и не устояло перед этим самым хвалёным галльским обаянием. Да и сам Антуан, глядя в глаза своей спасительницы – глубокие и тёмные, цвета тех самых чернил, которыми подписывают не торговые контракты, а брачные свидетельства, – понял, что война для него кончилась и пропал он окончательно и бесповоротно. Так и остался в России, обрусев до неузнаваемости, приняв православие и став Антоном Степановичем Моржовым (фамилия Леморж, как нетрудно догадаться, оказалась не по зубам местному дьячку, человеку, видимо, простому и далёкому от фонетических изысков).
Часовое ремесло, эта тонкая механика на грани волшебства, досталось ему от отца, потомственного часовщика из самого Лиона. Ещё мальчишкой Антуан часами просиживал в отцовской мастерской, пропахшей маслом и канифолью, заворожённо наблюдая за тем, как под умелыми, чуть подрагивающими пальцами мастера оживают, начинают дышать и отсчитывать секунды безмолвные латунные механизмы.
В новом отечестве, которое он полюбил тихо и прочно, Антон Степанович быстро прослыл мастером незаурядным. Его часы были не просто точными хронометрами – нет, это было бы слишком просто для сына лионского часовщика. Каждое изделие, вышедшее из его рук, становилось подлинным произведением искусства. Он создавал часы с курантами, играющими редкие, почти забытые мелодии; часы с движущимися фигурками, разыгрывающими целые сценки; часы с потайными механизмами, о назначении которых знал лишь он один.
«Время – оно как река, – говаривал, хитро прищуриваясь, Антон Степанович, отчего морщинки у глаз его складывались в затейливый узор. – Течёт себе неспешно, да только в каждом омуте своя загадка таится, свой чёрт водится. Вот и мои часы – каждые со своим секретом, со своей душой».
К 1830 году слава о часовщике разнеслась далеко за пределы губернии, словно пух с одуванчиков. Заказы поступали от именитых купцов, от скучающих помещиков и даже от спесивых столичных вельмож. Но подлинной его страстью, его главным экзаменом были напольные часы – эти величественные истуканы, где сложнейшие механизмы прятались в искусно сработанные корпуса из красного дерева, украшенные мерцающими бронзовыми циферблатами и затейливыми накладками.
Говорили, и не без основания, что в каждые такие часы мастер вкладывал не просто умение, но и частичку своей души и своего по-прежнему французского сердца.
К старости Антон Степанович почти не покидал своей мастерской, сросшись с ней, казалось, воедино. Сидел там дни напролёт, согнувшись над верстаком так, что спина его напоминала знак вопроса, и колдовал над очередным механизмом. Его совершенно седая, похожая на одуванчик голова склонялась над верстаком, а морщинистые, покрытые старческими веснушками руки, не утратившие былой твёрдости, продолжали творить свои маленькие чудеса.
«Механизм часовой – он что твоя судьба человеческая, – любил приговаривать старик, обращаясь не то к собеседнику, не то к очередной шестерёнке. – Каждое колёсико, каждая пружинка своё место знать должны и в свой черёд сработать. А ежели когда что-то не так пойдёт – вся жизнь наперекосяк».
Особенно же гордился Антон Степанович своими «музыкальными» часами. В них он, словно композитор, устанавливал миниатюрные музыкальные механизмы собственной, им же и выдуманной конструкции. В назначенный час они вдруг начинали играть старинные французские мелодии, тоненько и чуть печально, напоминавшие ему о далёкой, почти стёршейся из памяти родине.
Был у него и особый, главный заказ – часы для городской башни. Три года, не разгибая спины, трудился над ними мастер, создавая сложнейший, немыслимый механизм с двенадцатью движущимися фигурами. В полдень и в полночь на маленьком башенном балконе появлялись апостолы, чинно благословляющие город, а куранты, прежде чем отбить время, играли гимн Бортнянского «Коль славен наш Господь в Сионе».
Но самой большой, самой будоражащей воображение загадкой оставались его напольные часы. Каждые, как уверяла молва, имели свой секрет, свою потаённую историю. Говорили, будто в одних были спрятаны старинные документы, способные перевернуть чью-то судьбу; в других – драгоценности, припрятанные от лихого времени; а в-третьих – и вовсе зашифрованные послания, ключ к которым давно утерян.
«Время хранит много тайн, – усмехался Антон Степанович в свои пышные седые усы. – И каждому секрету своё время для открытия положено».
Весной 1875 года, когда город уже вовсю утопал в липкой зелени и пах черёмухой, Антон Степанович слёг. Умер тихо, без мучений, во сне. Словно остановились старые, им же и заведённые часы, точно отмерив отпущенный им срок.
Хоронил его, кажется, весь город. И по сей день живёт в памяти горожан образ старого часовщика – человека, который научился управлять временем, но сам, как и все мы, в итоге покорился его неумолимому, всесокрушающему бегу. И каждый раз, когда над площадью разносится звон курантов, самым впечатлительным кажется, что это сам Антон Степанович вежливо напоминает нам: время течёт, как река, унося с собой людей и события, но оставляя в веках память о тех, кто сумел наполнить его особым, не вполне объяснимым смыслом.
История, конечно, красивая. Хоть сейчас в глянцевый журнал для местных туристов. Только вот нам от неё, как говорится, ни жарко ни холодно.
– Это всё прекрасно, – задумчиво произнёс я. – Но что нам делать дальше? Здесь нет ни замка, ни тем более ключа, ни-че-го. Пусто.
Я с преувеличенным вниманием изучал гладкую бронзовую дверцу с зеркалом, пока Дарья, не разделяя моего уныния, продолжала скроллить что-то в телефоне, читая о часовщике.
– Послушайте, Виктор, а вот тут весьма интересно, – она наконец подняла глаза от экрана, и в них блеснул огонёк азарта. – В биографии Леморжа, ну, в одной из сетевых версий, упоминается, что он обожал симметрию и считал её, цитирую, «божественным проявлением гармонии в механике».
– Симметрию? – я машинально провёл пальцем по холодной грани зеркала. – А ведь и правда… Посмотрите на этот узор вокруг: левая сторона в точности, до последней завитушки, повторяет правую. Как отражение.
Дарья отложила телефон на край стола и встала рядом со мной у массивного корпуса часов.
– Знаете, что меня смущает во всей этой истории? – сказала она, понизив голос. – Зачем здесь вообще это зеркало? Казалось бы, просто декоративный элемент, украшение с гравировкой… но вы же слышали: у Леморжа ничего не могло быть «просто так».
Она замолчала, чуть нахмурив брови и погрузившись в раздумья. Я тоже изо всех сил пытался ухватить какую-то вертлявую, ускользающую мысль, что крутилась где-то на самом краю сознания, но никак не давалась в руки.
– А что мы видим в зеркале? – спросил я скорее самого себя, чем её.
– Что мы видим? Ну… наши с вами отражения, – пожала плечами Дарья. – Всё, что находится перед ним, только наоборот…
– На-о-бо-рот… – медленно, по слогам, повторил я, и мысль, до этого дразнившая, вдруг замерла и далась в руки. – Наоборот! Дарья, чёрт возьми!
Я потёр руки с таким видом, будто только что изобрёл вечный двигатель.
– Вы понимаете, Дарья? Всё должно быть наоборот! Мы решили первую загадку определённым, вполне логичным способом. А что, если теперь нужно повторить все те же самые действия, но… в зеркальном отражении?
– Погодите-ка… – в её глазах мелькнуло понимание. – То есть, если мы вставляли запонку с семью желудями в левое отверстие…
– …то теперь её, родимую, нужно вставить в правое! – подхватил я, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло предвкушения. – А девять желудей – соответственно, слева!
– И поворачивать в другую сторону, – стремительно продолжила Дарья, заметно воодушевляясь. – Конечно! Потому что в зеркале правое становится левым, а движение по часовой стрелке превращается в движение против часовой! Но тогда… тогда и время… Время на циферблате тоже должно быть зеркальным! Мы ставили шестнадцать часов. А что будет, если отразить стрелки?
Я на секунду прикрыл глаза, представив циферблат и его призрачного двойника в зазеркалье:
– Если часовая стрелка указывает на четвёрку… то в отражении она окажется на восьмёрке! А это – двадцать часов!
– Точно! Всё сходится! Симметрия, отражение, зеркальность… Это же абсолютно, кристально в духе нашего Леморжа!
Мы снова взяли в руки тяжёленькие запонки. Теперь каждое наше действие было лишено прежней суетливости и выполнялось с особой, почти ритуальной тщательностью.
– Итак, – прошептал я, почти не дыша и держа запонку с девятью желудями. – Эта теперь идёт слева…
Дарья молча кивнула, аккуратно вставляя свою запонку в правое, теперь уже «зеркальное» отверстие. Я заметил, что её пальцы слегка подрагивали от волнения.
– Теперь время, – выдохнула она и осторожно, боясь сбить настройку, повернула стрелки. – Двадцать ноль-ноль…
Мы переглянулись. В гулкой тишине комнаты, казалось, было слышно не только наше учащённое дыхание, но и стук сердец.
– На счёт три? – одними губами предложила Дарья. – И против часовой стрелки.
– Раз… – я крепче обхватил холодный металл запонки.
– Два… – её голос едва заметно дрогнул.
– Три!
Мы повернули запонки почти одновременно, с тем сосредоточенным напряжением в пальцах, с каким, наверное, сапёры перерезают не тот провод. На какую-то долю секунды показалось, что ничего не произошло, а потом раздался тот же самый, тонкий и мелодичный звон, похожий на звук упавшей на пол серебряной чайной ложечки. Зеркальная дверца едва заметно вздрогнула и, словно выдыхая, начала медленно и бесшумно отходить внутрь, открывая то, что скрывалось за ней все эти долгие годы…
Из открывшейся ниши пахнуло так, как пахнет в запертом на зиму дачном доме – смесью сухого дерева, мышиных следов и ещё чего-то неуловимо-сладковатого, может быть, истлевшего шёлка. Внутри, точно в фамильном склепе, лежала тетрадь – массивная, в твёрдом переплёте, обтянутом тканью цвета запылённой бутылки из-под старого вина. Её края местами истёрлись до белёсых, неопрятных проплешин. Корешок, когда-то, без сомнения, крепкий и прямой, заметно скукожился и потрескался от времени, как земля в засуху. Сбоку из тетради торчали несколько пожелтевших шёлковых закладок, похожих на сухие осенние листья, готовые рассыпаться в прах.
На тетради, словно надгробный камень, покоился конверт. Обычный почтовый конверт, выцветший до оттенка старой слоновой кости, с упрямо загнутыми уголками и едва заметными бурыми разводами – то ли от влаги, то ли просто следами времени. Без единой надписи, без марки, без следов почтового штемпеля. Просто конверт, пролежавший в темноте и молчании почти век.
Я протянул руку и осторожно, двумя пальцами, извлёк нашу находку из тайника. Тетрадь оказалась тяжёлой, плотной, как слиток, и бумага под пальцами казалась на удивление тёплой и живой, будто в ней до сих пор сохранилось тепло державших её рук.
– Пойдёмте к столу, – сказала Дарья. – Там светлее.
Она проворно отодвинула чашки, из которых мы так и не успели отпить остывший чай, освобождая место для нашего сокровища. Я благоговейно положил тетрадь и конверт на полированную поверхность. Дарья, будто повинуясь внезапному импульсу, взяла початую бутылку коньяка и снова наполнила наши бокалы. В воздухе ощутимо поплыл терпкий, благородный аромат дубовой бочки и сухофруктов.
– За удачу! – почему-то шёпотом произнесла Дарья, поднимая свой бокал.
Я осторожно провёл ногтем вдоль склеенного края конверта. Бумага поддалась неохотно, с тихим, сухим потрескиванием, будто старик, нехотя расстающийся со своей единственной тайной.
Внутри лежал сложенный вдвое листок, такой же пожелтевший и хрупкий на вид, как и сам конверт. Я развернул его, стараясь не повредить ломкую бумагу по сгибам. Всего несколько слов, выведенных торопливым, очевидно нервным почерком:
«Валентин Семёнович! Спасибо Вам. Вы знаете за что. Храни Вас Бог».
– И это всё? – Дарья придвинулась ближе, почти касаясь моего плеча. – Ни подписи, ни даты? Ничегошеньки?
– Абсолютно ничего, – я повертел листок так и этак, словно надеясь, что проступят невидимые чернила. – Смотрите, как написано – буквы пляшут, будто человек очень спешил или руки у него дрожали.
– А знаете, что я думаю? – задумчиво произнесла Дарья. – Это могла быть записка от кого-то из тех, кому прадед помог бежать.
– Бежать?
– Ну да. Он ведь, предупреждал, прятал документы, организовывал маршруты…
– Или наоборот, – я задумчиво покрутил в руках бокал с коньяком, глядя на игру света в янтарной жидкости, – может, это была какая-нибудь трагическая любовная история? Благодарность за спасение чужой жены или что-то в этом духе.
– Интересная версия, – кивнула Дарья. – Более романтичная.
Я отложил записку и взял в руки тетрадь. Я открыл её на первой странице.
Почерк был мелкий, каллиграфический, почти педантично аккуратный. Я тут же узнал его – почерк Кротова. Всё те же, знакомые по многочисленным отчётам и служебным запискам, буквы, выведенные с той невероятной тщательностью, с какой гравёр вырезает свои сложнейшие узоры на меди. Строчки бежали по листу ровно, словно под невидимой линейкой.
Но самым поразительным, самым удивительным были рисунки на полях. Маленькие, но виртуозно исполненные чернилами наброски, жившие своей, отдельной от текста жизнью: вот чеканный профиль женщины с высокой причёской тридцатых годов, вот голубь, сидящий на заснеженном подоконнике, вот изящный, лёгкий абрис церковного купола. Рядом с датой «15 марта 1939» – мастерски схваченный силуэт человека в форме НКВД, низко склонившегося над столом. В уголке следующей страницы – детально, до последнего винтика, прорисованная кобура револьвера, а под ней – брошенная в пепельницу недокуренная папироса, от которой поднимается струйка дыма, выведенная так натуралистично, что казалось – вот-вот почувствуешь её горьковатый запах.
– Смотрите, – прошептала Дарья, указывая тонким пальцем на крохотный рисунок в нижнем углу, – это же те самые часы! Наши часы!
– Действительно, они… Один в один.
Я перевернул ещё несколько страниц. Между ровных строчек текста мелькали всё новые и новые рисунки: фрагмент карты города с какими-то непонятными пометками, быстрые зарисовки человеческих силуэтов, архитектурные детали, лица, руки, предметы…
– Мне кажется, Дарья, что эту ночь мы проведем вместе… – сказал я и тут же осекся, поняв, насколько по-дурацки двусмысленно это прозвучало. – С этой тетрадью, разумеется, – поспешил добавить я, чувствуя, как некстати теплеют уши. – В том смысле, что раз уж мы взялись решать головоломки, то нужно решать их до конца.
Дарья улыбнулась в ответ – одними уголками губ, но в глазах у неё блеснул тот самый огонёк, с которого обычно начинаются все авантюры.
– И у нас это неплохо получается, – сказала она, милосердно делая вид, что не заметила моей оговорки.
– Почитаем? – предложил я, благодарно придвигая тетрадь поближе.
***
За ней я послал Бурцева – одного из наших молодых. Типичный сотрудник с Литейного, почти инкубаторский: костюм стандартного, мышиного покроя, очки в тонкой оправе, как у Лаврентия Павловича, – мода, которая у нас почему-то никак не пройдёт. Лицо у Бурцева было из тех, что называют преднамеренно-незапоминающимися; такое сотрётся из памяти через минуту после расставания, что для нашей работы, разумеется, качество бесценное. Л., как она потом рассказывала, предсказуемо пыталась завязать с ним разговор в машине. «Какая сегодня погода хорошая», – щебетала она, силясь пробить брешь в его молчании. «Давно вы работаете водителем?» – ещё одна попытка. Всё впустую. Бурцев только неопределённо хмыкал в ответ, не отрывая сосредоточенного взгляда от дороги. Вышколен как положено. Образцовый продукт.
Её сначала привезли на конспиративную квартиру на Петроградской. Процедура стандартная, обкатанная: сбить с толку, лишить привычных ориентиров. Там её встретил Волковский – ещё один молодой «без лица» в таком же сером, как ленинградское небо, костюме. Пересадил в другую машину, без лишних слов. И вот они уже катят на Литейный.
Сначала я наблюдал за ней через специальное смотровое стекло, когда она проходила пост контроля внизу. Руки слегка, но заметно дрожали, когда протягивала документы часовому. Я искал не страх, страх – это нормально. Я искал признаки подготовки. Охранник, не глядя, выписал временный пропуск – шершавый картонный прямоугольник с жирной фиолетовой печатью. Её провели через боковой, служебный вход – не парадный, конечно. В наше здание редкие посетители входят через главные ворота, и уж совсем единицы выходят из них на своих ногах.
Пятый этаж, длинный, гулкий коридор с одинаковыми, обитыми дерматином дверями без номеров, пахнущий мастикой и застарелым табачным дымом. Кабинет с высоким, тонущим в полумраке потолком. Массивный, как гробница, письменный стол, два кресла. Одно – моё, тяжёлое, хозяйское. Второе – для неё, жёсткое и неудобное.
Я вошёл через потайную дверь, замаскированную под стенку книжного шкафа, – старый, замшелый театральный трюк, который, однако, неизменно производил нужное впечатление на допрашиваемых. Л. вздрогнула, когда я появился словно из воздуха, и это было первое очко в мою пользу.
Я смотрел на неё, и она, оправившись, смотрела на меня.
– Присаживайтесь, – сказал я, указывая подбородком на кресло напротив. Голос я намеренно сделал ровным, безразличным.
Она села, машинально расправив складки простого платья. Сидела неестественно прямо, почти не шевелясь. Спина – идеально выпрямлена, руки сложены на коленях. Классическая поза человека, который всеми силами пытается сохранить самообладание.
Только чуть заметная, тонкая жилка на шее билась, выдавая внутреннее напряжение. Глаза – серые, с редким оттенком холодной стали – смотрели не на меня, а куда-то поверх моего плеча. Это был не вызов. И ещё не страх. Какое-то странное, сосредоточенное… ожидание.
– Вам известно, зачем вы здесь? – спросил я максимально буднично, тем самым тоном, каким спрашивают о получении справки в паспортном столе.
Она едва заметно пожала плечом, движение получилось даже изящным.
– Я полагаю, что это известно вам.
Тонкая игра. Она не станет первой озвучивать причины нашей встречи, не даст мне преимущества. Умно. Очень умно.
Я не спеша достал из стола тощую папку с её личным делом. Несколько пожелтевших листков, исписанных сухим, казённым почерком, несколько фотографий, скреплённых ржавеющей скрепкой. На верхнем снимке она лет двадцати трёх, не больше. Выразительное лицо с резкими, породистыми скулами, вьющиеся тёмные волосы, собранные в небрежный, артистический узел. Взгляд – не просто острый, а препарирующий.
– Вы окончили филологический факультет университета два года назад? – спросил я, хотя и знал ответ, разумеется. Ритуал есть ритуал.
– Да, – коротко ответила Л.
– С красным дипломом?
– Да.
Молчание повисло между нами, плотное как вата. Я понимал её тактику. Короткие, односложные ответы. Никаких лишних слов. Никаких эмоций, которые можно было бы использовать против неё.
– Расскажите о вашем круге общения, – произнёс я, наблюдая за каждым её движением, за малейшим изменением в дыхании.
Ага. Вот оно. В глазах мелькнуло что-то – секундный, почти неуловимый проблеск неуверенности. Но тут же исчезнувший, утопленный. Профессионально. Слишком профессионально для двадцатипятилетней девушки-филолога.
– Мой круг общения достаточно широк, – ровно ответила она. – Преимущественно коллеги по университету, несколько человек из литературных кружков.
– И что вы обсуждаете в этих кружках?
– Литературу. Искусство.
– Только?
На губах её промелькнула еле заметная, почти призрачная улыбка:
– А что ещё может быть интересно молодым гуманитариям в наше время?
В этот момент я окончательно понял, что передо мной не просто перепуганная молодая женщина. Передо мной – противник. Умный, осторожный, великолепно подготовленный. И наша игра, эта партия, только начиналась. Я продолжал изучать её, но уже не как энтомолог насекомое – сравнение пошлое и неточное, – а скорее как часовщик изучает незнакомый механизм с тикающей внутри взрывчаткой. Каждое её движение, каждый еле заметный изгиб брови, пауза перед ответом – всё было важно.



