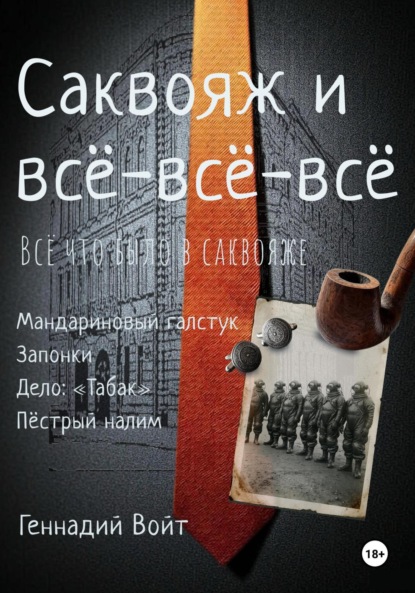
Полная версия:
Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже
– Вы часто бываете в Академии художеств? – спросил я, лениво листая её документы.
– Бываю, – спокойно ответила Л. – Мой друг там преподаёт.
– Какой именно друг? – тут же последовал мой вопрос, намеренно резкий.
Секундная пауза. Вот она, первая трещина. Она понимает опасность. Понимает, что любое названое имя может стать не просто строчкой в протоколе, а приговором.
– Преподаватель искусствоведения, – уклончиво, но не теряя достоинства, ответила она.
– Имя?
– Не думаю, что это так уж важно.
Её тон – идеальный баланс. Не дерзкий вызов, но и не рабское подчинение. Та самая грань, на которой балансируют те, кто привык ходить по краю.
– В этом кабинете важно всё, – возразил я. – Особенно имена.
Она чуть заметно поджала губы. Я увидел, как пальцы её левой руки, лежащей на колене, чуть сжались, побелев на костяшках, – единственный явный признак закипающего внутри напряжения.
– У каждого человека есть право на частную жизнь, – тихо, но твёрдо сказала она.
– В наше время это непозволительная роскошь, – так же тихо, почти доверительно ответил я.
Мы смотрели друг на друга. Два игрока за одной доской, каждый знающий правила, но не желающий их озвучивать вслух.
Я демонстративно откинулся в кресле, достал папиросу «Казбек». Щелчок немецкой зажигалки – с гравировкой. Тонкая струйка сизого дыма поднялась между нами, как незримая, колеблющаяся граница.
– Расскажите о ваших политических взглядах, – произнёс я, выпуская дым в сторону потолка.
Она молчала. Я прекрасно знал эту испытанную технику молчания. Выдержка – первый признак серьёзной подготовки. Она явно не новичок в подобных… беседах.
– Политические взгляды формируются средой, – наконец проговорила Л. – Искусство – вот что по-настоящему важно. Оно вне времени.
– Искусство? – я усмехнулся. – Искусство сейчас – это самая передовая линия политики. Чистого искусства не существует. Его время прошло.
Она перевела взгляд на высокое, почти до потолка, окно. За неплотно задёрнутыми тяжёлыми занавесками моросил мелкий, нудный дождь. Капли медленно текли по пыльному стеклу – похоже на слёзы, но без всякого надрыва. Холодно и бесстрастно, как сама природа.
Я встал и с резким шорохом задёрнул занавеску, отсекая её от этого единственного пути к отступлению.
– Послушайте, – я придвинул своё кресло ближе, нарушая дистанцию, вторгаясь в её личное пространство, – мы же с вами интеллигентные люди. Прекрасно понимаем друг друга. Времена сейчас сложные, опасные. Каждому человеку нужна… поддержка. Опора.
– Я не понимаю, о чём вы, – её голос впервые дрогнул, и я мысленно поставил себе вторую галочку.
– Всё вы понимаете, – я улыбнулся самой доверительной из своих улыбок. – Мы могли бы помогать друг другу. Вы нам – мы вам. Простой и честный обмен.
Л. медленно повернула голову. Её взгляд был как надрез скальпелем патологоанатома – не ранящий, а вскрывающий, чтобы добраться до сути.
– Помогать? Как?
Её голос снова стал абсолютно спокоен. Ни капли страха. Восхитительно.
– Мой интерес – информация. Всего лишь.
– Какая именно?
– О круге ваших знакомых. Об их настроениях. О разговорах в университетских кругах. О том, что говорят, когда думают, что их никто не слышит.
Её пальцы чуть заметно дрогнули. Она скрестила руки на груди, инстинктивно, словно проведя последнюю оборонительную границу между нами.
– Люди много говорят, – сказала она. – Но мало кто действительно что-то знает.
– А что знаете вы? – тут же, не давая ей опомниться, спросил я.
– Знание – опасная вещь, – наконец, после долгой паузы, ответила Л. – Особенно в наше время.
Я достал из папки чистый бланк. Положил его перед ней на стол.
– Вот стандартный документ о сотрудничестве, – сказал я максимально нейтральным, канцелярским голосом. – Подпишете?
Она даже не удостоила бумагу взглядом.
– Нет, – коротко ответила она. Слово прозвучало в тишине кабинета, как щелчок затвора.
– Вы понимаете последствия такого отказа? – спросил я, не меняя тона.
Л. чуть заметно усмехнулась – не весело, а с какой-то бездонной внутренней усталостью.
– Понимаю, – ответила она. – Но есть вещи важнее личной безопасности.
Я закурил вторую папиросу, уже немного раздражаясь.
– Что же, позвольте полюбопытствовать?
– Достоинство, – коротко бросила она.
Её лаконичность бесила и одновременно вызывала что-то вроде профессионального восхищения. Молодая. Умная. И опасная, как документ с двойным дном, где за невинной справкой о прописке может скрываться смертный приговор.
– Достоинство, – тихо сказал я, глядя ей прямо в глаза, – не спасает от пули в затылок.
Она промолчала. Но я увидел, как снова предательски дрогнула жилка на её шее.
– У вас есть выбор, – продолжил я, давая ей последнюю лазейку. – Подписать эту бумагу или… – я многозначительно замолчал, позволяя ей самой дорисовать картину.
– Я… мне нужно подумать. – Голос сорвался. Сломалась.
– Конечно, – я с готовностью спрятал бланк обратно в стол. – Думайте. Но не слишком долго. Через три дня жду вас здесь. В это же самое время.
Она медленно встала, и я заметил, как дрожат её колени, хотя она и пыталась это скрыть. Я смотрел, как она идёт к двери. Прямая спина, гордо, даже вызывающе поднятая голова – но я-то видел, каких нечеловеческих усилий ей это стоит.
– И ещё, – добавил я в спину, когда она уже взялась за дверную ручку. – Надеюсь, не нужно напоминать о полной конфиденциальности нашего с вами разговора?
Она коротко кивнула, не оборачиваясь.
За дверью её встретил всё тот же безликий Волковский, чтобы проводить обратно в никуда.
Таких у меня были десятки – молодых, образованных, всё ещё верящих в какие-то идеалы. Они приходили сюда людьми, а уходили… разными. Кто-то ломался сразу, на первом же вопросе. Кто-то сопротивлялся дольше, заставляя попотеть. Но результат чаще всего был один. Система не любит исключений.
Я опять достал бланк, который только что предлагал ей подписать. Посмотрел на пустое место, предназначенное для подписи. Время. Ей просто нужно дать немного времени. Оно работает на нас. Всегда.
***
Она пришла ровно в назначенное время. В нашем ремесле точность – не вежливость, а главный инструмент. Она отсекает лишнее как скальпель. Стрелки настенных часов – тяжёлых, дубовых, с пожелтевшими римскими цифрами, висевших прямо над моим столом, – сошлись на отметке 12 с сухим, безжалостным щелчком именно в тот момент, когда Волковский, как заведённый автомат, распахнул перед Л. дверь моего кабинета.
Она вошла и тут же прикрыла нос тыльной стороной ладони, на секунду задержав дыхание. Да, у меня всегда пахло папиросным дымом, а ещё казёнными чернилами и страхом. Страх – это ведь особая субстанция, почти материальная. Он просачивается сквозь толстую штукатурку, въедливой пылью оседает на книжных корешках, застывает в жирных чернильных кляксах на протоколах допросов. В моём кабинете этот запах был особенно густым, многослойным, как старое вино. Мне доставляло определённое профессиональное удовольствие наблюдать, как посетители чуяли его. Как он действовал на них прежде, чем я успевал произнести хотя бы слово.
Но она выглядела иначе. Не хуже и не лучше, а именно… иначе. Словно за эти три бесконечных дня она переплавилась в каком-то внутреннем огне и вышла из него – закалённой. Усталость в глазах, та, что была на грани паники, сменилась какой-то странной, почти торжествующей решительностью. Такой, с какой идут не на допрос, а на эшафот, уже зная, что победа одержана.
– Садитесь, – я указал на кресло.
Она села. Не так, как в прошлый раз, – не вжимаясь в спинку, а наоборот, подавшись чуть вперёд, будто это она сейчас будет вести допрос. Чуть заметная, резкая складка между бровей выдавала колоссальное внутреннее напряжение.
– Итак? – я закурил, стараясь вернуть себе привычную роль хозяина положения. – Вы уж простите. На правах хозяина.
Я нарочито медленно покрутил пальцами папиросу, выпуская дым ей в лицо. Старый приём, но обычно работает.
– Вы думаете, что знаете всё, – начала она тихо, и дым, коснувшись её лица, послушно разошёлся в стороны, не заставив её даже моргнуть. – На самом деле вы знаете так мало.
Она смотрела не просто в глаза – она смотрела прямо в душу. Пронзительно и безжалостно, с той степенью проникновения, на которую не способен ни один рентгеновский аппарат. В её глазах была странная, невозможная смесь жгучей боли, ледяного презрения и какого-то почти материнского, всепрощающего сострадания.
– Вы знаете, что такое настоящее убийство? – спросила Л. – Это не когда вы человека физически уничтожаете. Это когда вы убиваете человека в самом себе. Каждый день, по частям.
Её голос звучал тихо, почти на грани шёпота, но каждое слово в оглушительной тишине кабинета било наотмашь. Не как кулаком – грубо и прямо, – а как точным ударом хирурга по нервному узлу.
– Система, которой вы так преданно служите, – это не просто механизм репрессий. Это огромная, бездушная фабрика по уничтожению человеческих душ. В первую очередь – ваших собственных душ. Вы превращаете живых людей в тени, в номера на грязной телогрейке, в безликую статистику в своих отчётах, сами при этом перестаёте быть людьми. Вы становитесь функцией. Винтиком.
Я молчал. Я смотрел на кончик своей папиросы, не в силах оторвать взгляд. Она дотлела до картонного мундштука, и бумага, пропитавшаяся смолой, почернела. Огонёк лизнул кожу. Запахло горелой бумагой и моей кожей.
– Больно? – спросила она, заметив, как я инстинктивно тряхнул обожжёнными пальцами.
Её голос был спокоен, но в вопросе этом не было ни сочувствия, ни злорадства. Только констатация факта. Диагноз.
***
Коньяк кончился ещё в полночь, и мы остались с этой рукописью один на один, без буфера. Читали до самого рассвета. Хмель не брал – слова Кротова были слишком трезвыми, слишком беспощадными к себе и к нам. Настольная лампа отбрасывала на стол дрожащий, неуверенный круг света, а тени на высоком потолке метались, как затравленные звери. Мы читали вслух, по очереди, и каждое слово, произнесённое в гулкой тишине, казалось, отлито из свинца. Кротов писал так честно, так бесстыдно честно, что временами становилось физически неловко, будто подглядываешь за человеком в самый уязвимый, самый постыдный момент его жизни.
Время от времени я поднимал глаза от страниц и смотрел на Дарью. На её острый, как на камее, профиль в полутьме. Она была там, в этих строках, в этих паузах между признаниями и сожалениями. Слова, которые я читал, казалось, обжигали горло не хуже коньяка. Она то чуть заметно улыбалась какой-то горькой, всё понимающей улыбкой, то хмурилась, водя кончиком пальца по строчкам, будто пыталась нащупать под бумагой пульс того времени. Каждое прочитанное предложение было не просто информацией. Оно было маленьким, болезненным открытием.
***
«… – Знаете, товарищ Кротов, вы же не всегда таким были.
Я помню, как разозлился. Ударил этой самой папкой с её личным делом по столу так, что подпрыгнула чернильница. А она продолжала, не испугавшись:
– У вас глаза живые. Я вижу. Значит, не всё ещё умерло.
Я её выгнал. Пил полночи, до тошноты. А наутро допрашивал какого-то бедолагу-инженера – особенно жёстко, с каким-то остервенением, будто мстил ему за её слова.
***
Следующий допрос был ещё через три дня. Она принесла с собой книгу – маленький, зачитанный томик Чехова. Молча положила на край моего стола:
– Вам полезно будет. Прочтите на досуге.
Абсурд. Полнейший абсурд – подозреваемая приносит следователю книги и даёт советы. Я начал орать. Орал долго, срывая голос. Она молчала, ждала. А потом, когда я выдохся, тихо сказала:
– Кричите. Вам, наверное, очень больно.
Книгу я всё-таки взял. Читал ночью, впервые за много лет. «Палата № 6» – это была даже не насмешка, это был диагноз. Утром я смотрел в зеркало и отчётливо видел в нём доктора Рагина. Мы все тут – в одной большой палате. И я в ней – главный санитар.
***
На четвёртом допросе я вдруг по-настоящему заметил её руки. Тонкие, с длинными пальцами. Я вдруг представил, как она этими руками вышивала, перелистывала хрупкие страницы книг, наверное, обнимала маму. Создавала что-то. А я своими руками – подписывал ордера на арест, протоколы, приговоры. И стрелял в затылок.
***
Пятый допрос был совсем коротким. Я просто указал ей на дверь. Она остановилась уже на самом пороге:
– Вы ведь знаете, что я права. Потому и злитесь.
В ту ночь я сжёг в пепельнице списки тех, кого планировал арестовать в ближайший месяц. Не из-за неё – из-за себя. Из-за того, что она, как в зеркале, просто показала мне меня настоящего. Показала, как удобно и просто быть винтиком. И как невыносимо больно снова становиться человеком.
Но теперь мне не страшно. Теперь я знаю – глаза у меня и вправду живые. Она правду сказала».
***
Дарья медленно, с сухим шелестом, перевернула страницу.
«Я убивал. Не на войне, не защищаясь. Просто убивал. За идею, из чувства долга, по приказу начальства и даже, бывало, от скуки. Я помню каждое лицо, каждый последний взгляд. Странно, но больше всего мне в память врезались не глаза, а руки моих жертв. Дрожащие, умоляющие, бессильно цепляющиеся за жизнь.
***
Перелом, то, что верующие называют озарением, а врачи – нервным срывом, случился не сразу. Всё началось с тошноты. Обычной, физической тошноты от запаха моего кабинета, от вида бумаг, от собственного голоса.
Я начал пить. Много. До беспамятства. Но алкоголь больше не приносил забвения, он только вскрывал что-то внутри. Какую-то мерзкую, липкую правду о самом себе. Я вдруг начал замечать детали, которых раньше не видел: как падает косой солнечный свет на брусчатку во дворе, как отчаянно плачут дети в парке, как старые люди, кормят жадных голубей. Всё это раздражало. Бесило до скрежета зубовного. Потому что было настоящим, живым.
***
Я стал перечитывать дела, которые вёл. И тут я впервые подумал – а ведь они, эти арестованные, осуждённые, расстрелянные мной люди, они ведь тоже видят этот солнечный свет. Тоже слышат этот детский плач. И мне стало невыносимо противно. От себя.
***
Начали преследовать сны. Не кошмары с кровью и криками – нет, было бы слишком просто. Сны были страшнее. Обычные, бытовые: я иду по улице, захожу в булочную, пахнет свежим хлебом, я здороваюсь с продавщицей. И просыпаюсь в ледяном, липком поту. Потому что во сне я был нормальным. Человеком.
***
Я начал замечать, что избегаю зеркал. В мутном отражении виделась какая-то посторонняя, омерзительная тварь. Чужая, незнакомая. Однажды в припадке разбил зеркало в прихожей кулаком. Сильно порезался. Смотрел на свою кровь и думал – она такая же красная, как у них. Так по какому же праву я решил, что имею право?
***
Часами сидел, смотрел в стену. Думал – может, застрелиться? Но потом понял – это было бы слишком просто. Слишком трусливо. Слишком похоже на то, что я столько лет делал с другими.
***
Прошлое не отпускает. Оно всегда со мной, оно вросло в меня, как вторая кожа. Каждое утро я просыпаюсь и физически чувствую его вес. Но теперь я знаю – это моя ноша. Мой крест. И может быть, в этом и есть моё настоящее наказание – жить дальше. Видеть этот свет и понимать, сколько такого же света я погасил.
Говорят, время лечит. Врут. Время не лечит – оно медленно, мучительно учит быть человеком. Не потому, что заслужил, а потому что должен. Должен всем тем, кто уже никогда не увидит этот утренний свет.
Я всё ещё не знаю, кто я теперь. Не убийца – это точно. Но и не праведник. Просто человек, который каждый божий день учится быть человеком. И это, скажу я вам, чертовски больно. Но, наверное, так и должно быть.
Сначала было страшно. Потом привык. Как привыкаешь к двойной жизни – для всех я по-прежнему следователь, а внутри себя – спаситель. Ирония судьбы, достойная пера покойного Чехова.
***
Дело № 2233. Аркадий Бенционович Лурье, филолог. Донос от соседа по коммуналке про антисоветские высказывания. Посоветовал ему через общего знакомого срочно уехать к якобы больной тётке в Ташкент. Через день после его отъезда я пришёл с ордером – квартира, разумеется, пуста. В протоколе записал: «По указанному адресу не проживает». Соседа-доносчика припугнул статьёй за ложный донос. Тот затих навсегда.
***
Дело № 2456. Валентина Горчакова, библиотекарь. Нашли у неё при обыске дневники с «крамольными» мыслями. Подсказал ей прямо на допросе: «Это же черновики для вашего романа. Вы же литературный кружок для молодёжи ведёте?» Умная женщина, всё поняла сразу. Отделалась строгим выговором по партийной линии.
***
Дело № 2789. Семён Гольдштейн, часовщик. Донос от недовольного клиента. Подозрение в связи с иностранцами. Через третье лицо намекнул – пусть сожжёт всё, что может его скомпрометировать, а при обыске мы «найдём» только пачку открыток с видами Нью-Йорка. Сработало. В деле записал: «Обнаружены материалы для коллекционирования почтовых карточек».
***
Дело № 3115. Константин Авдеев-Сабуров, бывший дворянин. Хранение монархической литературы. Посоветовал через его жену – пусть напишет донос сам на себя. Подробный, с раскаянием, со слезами, про новую, советскую жизнь. Три страницы покаяния. Определили под гласный надзор – остался жив.
***
Дело № 3442. Маргарита Тихонравова, художница. Обвинение в формализме в искусстве. Организовал ей «случайную» встречу с нужным искусствоведом из комиссии. Тот написал лестное заключение: «Смелые творческие поиски в рамках советского реализма». Дело закрыли за отсутствием состава.
***
Я учил их всех: говорите как можно меньше, смотрите в пол, со всем соглашайтесь, но отчаянно путайтесь в деталях, датах, именах. Следователь устаёт от путаницы. Ему нужна кристальная ясность – для отчёта, для галочки. Нет ясности – нет дела.
Каждому – свой рецепт спасения. Кому-то – срочный отъезд в глухую провинцию. Кому-то – правильные, нужные слова в протоколе. Кому-то – знакомство с полезным человеком. Главное – не геройствовать. Герои долго не живут. В моём ведомстве уж точно.
***
Бумаги, самые опасные, жгу теперь каждый вечер. Копии протоколов, черновики допросов. Пепел смываю в уборную – так надёжнее. Иногда думаю – может, я предатель? Потом вспоминаю глаза Л. и понимаю – нет, я просто наконец-то встал на правильную сторону.
А вообще, спасать людей оказалось на удивление проще, чем их губить. Не нужно пить по вечерам. Не снятся кошмары. И в зеркало смотреть больше не страшно. Только бы не попасться. Но даже если попадусь – оно того стоило.
Однажды в Таврическом саду мы кормили уток с дочерью, и я встретил Л. Мы сделали вид, что не узнали друг друга. Проходя мимо, она будто случайно задела меня рукой и тайком передала записку. Простой, сложенный вчетверо тетрадный листок с надписью: „Валентин Семёнович! Спасибо Вам. Вы знаете за что. Храни Вас Бог«.»
– Всё, – тихо сказала Дарья и закрыла тетрадь. Звук захлопнувшейся обложки прозвучал в тишине как выстрел. – Исповедь палача.
Я протянул руку и щёлкнул выключателем. Лампа погасла. В комнату сквозь окно уже лился холодный, безжалостный, хирургический свет наступающего утра.
– Он так и не назвал её полного имени, – заметил я, глядя на серое, как шинель, небо за окном.
– А что было потом? – Дарья повернулась ко мне, и в её глазах стоял невысказанный вопрос. – Бабушка всю жизнь говорила только одно: уехал в долгую командировку. И всё. Исчез.
Я молчал. Почему-то было трудно дышать. Достал из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо лист. Медленно, с усилием разгладил упрямые сгибы. Протянул Дарье.
«В начале 1939 года Валентина Семёновича Кротова отстранили от активной следственной работы. Арестован 16 января 1939 г. Приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания 19 февраля 1940 г. по ст. 58/1 п. «а» (измена Родине); ст. 58/8 (террор); ст. 58/11 УК РСФСР (участие в антисоветской террористической организации в органах НКВД). Через 2 дня, в ночь на 21 февраля 1940 г., расстрелян.
По заключению Главной военной прокуратуры РФ от 1999 года как активный участник сталинских репрессий признан не подлежащим реабилитации».
Дисклаймер
Все персонажи и события, описанные в этой книге, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми (живыми или умершими), событиями или организациями является непреднамеренным и случайным. Мнения и взгляды, высказанные персонажами, принадлежат только им и не отражают точку зрения автора.
©2025
Моим самым главным людям —
жене Ольге, сыновьям Герману и Глебу.
С бесконечной любовью и благодарностью.
Дело: «Табак»
В лето 1697-е, когда российский государь Пётр Алексеевич, оставив на время державные хлопоты, постигал в Голландии премудрости корабельного дела, прибыл он инкогнито в тихий городок Зандам, чьи верфи славились по всей Европе.
Государь, не желая раньше времени светить своей царской персоной, назвался просто – плотник Пётр Михайлов. Да и кто бы усомнился? Руки – в узловатых, затвердевших мозолях, спина – широченная, медвежья, а в повадках столько мужицкой основательности, что ни один голландский мастер, придирчиво оглядывая долговязую фигуру, и помыслить бы не мог, что перед ним помазанник Божий.
Работал он с какой-то яростной, неуёмной энергией, будто пытался вбить в голландские доски всю свою нерастраченную силищу. Местные, прозвавшие его «плотником Питером», только дивились: и откуда в этом русском столько дури и любопытства?
И сдружился он там с Агно ван дер Маатеном – молодым плотником, сухопарым, жилистым, с вечно дымящейся глиняной трубкой в углу рта. Из трубки его тянуло диковинным заморским табаком, чей аромат причудливо сплетался с запахом просмолённых канатов и свежей сосновой стружки. Трубку свою голландец холил и лелеял, утверждая, что плотник без доброй трубки – что фрегат без руля: вроде и плывёт, да только чёрт знает куда.
Именно этот Агно, которого государь, недолго думая, окрестил на русский манер Агафоном Вмятиным (благо тот не обиделся), и стал его главным товарищем по ремеслу. Частенько можно было видеть, как эти два долговязых плотника, оба росту немалого, склонялись над чертежами, жарко споря о наилучшем способе проконопатить швы или установить ахтерштевень.
И вот однажды, как гласит известная на зандамских верфях, но отчего-то совершенно забытая в России байка, случилась оказия. Агафон-Агно, прилаживая доску обшивки, размахнулся от души тяжеленным молотком да вместо гвоздя со всего маху угодил царю-плотнику прямо по державной фаланге.
Пётр, напрочь забыв про всякую конспирацию, взревел так, что с соседних мачт врассыпную шарахнулись чайки: «Кррррех, да в бога душу мать твою, Агафон ван дер Вмятин!». И тут же, не дав голландцу и слова вымолвить, приложился размашистым кулачищем точнёхонько промеж глаз. Отчего тот не проглотил свою ненаглядную трубку лишь по той причине, что разлетелась она от удара в мелкую глиняную пыль.
Впрочем, гнев царский был сколь вспыльчив, столь и отходчив. Остыв через минуту, Пётр подошёл к всё ещё ошалевшему голландцу, достал из-за пазухи ладную, собственноручно выточенную из вишнёвого дерева трубку и протянул приятелю.
– Не серчай, брат Агафон. Сгоряча вышло, – прогудел он примирительно. – На, держи. Мировая. За дружбу нашу корабельную.
Агафон Вмятин, озадаченно потирая губу, из которой сочилась тонкая струйка крови, подарок принял. Оглядел его, потом русского плотника, и только крякнул:
– Ну и нрав у тебя, Питер! Что на море шторм – то стихнет, то снова ударит!
Вот так с той поры, как судачат на зандамских верфях, и пошла гулять присказка: «Бей русского по пальцу – трубкой новой богат будешь!»
***
В дверь колотили так, словно команда пьяных матросов штурмовали не мою скромную квартиру, а Зимний дворец. Я распахнул дверь. На пороге маячил Илюша – взмыленный, багровый, с галстуком, съехавшим набок, точно сбитый прицел. Лишь борода, аккуратно подстриженная, хранила следы цивилизации.
– Витька, паразит! Ты что, ещё дрыхнешь?! – заорал он так, словно командовал теми самыми матросами.
Я молча изучал его физиономию, силясь определить: «Вторник? Нет. Среда? Возможно. Война с Наполеоном? Кажется, уже была». Ни один из вариантов не объяснял апокалипсис, стоявший на моём пороге.
– Съезд! Трубки! Шеф! – выпалил Илюша, обходясь одними существительными, будто телеграфировал с тонущего судна.
– А, чёрт… – я почесал небритую щеку. – Точно. Запамятовал. Дай минуту.
Я метнулся в ванную. Из зеркала на меня воззрилось сонное существо с рельефным отпечатком подушки на щеке.



