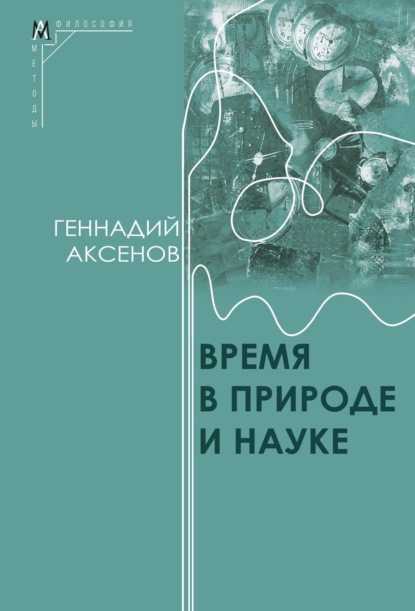
Полная версия:
Время в природе и науке
Как мы увидим далее, эта главная идея Платона проходит через всю историю знания, модифицируясь, но оставаясь узнаваемой. Совсем необязательно, чтобы она влияла на дальнейшее течение мысли, воздействовала на открытия и рассуждения выдающихся мыслителей, хотя, конечно, выдающиеся о ней знали. Дело в другом: в природе человеческого мышления, его одинаковой силе и сходном характере во все времена и эпохи. Имеет значение также ценность и единство знания, независимые от его наличного уровня. Эта природа ума позволяла занять конструктивную, выгодную позицию и ориентироваться в мире. Тот, кто мыслил подобно Платону, всегда повторял его мысленную конструкцию: «Время создается».
Глава 2
Число движения, но не движение
Итак, в тебе, душа моя, измеряю я времена…
Августин Блаженный. ИсповедьУвеличение знаний о времени, как и вообще их приращение, есть непрерывное заострение или сокращение угла зрения и, значит, акт самоограничения мыслителя. Тот, кто уточняет, непрерывно улучшает свою позицию и тем самым уменьшает свои претензии на то, чтобы знать все обо всем, стремясь лучше знать многое о немногом. Иначе говоря, развитие знания повышает скромность его носителей. Вот почему все дальнейшее изложение, собственно говоря, будет описанием постепенного самоопределения мыслителей, работающих над пониманием концепции времени.
Греческие мыслители начали со всеобщего. Протагор заявлял, что человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют, и называл себя «софос». Его ученик Сократ свел свою роль к более скромной, называя себя «философ», т. е. уже не мудрец, но «любитель мудрости», и несуществующие предметы ему по его складу ума уже были не столь интересны, и в «Тимее» он только слушает о них, правда, довольно заинтересованно. Платон тоже относил себя к философам, но был склонен к рассмотрению всего круга философских предметов как существующих, так и запредельных. Его главный предмет как раз трансцендентен – идеи, расположенные над вещным, видимым миром. Идеи нетленны и потому более реальны, чем окружающий мир подвижных бренных временных вещей.
Однако, по моему мнению, Аристотеля уже нельзя назвать философом в подлинном смысле этого слова. По своим умственным интересам он в большей мере ученый, естествоиспытатель того времени. Для него важнее предметы, которые существуют, важнее реальные их свойства и бесконечные, богатейшие отношения, и потому он, в сущности, создал теоретическое природоведение. Он исключительно близок по стилю мышления тем ученым последующих веков, для которых наука была знанием о том, что существует, а не о том, как это существующее возникло, и тем более о каких-то невразумительных «несуществующих вещах». Причем, если современному ученому легко придерживаться такого позитивного мышления, оно уже давно складывается как привычная атмосфера ученого мира, но даже еще в позапрошлом веке такой стиль мысли не был безусловен и его нужно было специально вырабатывать. Можно себе представить, сколько мужества потребовалось Аристотелю для создания новой манеры исследования. Надо было преодолевать уже наработанную традицию рассуждать обо всем на свете.
Вот почему наиболее полные и всесторонние обсуждения темы времени и пространства Аристотель предпринял в труде, который называется «Физика», что в его эпоху означало теоретическое знание о природе. Тем самым, можем мы заключить, он отнес время к области природы, а не к сфере мышления или эстетики, например.
«Каким образом появится предшествующее и последующее, если не существует времени? Или время, если не существует движения?»[22] – спрашивает он. Правда, все философы, за исключением одного, называют время нерожденным. Они, следовательно, присоединяются к Демокриту, «который доказывает невозможность того, чтобы все возникло, так как время есть нечто невозникшее, – продолжает далее Аристотель. – Один только Платон порождает его: он говорит, что оно возникло вместе со Вселенной, а Вселенная, по его мнению, возникла»[23].
Вот здесь мы и видим, что для Аристотеля, как для истинного ученого, интереснее не происхождение времени в начале мира (или происхождение мира вместе со временем, как то трактует Платон), а логически правильное описание времени, его свойств. Природа времени для Аристотеля заключена не в его происхождении. Сначала нужно определить, существует ли оно в действительности, что оно собой представляет, а затем уж решить вопрос о его природе или происхождении.
Он называет время «едва существующим» по причине его неуловимости, текучести. Одна его часть была, и вот уже ее нет, другая еще только будет. Поэтому о чем можно сказать наверняка, так это о некотором наличии того, что мы называем словом «теперь». Причем «теперь» не есть часть целого, как точка есть часть линии. Оно как бы исчезающая, неуловимая частица, она тает, пропадает, другая появляется на ее месте. Из единиц времени никакого множества в наличии не складывается, потому что всегда актуально есть только одна более или менее отчетливая единица, которая появляется и исчезает, растворяется.
Таким образом, природа, особенность времени совершенно не походит ни на что другое. И если мы связываем его с движением, говорит Аристотель, что правильно, мы тем не менее ни в коем случае не должны отождествлять его с движением.
А что такое время и какова его природа, одинаково неясно как из того, что нам передано от других, так и из того, что нам пришлось разобрать раньше. А именно, одни говорят, что время есть движение Вселенной, другие – что это сама [небесная] сфера. [Что касается первого мнения, то надо сказать, что] хотя часть круговращения [Неба] есть какое-то время, но [само время] ни в коем случае не круговращение: ведь любой взятый [промежуток времени] есть часть круговращения, но не [само] круговращение. Далее, если бы небес было много, то таким же образом время было бы движением любого из них, следовательно, сразу будет много времен. А мнение тех, кто утверждает, что время есть сфера Вселенной, имеет своим основанием лишь то, что все происходит как во времени, так и в сфере Вселенной; такое высказывание слишком наивно, чтобы стоило рассматривать содержащиеся в нем несообразности[24].
Ясно, продолжает мыслитель, что движение и изменение любого тела происходит во времени. Но важно вот что: движения тел разнообразны беспредельно, они могут быть быстрыми или медленными, но время движется равномерно всегда, везде и во всем.
Время же не определяется временем ни в отношении количества, ни в отношении качества.
Что оно, таким образом, не есть движение – это ясно[25].
Движение не является причиной времени, какого рода причину мы не имели бы в виду: порождающую, движущую силу или конечную цель. Однако время как-то все же связано с движением. Как? Само движение связано с величиной, с количеством времени. Сколь продолжительно было движение, столько протекло и времени. Мы его распознаем, когда в движении тела различаем предыдущее и последующее.
Мы разграничиваем их тем, что воспринимаем один раз одно, другой раз другое, а между ними – нечто отличное от них; ибо когда мы мыслим крайние точки отличными от середины и душа отмечает два «теперь» – предыдущее и последующее, тогда это [именно] мы и называем временем, так как ограниченное [моментами] «теперь» и кажется нам временем. Это мы и положим в основание [последующих рассуждений][26].
Из этого положения вытекает, что время есть нечто количественное, сопровождающее любое движение. Мы по количеству прошедшего времени можем судить о продолжительности движения любого тела. И вот Аристотель дает нам первое в теоретическом знании определение времени:
Время есть число перемещения, а «теперь», как и перемещаемое, есть как бы единица числа… А «теперь» вследствие движения перемещаемого тела всегда иное; следовательно, время есть число не в смысле [числа] одной и той же точки, поскольку она начало и конец, а скорее как края одной и той же линии, и не в смысле ее частей, и это как в силу нами сказанного (тогда нужно будет пользоваться средней точкой как двумя, так что произойдет остановка), так еще и потому, что «теперь», очевидно, не есть частица времени и не делит движение, так же как точки не делят линию, а вот два отрезка линии составляют части одной. Итак, поскольку «теперь» есть граница, оно не есть время, но присущее ему по совпадению, поскольку же служит для счета – число. Ведь границы принадлежат только тому, чьими границами они являются, а число этих лошадей – скажем, десять, – может относиться и к другим предметам[27].
Таким образом, время есть число движения. Оно не несет в себе никакой конкретности, т. е. не принадлежит ни к какому конкретному виду движения, а к любому из него, им можно мерить как естественно данным нам числом всякое движение. Следовательно, Аристотель нашел одно из свойств времени – количественную его определенность. Оно есть чистое количество, число, длительность, как мы говорим сейчас. Когда мы произносим слова «длиться», «длительность», «продолжительность», мы имеем в виду только количество без всякого оттенка качественности, определенности этого вида движения.
Однако логический анализ, который проделывает здесь же Аристотель, показывает и другие свойства времени. Прежде всего, разделение на прошедшее, настоящее и будущее. Точка «теперь» есть начало и вместе с тем конец по аналогии с кругом, который с одной точки зрения, снаружи – выпукл, а с другой – изнутри – вогнут. Так и время всегда начинается и в другом отношении вместе с тем кончается. «Теперь» каждый раз иное, оно непрерывно возобновляется, мы мыслим о нем как о точке, но это не одна и та же точка. А поскольку мы мыслим о нем и ощущаем его, оно имеет смысл только в связи с человеческой душой. Без души, способной считать, будет существовать только субстрат времени, субстрат считаемого. Вот почему нам кажется, что время присуще всему на небе, на море и на земле: только потому, что мы все это наблюдаем[28].
Время, как уже упоминалось, существует в единственном числе. Оно одно, времен не может быть несколько или множество именно по той причине, что оно есть счет, число движений. Казалось бы, если существует одно, другое, множество движений, значит, и времен много, спрашивает мыслитель? Нет, конечно, «всякое равное и совместно [идущее] время тождественно и одно; по виду же одинаковы времена и не совместно [идущие]. Ведь если, [например], это собаки, а это лошади, причем и тех и других семь, то число их одно и то же, точно так же и для движений, заканчивающихся вместе, время одно и то же, хотя одно движение может быть быстрее, другое – медленнее, одно – перемещение, другое – качественное изменение. Однако время одно и то же и для качественного изменения, и для перемещения, если только число одинаково и происходят они совместно»[29].
Происходит путаница, говорит Аристотель, вследствие невольного выделения нами одного вида движений, связи его с временем. Во всем круге человеческого опыта множество видов движения: рост, изменение или возникновение – неравномерны и не идут по кругу, а вот круговращение неба единственно равномерно, как и течение времени. Поэтому-то обороты небесной сферы мы и отождествляем ошибочно с равномерно идущим временем.
Далее, время обладает свойствами непрерывности и делимости. Оно есть число появляющихся и исчезающих «теперь», и, следовательно, оно как-то на них делится; само же «теперь» делимо по отношению к «еще» и «уже», но неделимо по отношению к самому себе. Каждая граница не становится толще, не наращивается, а пропадает, поэтому время не складывается. Как сейчас говорят, не обладает свойством аддитивности. Оно проходит, а не накапливается до бесконечности. Это удивительно тонкое наблюдение Аристотеля мало понималось в последующем изложении тех, кто занимался временем вплотную. Настоящее время не состоит из точек, которые могли бы накапливаться, а каждая точка есть только край прошедшего, непрерывно исчезающая, как бы тающая и не могущая растаять, возникающая граница. Мы не будем приводить тут логических доводов, которые приводит Аристотель, достаточно сказать о выводе: «теперь» – неделимо. В нем самом не движется время, ничего не движется и ничто не покоится. Время делимо, но состоит из нечленимых «теперь», ограниченных возобновляющихся и исчезающих кусочков, которые мы воспринимаем. Из точек времени не образуется никакая длина.
Нам по нашему сегодняшнему школьному воспитанию чрезвычайно трудно понять Аристотеля, каким это образом время непрерывно и делимо, но слагается из неделимых «теперь», потому что мы причисляем время к универсальному свойству окружающего мира. Аристотель этого не делает, твердо заявляя, что время не принадлежит к движению окружающего мира. Движение не является его причиной, иначе говоря.
Пусть и не определяя его принадлежность, только подозревая, что оно имеет какое-то отношение к нашей душе, он не отождествляет его с движением всего и вся, как это делаем мы по своему научному материалистическому воспитанию. Поэтому для него время одно. Движения тел, которые мы наблюдаем, могут быть быстры, могут быть медленны или тела могут покоиться, но время идет в одном темпе, рассуждал он, потому и может быть объединяющим и характеризующим все движения, какие бы мы ни мыслили. Проще сказать, что оно принадлежит нашей душе, заявляет Аристотель.
Ибо когда не происходит никаких изменений в нашем мышлении или когда мы не замечаем изменений, нам не будет казаться, что протекло время, так же как тем баснословным людям, которые спят в Сардинии рядом с героями. Когда они пробудятся, они ведь соединят прежнее «теперь» с последующим и сделают его единым, устранив по причине бесчувствия промежуточное [время]. И вот, если бы «теперь» не было каждый раз другим, а тождественным и единым, времени не было бы; точно так же, когда «теперь» становится другим незаметно для нас, нам не кажется, что в промежутке было время[30].
Иначе говоря, время связано с нашей способностью ощущения и потому представляется делимым, т. е. с одной стороны, гладким, нерасчлененным, а с другой – как уже иная и законченная, неделимая далее величина. Это противоречие возникает из двойственности опыта, из накладывания наших ощущений на внешний мир. Для того чтобы различать любые разные ощущения, надо обладать каким-то единством, связным и соединенным, неразделенным. Таким свойством и обладает наша душа, говорит философ в другой книге. Она различает нечто неразделимое и в неразделимое время… (И далее объясняет противоречие. – Г. А.). Не обстоит ли дело так, что различающее в одно и то же время неделимо и неразделимо по числу, а по бытию – разделено? Ведь, с одной стороны, оно воспринимает различные предметы как в некотором смысле делимое, а с другой – как неделимое, ибо по бытию оно делимо, по месту же и по числу неделимо[31].
С помощью загадочного свойства времени – бесконечно делиться по бытию, но вследствие присущей нам комбинаторной способности не слагаться из наличных неделимых величин, – Аристотель расправляется и с апориями Зенона, в том числе и с парадоксом о стреле, которая наиболее наглядно приводит к противоречию, вытекающему из мыслимых нами (верно или ошибочно) свойств времени.
Зенон же рассуждает неправильно. Если всегда, – говорит он, – всякое [тело] покоится, когда оно находится в равном [себе месте], а перемещающееся [тело] в момент «теперь» всегда [находится в равном себе месте], то летящая стрела неподвижна. Но это неверно, потому что время не слагается из неделимых «теперь», а также никакая другая величина[32].
Части времени, иначе говоря, не прибавляются друг к другу. Это можно сделать только мысленно, в уме. Его онтологическая делимость не означает складывания его частиц.
В «Физике» Аристотель тоже впервые в истории науки связывает с временем вторую категорию, которую до него так отчетливо не выделяли вообще, – пространство. Оно еще не носит такого отчетливого названия «пространство». Аристотель называет его «место» и отличает как от предмета, который это место занимает, так и от пустоты. Трудно установить его природу, говорит мыслитель. Но ясно хотя бы, что оно имеет три измерения: длину, ширину и глубину, которыми определяется и всякое тело. Но невозможно, продолжает он, чтобы место было телом, потому что тогда в одном и том же пространстве оказались бы два тела. Нет точки и места точки как такого же по субстрату образования.
Чем же можем мы считать место? Имея подобную природу, место не может быть элементом или состоять из них, будь они телесные или бестелесные: ведь оно имеет величину, а тела не имеет; элементы же чувственно воспринимаемых тел суть тела, а из умопостигаемых [элементов] не возникает никакой величины[33].
Оно не есть причина существующих вещей во всех четырех смыслах, которые можно вложить в понятие причины: оно не есть материя существующих вещей, так как из него ничего не состоит, ни форма и определение предметов, оно не есть цель и не приводит в движение предметы. Да и существует ли оно, а не мыслимое «лишь»? Аристотель вспоминает и критикует Платона, отталкиваясь от того места в «Тимее», где тот (первый из всех мыслителей, говорит Аристотель, до него просто считали: пространство есть нечто) отождествляет место и материю. Нет, это неверно. Место несомненно нечто существующее, но трудноуловимое.
Прежде всего, место имеет низ и верх. Затем оно связано с чем-то, или с материей, или с формой, или с протяжением между краями предмета. Но анализ показывает, что оно не есть ни форма, ни материя, ни протяжение. Как и времен, мест не множество, потому что тогда было бы место места, т. е. часть части и т. д. Оно похоже на сосуд, в котором все находится, но сосуд единственный.
Подобно тому, как сосуд есть переносимое место, так и место есть непередвигающийся сосуд. Поэтому, когда что-нибудь движется и переменяется внутри движущегося, например, лодка в реке, оно относится к нему скорее как к сосуду, чем как к объемлющему месту. Но место предпочтительно должно быть неподвижным, поэтому место – это скорее вся река, так как в целом она неподвижна. Поэтому центр Вселенной и крайняя по отношению к нему граница кругового движения кажутся всем по преимуществу и в собственном смысле верхом и низом[34].
А границы существуют вместе с тем, что они ограничивают, как предмет вместе с местом. Это приводит к мысли, что все находится в конечном счете во Вселенной, но Вселенная – нигде не находится.
А наряду со Вселенной и целым нет ничего, что было бы вне Вселенной, и поэтому все находится в Небе, ибо справедливо, что Небо [и есть] Вселенная. Место же [Вселенной] не небесный свод, а его крайняя, касающаяся подвижного тела покоящаяся граница, поэтому земля помещается в воде, вода – в воздухе, воздух – в эфире, эфир – в небе, а Небо уже ни в чем другом[35].
Таким образом, посередине места находится тело, а не само по себе протяжение. И место находится где-то, а не в месте же, но только как граница в ограничиваемом теле. Так что мы видим, что время и пространство для Аристотеля бесконечно более сложные явления, чем простые свойства объективного мира, что в простоте душевной обыденно мыслим мы, наделяя ими, как неким текучим состоянием, все предметы и все процессы.
* * *За какие-нибудь пятьдесят лет расцвета греческой учености представления о пространстве и времени родились в полном вооружении, как Афина из головы Зевса.
Все греческие мыслители в совокупности создали впечатляющую атмосферу умственной работы и логических исследований, из которой выросли вершины: Платон и Аристотель. Что касается времени, первый дал для него начальное определение, указал на источник его происхождения от некоей «времяподобной» сущности – вечности, второй как истинный позитивист античности оставил в стороне «место рождения», которое о свойствах времени и пространства еще не свидетельствует, зато выяснил их собственную природу, описав их свойства, как понимал.
Однако за те же века практическое наблюдение за звездным небом, планетами, применение этих знаний и их математическая обработка привели уже к математическим теориям измерения времени, к развитию и использованию календарей и хронологий. Рассмотрение истории этой стороны исследований времени и пространства не входит в нашу задачу, как уже говорилось. Следует только заметить, что в обыденном мнении под влиянием распространения астрономических знаний и астрологических теорий достижения Аристотеля упростились и снизились. Время стали понимать как нечто производное от движения, а именно от движения космических тел.
Платон и за ним Аристотель пытались утвердить в умах образованного человечества мнение о противоположности земного и небесных миров, о стройности и порядке космоса по сравнению с земным разнообразным миром, о коренном отличии материала, из которого сделана Земля, от того, из чего состоят Небо и небесные тела. Такое представление как нельзя лучше подошло и проявилось у воспринявших платонизм и аристотелизм христианских теологов. Они возвели отличие земного от небесного в степень идеологии, естественно. Небесный мир, как аналог совершенного Царства Божьего, поистине, стал синонимом всестороннего совершенства, он непримиримо противопоставляется подлунному миру как юдоли греха и смертности. Разнесение земного и небесного стало воздухом всей жизни христианской религии.
Но вместе с тем за прошедшие века мысль классиков, развиваясь в одном отношении, упрощалась в другом. Она усложнялась в идеях, в теории, в рассуждениях, но сводилась к примитиву в познании реальности. Как всегда при распространении вширь первоначальная сложная и неоднозначная мысль творца как будто под действием энтропии подводится под что-то понятное и простое.
В этом общем мнении образованных людей, знающих о планетах и о Птолемее, об астрологии и космосе, время стало пониматься так: оно идет потому, что существует и движется с неизреченной точностью и стройностью хор небесных светил. Их движение и дает нам, производит время. Время не есть космос, предупреждал Аристотель. Время есть космос, отложилось в умах.
С этим общераспространенным предрассудком и вступил в полемику Августин Блаженный, о котором нельзя не упомянуть, завершая здесь древние главы. Его «Исповедь», написанная как страстный монолог, обращенный к Богу, поражает глубиной проникновения в духовную природу человека. Августин своей «Исповедью» и другими книгами, своей подвижнической деятельностью ищет Бога в душе. Его в целом не интересуют физические основы мироздания, ему безразлично, как все устроено. Град Небесный для него Град Божий, а не космический, он ставит главной задачей спасение души, а не познание физического мира.
Но почему-то из всех характеристик тленного мира время неизменно останавливает его внимание. Вероятно, таков был сам склад его ума, загадка временности не давала ему покоя. Поэтому помимо главных, нравственных аргументов, связующих нас с Высшим Существом, его «Исповедь» наполнена рассуждениями о времени и вечности. В целом он на новом этапе повторяет основные конструкции Аристотеля, но вносит в них новые оттенки и повышенную эмоциональность.
«Я слышал от одного ученого человека, что движение Солнца, Луны и звезд и есть время, но я с этим не согласен. Почему тогда не считать временем движение всех тел? Если бы светила небесные остановились, а гончарное колесо продолжало двигаться, то не было бы и времени, которым мы измеряем его обороты?» – спрашивает Августин[36].
Так чем же отличается колесо горшечника от небесных тел и почему оно не может быть «генератором» времени в такой же степени, как Луна, Солнце и все остальные движущиеся в мире тела? Августин вспоминает знаменитый библейский пример об Иисусе Навине, который, одолевая врага в битве и видя, что наступает ночь, попросил Солнце не двигаться. По его молитве чудо произошло, солнце замерло на своем пути, и он смог довершить свою победу. «Но шло ли тогда время?» – вот что спрашивает Августин. Конечно, шло, отвечает он, ведь течение событий не остановилось.
«Пусть же никто не говорит мне, что движение небесных тел и есть время… Итак, я вижу, что время есть некая протяженность»[37].
День, час, сутки – эти временные единицы связаны с движением Солнца, измеряются его перемещением по небосклону. Однако скорость этого перемещения, проницательно замечает Августин, могла быть и другой, и, следовательно, разбиение этого видимого прохождения светила по небосклону на двенадцать дневных часов и двенадцать ночных есть условность, созданная, несомненно, нами самими для удобства счета. Ведь временем мы измеряем не только движение, но и покой. Говорим, например, что такое-то тело стояло столько-то.
Платоновский космический Ум, Бог, в «Тимее» создающий космос и богов рангом пониже, так сказать, которые в свою очередь создают людей, это всеобъемлющее существо, пребывающее в вечности, теперь в христианстве становится немного более понятным, как бы ближе к человеку. Однако способность пребывать в вечности, говорит Августин, у него осталась, как и способность создать этот мир. Но если Бог сотворил мир, то сотворил ли он время мира? Как соотносится время и вечность?



