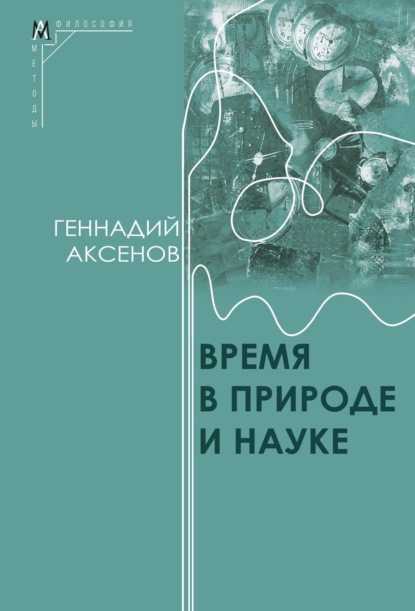
Полная версия:
Время в природе и науке
Самым тесным образом связана с однонаправленностью необратимость времени. Течение существует только в одном направлении и оттуда не возвращается. Необратимость есть непрерывное становление настоящего, его непрерывное возобновление, неотвратимое обновление. Никакая прошлая комбинация не повторяется. Нельзя вернуть прошлое, повернуть вспять и поменять местами прошлое, настоящее и будущее. Это свойство времени является самым эмоционально нагруженным, предметом поэтическим и лирическим, потому что бренность бытия больше всего влияет на нас, лично нас касается.
А вот пространство легче представить себе наглядно. Оно проще связывается с устойчивостью, основательностью, представляется видимым простором, расстоянием, вместилищем всех существующих тел.
Но совсем нетрудно вообразить, что пространство является оборотной стороной явления времени и все вышеперечисленные свойства времени двойственны, легко преобразуются в пространственные. Длительность становится протяженностью, делимость – дискретностью, ограниченностью кусков пространства. Тройственное свойство распадения на прошлое/настоящее/будущее в чем-то схоже с трехмерностью пространства, чрезвычайно близким и привычным качеством окружающего иметь высоту, ширину и длину.
Есть и еще одно малоизвестное, но важнейшее сходство. Асимметричности времени соответствует такая же несимметричность пространства, называемая еще диссимметрией, – свойством иметь левое или правое направление. Мы о нем подробно поговорим в своем месте, здесь же достаточно сказать, что она явно совпадает с необратимостью времени, поскольку, как оказалось, пространство несимметрично относительно некоторых своих направлений, оно «неправильное», неравное, некоторые его стороны несимметричны другим при всех прочих одинаковых свойствах. Это и есть диссимметрия.
И теперь, если мы скажем «а», т. е. согласимся с гипотезой, что у времени и пространства есть природные причины, мы должны сказать и «б». Если все свойства и качества или атрибуты времени и пространства не выдуманы нами, не чистейшая условность, у которой нет никаких опор в действительности, тогда они имеют определенные природные источники, как и любые другие природные явления. Но так как иллюзию, повторяю, наука не измеряла бы, значит, гипотезу надо пока принять и попробовать отыскать «гены» длительности и делимости времени, и необратимости, и становления настоящего. У каждого из этих представляющихся нам абстрактных понятий, если посчитать их реальными свойствами реального процесса, должны иметься природные носители. Что-то должно сообщать каким-то вещам длительность, так же как что-то другое обеспечивать прерывание ее на объективно находящиеся где-то мерные куски; где-то обретаются причины диссимметрии и трехмерности пространственных образований. Неслучайно же возникли эти названия. Не могут они возникнуть для обозначения несуществующего вокруг нас и внутри нас, как имена ангелов, например. Или же они при правильно построенной аргументации и доказательствах естественными причинами должны исчезнуть из научного языка, как исчезли, например, такие ясные и очевидные, казалось бы, понятия, как «небо» или «небесный свод». Они больше не требуются в развитой научной речи и не измеряются как явления, а стали чистыми образами и достойны только поэтической и обыденной речи.
Причина времени, или причины свойств пространства и времени, тем более требуют осмысления и рассмотрения, что многие благородные и высокие умы пытались сделать. Собственно говоря, предметом всего дальнейшего рассуждения и исследования является постановка вопроса о том, что они относили к природе или к причине времени. По моему мнению, именно причину времени, природную реальную обусловленность ее искали многие выдающиеся мыслители, о которых мы собираемся здесь рассуждать.
Но само понятие «причина» тоже нуждается в определении. Причины бывают разные. Они выяснены и классифицированы еще Аристотелем и с тех пор не претерпели особых изменений[11].
1. Причина порождающая, родовая. Родители есть причина детей. Происхождение предмета есть причина его свойств.
Нам этот оттенок смысла слова «причина» здесь не подходит. При общей родовой последовательности свойства детей не сводятся к свойствам родителей. Хотя и бывают наследственные болезни, а яблоко от яблони недалеко падает, не всякое явление легко свести к производящей причине. Ведь и у детей, и у родителей одинаково есть более глубокие общие «родители» – те самые гены, которые не прерываются во времени.
А иногда производное явление ничем не напоминает производящее. Описать одно через другое трудно или даже невозможно. Мы увидим далее, что с таким настроением, с отказом от идеи происхождения и создается любая научная дисциплина. Основоположники наук всегда пытались отъединить одни закономерности, порождающие от других – специфических, которые как раз и составляли предмет данного научного наблюдения и описания.
2. Причина как цель. То, к чему явление восходит, стремится. Дуб «стремится» заполнить тот объем, который ему положен по природе. Знание есть причина обучения. Все к чему-нибудь тянется. Но и этот аспект причинности не работает в понятии «причина времени». Цель не выявляет специфики, она непохожа на предмет. Цель может служить стимулом появления данного явления, но ничего не говорит нам о свойствах его. Этот движущий стимул больше подходит разумному существу. Мы ставим себе цели и движемся к чему-то. Остальной природе осознанное целеполагание несвойственно, хотя какое-то пред-знание как будто существует и в остальной живой природе.
3. Причина действующая, движущая. Что касается человека, то, например, некое искусство вызывает к жизни некоторые продукты творчества. Причина дождя содержится в конденсации водяных паров в облаках, причина грома есть прохождение разряда электричества через воздух. Действующая причина есть непосредственная и ближайшая к явлению. В большей степени наш предмет отвечает такой простой и непосредственной связи.
4. Причина как форма осуществления, как нечто присущее предмету по его устройству, как свойство, детерминанта. Пожалуй, лучше всего иллюстрирует данный род причины явление электричества, даже не наследственность, например. Если есть тела, которым свойственно электричество, стало быть, оно появляется и в какой-нибудь присущей ему форме, т. е. с определенным напряжением, частотой, амплитудой и другими качествами его.
Наверное, две последние причины как непосредственные определяющие явления ближе всего к нашей задаче. Как явления непростые, время и пространство можно попытаться определить и непосредственной движущей, и формальной причиной. Иначе говоря, следует утверждать, что время, как и пространство, вызывается явлениями определенного вида и не вызываются другими явлениями.
Надо только сразу отрешиться от попыток определить, как это часто бывает в философии, материальна причина или идеальна. Мы увидим далее, что такие вопросы незрелые и только запутывают дело. Явление и есть явление, и нам нужно его правильно описать, не обращаясь к начальным и последним причинам и окончательным следствиям, ведь оно находится посередине, возле нас, так сказать, и должно быть описано понятным языком, тогда и будет правильно.
Следует добавить, что по большей части научные и философские рассуждения в книге разделены, специально оговариваются, хотя такое разделение нелегко, особенно в отношении нашего предмета, как уже говорилось. Во многом пока у нас в головах смесь нескольких областей познания. Как их отличить друг от друга? Мне кажется, есть простой критерий. Если текст легко переводится с языка на язык – это наука, если трудно – это философия. Чем труднее, тем больше в нем философии. Поэтому во всем дальнейшем изложении я старался использовать в основном научную аргументацию, а не философскую, хотя иногда отделить одно от другого нелегко. Соответствен и подбор авторов. И по тому же намерению ограничить предмет только научной аргументацией, множество философов, писавших о времени, осталось за пределами книги.
Ученые, о которых мы будем говорить, относятся к тем, которые пытались превратить рассуждения, философствование о времени и пространстве в аргументированную науку о времени, оперировали не пространными речами, а фактами. Они пытались оставаться в рамках общепринятых приемов исследования, стать не оригинальными, но понятными.
Часть первая
Время как артефакт
Глава 1
Подвижный образ вечности
Почитатель ума и знания должен рассматривать прежде всего причины, которые связаны с разумной природой, и лишь во вторую очередь те, которые связаны с вещами, движимыми извне, и потому с необходимостью движущими другие вещи.
Платон. ТимейПервое известное рассуждение о времени оказалось столь знаменитым, что до сих пор является предметом споров и различных интерпретаций. Кто только не оттачивал на нем свой ум!
Конечно, речь идет об апориях Зенона Элейского, называемых также парадоксами Зенона. Апория обозначает буквально бездорожье, т. е. запутанная, неразрешимая логическая задача. Весь смысл ее в том, что она впервые в философии связала между собой две очевидные категории ума: время (в другом случае – пространство) и движение. Апорий у Зенона несколько, но они все построены по одной модели: он делит время (или пространство) на некие мерные отрезки и доводит это деление до предела. Например, утверждается, что быстроногий Ахиллес никогда не сможет догнать убегающую черепаху, потому что ему последовательно приходится преодолевать половину дистанции между ними за определенное время, затем половину от оставшейся половины и так далее до бесконечности. И поскольку такое деление никогда не может завершиться, медлительная черепаха недосягаема.
В античной философии опытная проверка научных положений не считалась решением проблемы, парадокс нужно было преодолеть правильным рассуждением. Вот почему, когда «мудрец брадатый» из стихотворения Пушкина заявил: «Движенья нет!» – а «другой смолчал и стал пред ним ходить», т. е. применил новый способ аргументации, предпринял эксперимент, его не приняли в качестве доказательства. Говорят даже, что Зенон набросился с палкой на хитрого изобретателя, потому что тот унизил божественный разум, который все должен разрешать логически, а не отсылать к видимости, которая, как философы прекрасно знали уже тогда, по большей части весьма обманчива. Да и Пушкин напомнил о неизвестной древним очевидности: «Ведь каждый день пред нами солнце ходит, / Однако ж прав упрямый Галилей».
Итак, вот апория «Стрела», которая лучше других иллюстрирует нашу тему о причине времени. Летящая стрела демонстрирует нам иллюзию движения, говорит Зенон. На самом-то деле она покоится. Ведь стрела летит во времени, не так ли? А если это так, в чем нам не приходится сомневаться, а время состоит из неких частиц, т. е. оно, конечно, делится, и мы можем вообразить себе настолько малый отрезок, отграниченный кусочек времени, когда его ход сам по себе исчезнет. Никакой длительности уже почти и нет, и она даже останавливается. Наступает то, что мы называем моментом. Следовательно, в этот краткий миг стрела покоится. И потому она покоится вообще.
Вот чем Зенон навсегда покорил умы. Хорошо видно, как стрела летит, а если рассуждать строго логически, то она покоится. И это неразрешимое противоречие пытались решать самыми различными способами, включая неведомые во времена Зенона, т. е. новейшие из квантовой механики или теории относительности[12].
Известно только, что из этого зародыша выросли все проблемы времени. Все самые современные толкования их сопоставимы с апориями Зенона.
Делится ли время на мерные куски, и если да, то что означает такое деление? Можно ли делить его до бесконечности? Может быть, как раз деление есть иллюзия, а время на самом деле гладко или плавно и не состоит из единиц? Тогда одна частица его не отъединена от другой, и, следовательно, нет этих проклятых перерывов, через которые стрела, как и другие движущиеся предметы, вынуждена прыгать, преодолевая неясную пропасть между двумя моментами времени и отрезками своей траектории.
Но, может быть, стрела движется не во времени? Может быть, она как-то избегает его? Но весь жизненный и умственный опыт нам говорит: нет, время – всеобщее свойство движущегося мира. Вокруг нет ничего, что не испытывало бы изменений, движений, перемещений, не волновалось бы, и ничто не происходит мгновенно, но в своей последовательности. Если есть какая-то упорядоченность в окружающем мире, то она связана, несомненно, с течением времени. Время выстраивает изменения, благодаря чему нет хаоса, смешения всего и вся, а есть стройность, красота, гармония и т. д. Следовательно, исключать движущиеся предметы из времени нельзя. Значит, время связано с движением прочно и неразрывно. Так мы привыкли думать.
Зенон создал своими апориями умственную атмосферу, поле напряжения, силовую среду, в которой поколения мыслителей размышляли о времени и пространстве.
Но мы здесь не будем решать эти парадоксы. Прежде всего потому, что с точки зрения причины времени решать в них оказалось нечего. Как и все парадоксы, противоречие основано на смешении понятий из разных рядов. Происходит игра, полезная, конечно, игра ума, но не имеющая никакого другого результата, кроме как упражнения мыслительных способностей. Природу времени мы из решений апорий не вытянем.
Нам достаточно сказать об апориях для того, чтобы напомнить об умственных настроениях той поры, когда в сознании образованных людей со временем связались некоторые прочные, необсуждаемые и непререкаемые его свойства, вытекавшие из рассуждений Зенона. Даже не из них, а из того, что подразумевалось из постулатов или аксиом, которые положил Зенон в основу своих рассуждений и которые тогда неявно и молчаливо, а теперь уже явно принимаются и до сих пор всеми общими и философскими словарями и теоретиками времени. Некоторые словари мы цитировали выше. Какие же это аксиомы?
Во-первых, всеобщность времени, о которой упоминалось выше. Это скрытое условие всего рассуждения, и в нем никто не сомневается, не обсуждает даже правомочность этого положения, но на нем все построено. Время связано со всем на свете, все происходит во времени. Нет ничего вокруг при всем разнообразии этого всего, что не проходило бы вместе со временем. Значит, оно присуще всему. Но так ли это?
Во-вторых, сомнительна аксиома о пределе делимости времени. Единицы его суть мельчайшие, но они не исчезают, нерастворимы, благодаря чему мы мыслим время прерывистым, хотя и разделяющимся на очень малые, неуловимые отрезки. Предположение о дискретности времени выявил уже в античности Аристотель. Он заметил шаткость построений Зенона: «…Летящая стрела стоит неподвижно; оно вытекает из предположения, что время слагается из „теперь“; если этого не признавать, силлогизма не получается»[13].
Тем не менее критика Аристотеля не возымела особенного успеха, и в предположение о существовании дискретных единиц времени философы продолжали играть.
В-третьих, утверждено главное положение: время связано с движением. Фактически самые всеобщие и самые заметные черты или свойства окружающей действительности, несомненно, заключаются не просто в том, что все течет, согласно афоризму Гераклита, но все течет во времени.
Но является ли причиной времени это всеобщее движение? Кажется, на такой вывод наталкивали хотя бы апории Зенона. Однако первое по-настоящему теоретическое рассуждение на эту тему ввело в поле внимания, кроме категорий времени и движения, еще одно действующее лицо.
* * *Платон оказался первым, кто вообще связал время с его причиной. Он совершенно твердо и уверенно указал на его источник. Время есть следствие, появилось благодаря некоторой сущности. Несмотря на крайне непривычную для нас сейчас форму выражения, его идея является одним из самых впечатляющих достижений античной мысли, а с его натурфилософии, выраженной в диалоге «Тимей», и сегодня начинается любое рассуждение об общих законах природы, любая космология да и история естествознания вообще.
Вся предшествующая греческая философия, в сущности, принимала понятие времени само собой разумеющимся, что мы видели на примере Зенона. Ее предметы не нуждались в каком-либо особенном описании или определении времени, кроме обыденного неясного представления, которое есть у всех, и не требовали излюбленного софистического приема теоретического рассмотрения, когда сводятся и разводятся однородные и близкие понятия. Многие предметы обычных рассуждений греческих философов: справедливость, ум, рассудок, душа, познание, государство существуют как бы вне времени, вне развития, сами по себе, как сущности или феномены с неизменной природой, однажды созданные.
Главный герой платоновских диалогов Сократ вообще тоже ничего и никогда не говорит о времени. Его излюбленные темы касаются человека, но не природы как таковой, не движения вещей, где время обретается. По его словам, он ничего не испытывал из того, что есть над и под землей, т. е. никакой физикой или астрономией не интересовался. И Сократ беззлобно, как всегда, удивлялся, зачем это Аристофан в одной из своих комедий изобразил его болтающимся в какой-то корзине под облаками и рассуждающим об устройстве неба.
Вот почему в знаменитом «Тимее», единственном из всех диалогов Платона, где идет речь об устройстве этого самого неба и всего космоса, Сократ только слушатель, а все содержание Платон вкладывает в уста Тимея. В сущности, мизансцена показательна и органична, поскольку все, что излагает Платон, предположительно и наиболее логично из всего, что можно было высказать в ту эпоху о природе, когда науки как таковой не существовало, только здравый смысл и простые наблюдения. Платон первым попытался превратить этот скудный материал в «теоретическое» знание о природе.
В рамках этого рассуждения время появляется как порождение вечности, возникает оппозиция «вечность – время». Одно как нечто неизменное, постоянное, тождественное самому себе, другое как нечто меняющееся, текучее. Вечность пребывает в себе, а время возникает и пропадает. Но тождественен себе и пребывает только Ум, мировой разум. Он и порождает из себя Вселенную, космос.
Мысль не подвержена ничему такому, утверждает Платон, что мы связываем со временем, т. е. не стареет и не портится, и пребывает сама в себе вечно. Она принадлежит Богу, который равен Самому Себе. Бог и вечность – синонимы. Вечность, рассуждает Платон, не означает некую бесконечность времени, некий бесконечный ряд лет, это совершенно другое качество, нежели время. В вечности нет ни лет, ни месяцев, ни дней. О вечности нельзя сказать, что она есть или будет. «Если рассуждать правильно, ей подобает одно только „есть“, между тем как „было“ или „будет“ приложимо лишь к возникновению, становящемуся во времени»[14].
Иначе говоря, вечность есть некое неразложимое единство прошлого, настоящего и будущего, когда ничто не проходит, но пребывает.
Порожденный Демиургом космос Платона и есть природа. Она осязаема, видима, слышима, в отличие от истинного мира, который невидим и неосязаем, зато мыслим. Бог, он же Демиург, строит Вселенную по образцу (парадигма по-гречески) вечности, т. е. Он хотел бы передать ей присущие ему качества вечности, устойчивости, непреходящести. Но дело обстояло так, говорит устами Тимея Платон, что природу живого и вечного существа нельзя передать ничему, что он порождает из себя, это можно сделать только отчасти, так сказать. И следуя этим загадочным «обстоятельствам дела», иначе говоря, закономерному порядку вещей, который устойчивее самих вещей, Демиург «замыслил сотворить некое движущееся подобие вечности; устрояя небо, он вместе с ним творит для вечности, пребывающей в едином, вечный же образ, движущийся от числа к числу, который мы назвали временем»[15].
Вот, в сущности, первое в человеческой истории вдумчивое определение времени, т. е. не принятие его как самого собой разумеющегося, что проходит или течет, но попытка осознать его таким – явлением еще нельзя сказать, но свойством мира, – которое имеет определенный источник. Время появляется. Его не было в вечности. Оно произошло одновременно с миром, вот что важно, не в некий определенный период, или эпоху, или в определенный срок, оно создано прямо вместе с материей, для того чтобы являлись и дни, и часы, и эпохи. Оно придано движущемуся, осязаемому и слышимому, т. е. чувственному миру, но не мыслящему, не обладающему умом – не вечному миру. Явление производное, вторичное, рожденное, как говорит Платон. Согласно «обстоятельствам дела», т. е. по каким-то еще неизвестным, но непреодолимым даже для божества законам, оно не могло стать тождественным вечности, а могло получить от вечности лишь его ухудшенную бледную тень, отпечаток. Перейдя от Демиурга в мир, вечность распалась на составные части, и появились «теперь», и «есть», и «было», и «будет», а также годы и месяцы[16].
Очень важно, что Платон, кроме частей времени, т. е. прошлого, настоящего и будущего, связывает с ним еще несколько существенных качеств: становление или возникновение, появление, а также понятия о бренности: молодость и старение.
«Итак, время возникло вместе с небом, дабы, одновременно рожденные, они и распались бы одновременно, если наступит для них распад; первообразом же для времени служит вечная природа, чтобы оно уподобилось ей, насколько возможно. Ибо первообраз есть то, что пребывает целую вечность, между тем как [отображение] возникло, есть и будет в продолжение целокупного времени. Такими были замысел и намерение бога относительно рождения времени; и вот, чтобы время родилось из разума и мысли Бога, возникли Солнце, Луна и пять других светил, именуемых планетами, дабы определять и блюсти числа времени»[17].
Платоновский космос устроен просто: в центре Земля, затем в первом от нее круге, или сфере, Луна, во втором – Солнце, затем планета Гермеса (называемая теперь Меркурий), утренняя звезда (Венера) и еще три планеты, расположенные на своих кругах, или сферах. В строении семи сфер он не был оригинальным, об этом говорили до него пифагорейцы, однако важно, что он связал с кругами блуждающих звезд или планет вычисление времени. В этом его главная мысль об устройстве Вселенной. Не только блуждающие звезды, т. е. планеты, но и все остальные, неподвижные, даны для «устроения времени». «Что касается круговоротов прочих светил, то люди, за вычетом меньшинства, не замечают их, не дают им имен и не измеряют их взаимных числовых отношений, так что, можно сказать, они и не догадываются, что эти необозримо многочисленные и несказанно многообразные блуждания также суть время»[18].
Вот, собственно говоря, и все, что платоновская философия говорит о времени. Немного, но очень определенно. Не в том смысле, что относит возникновение его на счет божества, а в том, что нетривиально определяет источник времени. Собственно говоря, в реалистическом смысле, если можно применить к его философии эти слова, а некоторые и применяли, или, лучше сказать, в обыденном смысле, из предыдущих построений философии, из тех же апорий Зенона вытекало, что время связано с движением и, следовательно, зависит от него или, напротив, движение – от времени[19]. Но Платон не пошел по связи двух очевидностей, или видимостей, – движения тел и течения времени. Время у него зависит не от движения тел, а от божества, т. е. оно отражает вечность и получает от него максимально возможное, учитывая разрушительное действие «обстоятельств дела», отпечатывание в бренных вещах, и главная характеристика этой бренности – течение, или ход, времени. Он не поддался соблазну отнести «устроение» времени за счет небесных тел. Звезды у него служат только для счета, для вычисления различных соотношений времени, но не для его «производства».
В порядке платоновского творения Демиург образует стихии, или роды: землю, воду, воздух и огонь, из которых и формирует бренные тела. У него в наличии есть вечные идеи, образцы, согласно которым он это делает. Иначе говоря, Демиург упорядочивает стихии при помощи «образов и чисел»[20]. Но между идеями (или умом) и движущимися вещами, носящими те же имена, что и идеи (которые в земном выражении стали мнениями), соединенными с нашими ощущениями, расположено некое средство или промежуточная ступень. Этот посредник есть не что иное, как пространство. «Есть еще один род, а именно пространство: оно вечно, не приемлет разрушения, дарует обитель всему рождающемуся, но само воспринимается вне ощущения, посредством некоего незаконного умозаключения, и поверить в него почти невозможно»[21].
Рассуждения Платона о пространстве довольно сложны и всегда вызывали массу толкований. Мы не будем в них сейчас углубляться. Нам достаточно знать и воспринять только одну и самую простую его мысленную конструкцию.
Для всего дальнейшего изложения нам важно не столько конкретное наполнение платоновской конструкции, т. е. «порождение» времени и пространства божеством. Необходимо и достаточно из слов «происхождение времени от вечности», к чему сводится платоновская идея, взять пока только понятие происхождение времени. Важна идея производности времени, его зависимости от другого порядка вещей. С этим пока еще нечего делать, оно ничего не говорит уму, кроме отсылки к другому, не земному порядку сущего. Превратим ее из положительной мыслительной конструкции, как ее трактует Платон (время порождается вместе с миром Демиургом, а пространство – даже выше по иерархии творения, поскольку вечно), в отрицательную: время и пространство не принадлежат движущимся телам, не зависят от них. Этого пока достаточно, как мы увидим ниже. Хранение времени, его исчисление есть только показатель, ход «от числа к числу», как говорит Платон, а не само время. Движение вещей есть способ его измерения, но не его генератор. Вот что важно.



