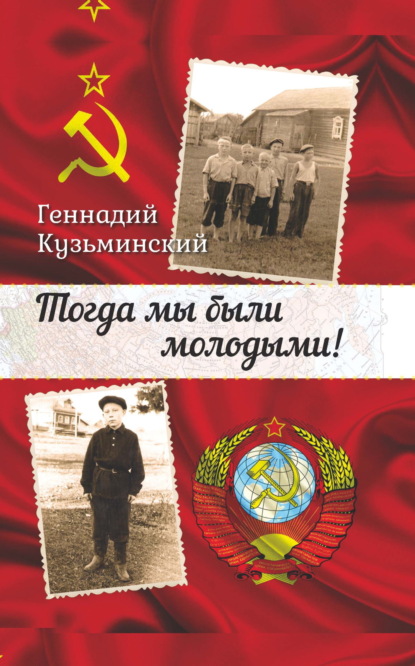
Полная версия:
Тогда мы были молодыми!
В кепках носили пойманных раков и рыбу. Её использовали вместо фильтра, когда надо было напиться воды из лужи или ручья. Сашка Камутин носил в кепке за подкладкой мышей, что налавливал в поле для своей кошки. Модные мужики, особенно рыбаки-любители, носили соломенные шляпы.
«Выходные» кепки носили по праздникам, в город или по другим особым случаям. Самые распространённые были кепки-восьмиклинки. Внутрь такой кепки вставлялся картонный обруч для сохранения формы, а подростки могли заложить и металлический, чтобы во время драки отмахнуться. Я знаю, что такой обруч был заложен в кепку Васьки Багрелова. Он мне её однажды уделил на время, когда я на конюшне в возрасте шести лет дрался с Пашкой Степановым, который был значительно старше меня и крупнее. Я так настучал этой кепкой ему по голове, что потом был выпорот матерью ремнём.
Подростки одевались помоднее, чем взрослые. Рубашки были разных цветов и фасонов. Приталенные, навыпуск, воротник-стойка, нагрудные, накладные карманы и т. д. Брюки тоже по моде: то узкие, то широкие, то прямые, то расклешённые, карманы – то косые, то прямые, и всех цветов, от белых до чёрных. На ногах уже ботинки, а не сапоги. Ботинки тоже разных цветов и фасонов. Тупоносые, остроносые, на платформе, на тонкой подошве («корочки» назывались), со шнурками или без шнурков. А по деревне бегали в чём придётся. На ногах сандалии, кеды китайские, кожаные тапочки, старые ботинки или босиком. В лес или на работу – сапоги или что-то другое по обстановке. На головах кепки, тюбетейки, соломенные шляпы, или шляпы, сделанные собственноручно из газеты «Северный рабочий».

А это мои модные одноклассники. Брюки – клёш, лацканы на пиджаках – шире некуда. Все улыбаются.
Купались в речке поначалу в трусах, называемых в народе семейными, но в середине пятидесятых у молодёжи появились плавки. Они были чёрного или синего цвета и завязывались на бедре сбоку двумя тесёмочками. Резинки в таких плавках не было. Если трусы после купания снимали, выкручивали (выжимали) и снова надевали досыхать на теле, то такие плавки уже просто снимались и вместо них надевались сухие трусы. Особенность их была в том, что их можно было надеть и снять, не снимая трусов, через одну ногу, и не ходить в кабинку, за куст или под берег. Вскоре, правда, появились разнообразные настоящие плавки на резинках, те уже так просто не наденешь и не снимешь. А вот у девчонок почему-то всегда были купальники, как сплошные, так и раздельные. Горожане приобретали все эти прелести, конечно, значительно раньше, чем мы, деревенщина.

А как же на море и без транзистора? Нельзя.
В ту пору зимы были настоящие – длинные, снежные и морозные. Одеваться приходилось соответственно. На голове шапка-ушанка – один из символов России, на ногах валенки – другой символ. Шапки эти утеплялись ватой. Верх был из плотной шерстяной материи или кожаный, козырёк и «уши» отделывались натуральным мехом, как правило, цигейкой (овцой). И шапки такие назывались «цигейковые». Стоила такая шапка 14 рублей, кроличья была дешевле, всего 12 рублей. Народ предпочитал шапки с кожаным верхом. Они не продувались ветром, лучше сохраняли форму, не намокали от дождя и снега, да и выглядели поприличнее, как говорили, побогаче. Да её в случае чего от грязи и пыли отмыть можно без ущерба для качества. Были в моде и меховые папахи, напоминающие солдатские пилотки, они были плоские, их удобнее хранить, да и посидеть на ней можно было, но вот уши они от мороза спасали частично или совсем не спасали.
Одно время в моду вошли шапки с мехом наружу. В городах «уважаемые» люди носили шапки с дорогим мехом, например: норка, куница, соболь, хорь, выдра. А большинство – что попроще и подешевле: белка, кролик, кошка, собака, волк, лисица, ондатра, бобр, олень, енот. Была мода и на шапки с очень длинным мехом. Шапка из шкуры енота или черно-бурой лисицы, например, была в три раза больше головы, была у меня такая. Когда она мне надоела, я её подарил кому-то к большой радости нового обладателя, а вот кому, уже не помню. Женщины тоже щеголяли в меховых шапках, как мужского покроя, так и женского.

Валенки носили ручной работы. Делали их длинными, почти до колен, чтобы снег в них не попадал, когда по сугробам лезешь. Мужские валенки делали с загибом, и если его «разогнуть», то они становились выше колен, как ботфорты. Мужики на снимке в такие обуты. Многие семьи валяли их из шерсти со своих овец романовской породы. Чем больше шерсти, тем они толще, а значит, и теплее, да и длиннее. Модными считались чёрные валенки, крашеные, а так от природы они серые. Самым уязвимым местом у валенок был задник и подошва. Задник протирался калошами, а подошва о дорогу. До того, как появились калоши-тянучки из эластичной резины, чёрные, матовые, носили литые. Литые были тоже чёрные, но блестящие, в них можно было смотреться, как в зеркало. Они были очень жёсткие, тяжёлые и, несмотря на матерчатую подкладку на внутренней стороне, валенок протирали быстро. Такие валенки отдавали в ремонт Васе Осипову или носили в Заозерье, в сапожную мастерскую.
На задник в этом случае пришивалась кожаная накладка и делалась подошва из такого же войлока, как валенок. Когда сапог ремонтировался кустарным способом, то есть на дому, то мастеру несли старый валенок для подошвы и старую кожаную обувь для накладки. Такие валенки носили уже без калош. Если подошву не подшивали, а только «задник», то носили их и с калошами. Нитками, которыми ремонтировали валенки, служила дратва (просмолённая льняная нить). В школу ходили в валенках или зимних ботинках. Ботинки были кожаные на меху или войлочные, называемые «прощай, молодость». В нормальных семьях у каждого члена семьи было по несколько пар валенок. Наиболее продвинутые мужчины и женщины носили валенки круглый год, в них зимой тепло, а летом не жарко. Мне кажется, кузнец Фёдор Багрелов их вообще не снимал. Даже невод по реке он и то таскал в валенках, а в кузнице это самая безопасная обувь. Да и мой дядя Борис Крылов любил в них ходить, у него даже домашние тапочки были сваляны из шерсти.
Валенки носили «на босу ногу». А вот другие сапоги – с портянками. Портянки, я думаю, одежда чисто русская, как и валенки. Если их нормально навернуть (намотать), то нога чувствовала себя очень комфортно, не то, что носки. Если ноги промочил, то её можно перемотать другой стороной, что была в голенище и осталась сухой. Пока ходишь, и сырой конец подсыхал, и снова можно перемотать.
Верхней добротной одеждой считалось драповое пальто на вате, длинное или укороченное. Чаще имелось и то и другое. Материал был настоящий, изнашивался довольно быстро, поэтому такие пальто часто перелицовывали – выворачивали наизнанку и оно становилось как новое. Любил народ и полушубки из шкуры той же романовской овцы. В них хорошо, когда ветер на улице – не продувает и воротник высокий, голову, а главное, уши, закрывает. У нас в семье было два таких полушубка. Но самой распространённой, я бы сказал, всесезонной, одеждой была фуфайка (ватник). Лёгкая, удобная, тёплая вещь, один недостаток – не было настоящего воротника. Даже от лёгкого зимнего ветерка приходилось прятать лицо, уши и шею под шапку или шарф. Эта фуфайка была на все случаи жизни, и сейчас бы поносил, да купить негде. Во времена нашего детства их шили в КБО в Заозерье.
На руках носили рукавицы, связанные из той же шерсти. У нас в семье бабушка пряла пряжу, а мама вязала на четырёх спицах. Рукавицу она могла связать за один вечер. Мы с братом смотрели, как прямо на глазах из-под маминых рук вырастает рукавица, и время от времени примеряли на своих руках, определяя место для большого пальца и общую длину. Вязала она и перчатки, но с ними хлопот было больше. В детстве таких рукавиц нам хватало лишь на одну зиму. От постоянной сырости они «садились» и становились маленькими и короткими, оголялось запястье, на которое попадал снег и «обжигал» голое место ветер, и они просто изнашивались. Для тепла и долговечности их обшивали тканью или поверх надевали голицы (рабочие рукавицы). У детей, да и у взрослых за день от снега они становились влажными. Придя домой, их сразу же клали в печурок, где они высыхали и нагревались. Влажные от пота шапки для просушки вешали на гвоздь, вбитый в стену около печки. Холодным зимним утром очень приятно обуться в тёплые валенки, взятые с печки, на голову надеть шапку, снятую с гвоздя около печки, а на руки рукавицы из печурка. В тёплой одежде и на мороз не страшно. На шею повязывали шарфы. Особенно модными и престижными считались мохеровые шарфы, которые были всевозможных ярких расцветок.
В городах, конечно, одевались моднее и разнообразнее. Особенно девушки, они то закрывались с головы до пят, то оголялись до неприличия. От европейской молодёжи отставали, но за модой гнались, можно сказать, по пятам. Когда я был студентом, это семидесятые годы, в Москве можно было купить всё, были бы деньги и желание потолкаться в очереди. Мои однокурсники одевались вполне по-европейски. Наши союзники: Польша, Венгрия, ГДР, Болгария, Румыния, Югославия и даже далёкая Индия пооткрывали свои магазины и снабжали нас всяким «красивым» и качественным барахлом, которое мы скупали и носили. Бывало и такое, что войдёт что-то в моду, и народ начинает с ума сходить, ломиться за вещью и переплачивать за возможность ею обладать. Например, дублёнки, кроссовки, джинсы, норковые шапки, кожаные куртки, плащи-болония, даже галстуки, то широкие, то узкие, то вязаные, то кожаные, то короткие, то длинные. Помню, народ гонялся за индийскими кожаными хозяйственными сумками. В индийском магазине «Ганга» за ними выстраивались длинные очереди, а мы покупали их девушкам и женщинам в подарок.
Но надо сказать, что цены на одежду были вполне сносными. Мужские рубашки стоили от 7 до 15 рублей. Их покупали сразу по несколько штук, разных расцветок. Туфли мужские и женские, если модные и хорошие, то стоили рублей 30–40, впрочем, как и джинсы, а ботинки попроще можно было купить и за 12–15 рублей, но в среднем они стоили не более 20 рублей. Плащи стоили от сорока до шестидесяти рублей, костюмы мужские чуть дороже – рублей 60–80.
Как мы прихорашивались
Во все времена человека окружают вещи, которыми он пользуется. Кроме одежды, людям надо где-то жить, на чём-то передвигаться, чем-то обрабатывать землю, иметь посуду и инструмент, содержать себя и жилище.
Деревенский люд СССР и добрая половина городского проживала в собственных отдельных деревянных домах. Жильё в городах в многоквартирных домах или бараках доставалось бесплатно, а собственное жильё возводили за свои кровные рубли. Богатые могли позволить себе кооперативную квартиру, один квадратный метр в которой стоил около 150 рублей. Для большинства населения эта цена казалась очень высокой.
Зубы мы чистили зубным порошком, который имел приятный запах и продавался в круглых красивых картонных коробочках. Самым любимым и массовым был «Мятный» и «Детский», этот порошок был в каждом доме, а стоил 4 копейки. Был ещё зубной порошок «Метро», «С добрым утром!», «Освежающий». Чистили зубы по утрам около умывальника, который звали «рукомойником». Он висел в чулане на стенке, под ним стоял таз или ведро, в лучшем случае металлическая раковина из оцинкованного железа. Рядом помещалось ведро с водой и ковш, чтобы пополнять умывальник. Зимним утром, когда вода в ведре холодная, наливали воду из чугунка, сохранившего тепло в русской печке, но чаще всё-таки умывались водой, принесённой из колодца. Пили воду из того же ведра, зачерпнув тем же ковшом. Зачастую рукомойники летом вешали рядом с колодцем или в другом удобном месте.
Там же около рукомойника лежало два куска мыла, один хозяйственного, им мыли руки, другой – туалетного, им мыли лицо, шею, да и руки тоже. «Хозяйственное» мыло (оно так и называется) продавалось без упаковки. Кусок мыла весом 200 грамм стоил 23 копейки. Но оно могло стоить 19 и 25 копеек в зависимости от содержания в нём моющего вещества – щёлочи. Прямо на куске большими цифрами был выбит этот самый процент в пределах от 50 до 80.
Сортов туалетного мыла было великое множество. Самое любимое – «Земляничное». Оно было розового цвета и пахло настоящей земляникой, а стоило 12 копеек. Детям, чтобы они не забывали умываться, покупали «Детское» мыло или «Тик-Так», «Пионер», «Чистюля», в нём содержание щёлочи было минимальным и глаза оно щипало не так сильно, как другие сорта. Не менее популярным было: «Цветочное» стоимостью 14 копеек, «Русский лес», «Ландыш», «Лесная сказка», «Красный мак», «Старт». В баню мы ходили с «Банным», «Семейным», «Хвойным», пахнущим свежими еловыми иголками, или с тем, что оказалось под рукой. Кусок туалетного мыла весил 100 грамм. Обмылки не выбрасывались, а использовались в стиральных машинах.

Девушки и женщины не могли обходиться без косметики, независимо от места жительства. Красивыми хотелось быть всем, и городским и деревенским.

У моей мамы из косметики были духи (несколько флакончиков), пудра и губная помада. Помню духи «Кармен». Они были в пузырьке в виде плоской пирамиды и с красивой девушкой на этикетке, это была собственно Кармен, с красными розами в волосах и в руках. Запах у этих духов был очень приятным. А ещё у неё были духи «Ландыш», «Сирень», «Красная Москва».

Пахли они настоящими цветами и были довольно стойкими. Славились духи «Дзинтарс» рижской парфюмерной фабрики с одноимённым названием, маме их Виктор привозил прямо из Риги. Потом стали появляться духи с интригующими названиями: «Наташа», «Признание», «Москвичка», «Незнакомка», «Тет-а-тет», «Милая», «Фея ночи», «Быть может», а почему бы и нет, задавались вопросом мужчины.

Импортных духов почти не было, и когда появились «Фиджи» и «Клема», это было что-то! За ними выстраивались длинные очереди, и тот мужчина, который мог их «достать» для любимой женщины, на многое мог рассчитывать в ответ. Маленький флакончик «Клема» стоил 25 рублей, но мужчины на них денег не жалели, это был беспроигрышный подарок по любому поводу.
Почти одновременно с этими духами в продаже появилась французская тушь, тени для глаз, лак для ногтей, пудра.

Одеколоном пользовались мужчины. Самый ходовой был «Тройной». Стоил недорого, вместительный круглый пузырёк, на долго хватало. При желании этим одеколоном можно и опохмелиться, в некоторых домах он не застаивался, пили и не умирали. Не меньшим уважением пользовался «Шипр», «Красная Москва», «Гвоздика», «Ландыш», «Красная роза», «Русский лес», который стоил 1 рубль 20 копеек. Это уже в семидесятых стали появляться одеколоны с коммерческими названиями, такими, как «Саша», «Одеколон для мужчин», «Чарли», «Алёша», «Консул», «В полёт». Хотелось купить и попробовать, не на вкус конечно, на запах. До сих пор помню запахи этих натуральных, отечественных одеколонов и духов.

Пудрой пользовались многие женщины, появляющиеся в общественных местах. Она была розоватого цвета, на лице её почти не заметно, но положительный эффект от неё был несомненно, да и запах у пудры был очень нежный, ненавязчивый. Я часто открывал мамину коробочку с пудрой и нюхал. При открытии и закрытии коробочки пудра пыльным облаком разлеталась по сторонам и вокруг воцарялся этот чарующий запах. В то время я ещё не знал, что так приятно может пахнуть только красивая женщина. Пудра стоила очень недорого, и её было не жалко, хотя в те времена ко всему относились очень бережно. Пудра «Гвоздика» стоила 5 копеек, «Ландыш» – 8, «Кармен» – 10, а «Лебяжий пух» – целых 12 копеек.
Взрослые мужчины, особенно фронтовики, брились «опасной» бритвой. Мне кажется, этот инструмент был вечным. Во-первых, она (бритва) была довольно толстая, во-вторых, точилась, а вернее, «правилась» такая бритва о широкий кожаный армейский ремень.
И источиться, как коса о брусок, просто не могла. Такой ремень был в каждом доме и, как правило, висел на стене. Править бритву можно было просто о голый ремень, или нанести на него некий абразив типа асидола или пасты ГОИ («ГОИ» расшифровывается как Государственный оптический институт), которыми в армии надраивают медные бляхи и пуговицы. Например, такое «правило» у моего дяди Бори висело перед зеркалом посреди избы. Этим ремнём он осуществлял правёж не только бритвы, но и сыновей Витьки, Мишки и Сашки. Вот и выросли людьми, а теперь отцы бреются «Жилетом», им ребёнка не воспитаешь. Да и нельзя – в детдом заберут или в другую семью, идиотизм, да и только.
Уже в те годы молодёжь такими бритвами не пользовалась. Появились безопасные бритвы. В бритвенный станок вкладывалось лезвие типа «Спутник» или «Нева», намыливалась физиономия специальным помазком и начиналась процедура собственно бритья. Я помню, сколько терпения требовало такое бритьё. Лезвия в нашей стране делать не умели, ими хорошо было карандаши затачивать, а волосы они сбривали через один – второй вытаскивали с корнем. Но мы брились и не обращали на это внимания. Моему поколению выдёргивать бороду пришлось, правда, не очень долго, вскоре появились импортные лезвия, которые брили неощутимо, а вскоре и наши промышленники научились такие делать. Большинство же брились электробритвами типа «Харьков».

После бритья лицо обрабатывали одеколоном, а также туалетной водой «Свежесть» или лосьоном «Вечерний». И кожа становилась эластичней, и запах приятный. Одеколон и лосьон на лицо наносили руками или разбрызгивали специальным пульверизатором, который наворачивался на флакон либо продавался сразу с флаконом, и в него надо было наливать содержимое по мере расходования. У меня был пульверизатор, напоминающий гранату-лимонку, сделанный из тёмно-синего стекла, с оранжевой грушей.
Опасная бритва (правильное её название – клиновая) действительно представляла опасность. Когда брились с похмелья и руки тряслись, можно было порезаться. Такие порезы мужики обычно заклеивали обыкновенным кусочком газеты. С такими наклейками и по дому ходили, и на работе появлялись.

Интересная была «Тушь для бровей и ресниц». Это такая плоская квадратная пластмассовая или картонная коробочка с чёрной тушью. В этой коробочке кроме собственно туши была ещё маленькая щёточка с ручечкой.
Пользоваться этой тушью было очень удобно – поплевал в коробочку, размазал слюну щёточкой и наноси на то место, которое хочешь украсить. Не то, что французская в цилиндрическом тюбике с маленьким отверстием для круглой щёточки, туда не плюнешь. И если засохла, то или выбрасывай, или изловчись туда воды налить. Но французская почему-то женщинам нравилась больше.

Как юноши, так и девушки всех возрастов украшали себя причёсками. Увидели в кино или по телевизору красивую артистку с оригинальной причёской – «я, Вань, такую же хочу!» В моде были то крупные кудри, то мелкие, то прямые длинные волосы, то короткие, то начёсы, то хвосты. Когда я учился в 9–10 классах, у всех моих одноклассниц были чёлки и длинные волосы, заплетённые в косы. Через пару лет мода поменялась, косы вдруг исчезли, большинство постриглось под «каре». Кудри девушки завивали на бигуди. У кого был фен, то сушили волосы феном, а у кого фена не было, повязывали платок и ложились спать.
За ночь волосы высыхали и кудри готовы, держались, правда, они всего один день. Были в моде и крашеные волосы, но краска была чёрная, либо каштановая, таких экзотических цветов, как сегодня, в те годы не было. А вот осветляли волосы таблетками гидропирита и нашатырным спиртом, купленными в аптеке.
Юноши постригались «под бокс», «полубокс», «под скобочку», «с пробором», косички и хвосты на голове не носили и наголо стриглись редко. Несколько лет был в моде «ёршик», а также длинные волосы, которые зачёсывали назад. У каждого мужчины и юноши в нагрудном кармане имелась расчёска в футляре или без футляра. Мода на совсем длинные волосы пришла из Европы позже, но такие волосы носить считалось неприличным, и эта мода всячески высмеивалась и во многих государственных учреждениях не приветствовалась и даже запрещалась. Носили такие волосы в основном люди свободных профессий.
Зачастую мужчины подстригали друг друга сами. Я «работать» парикмахером начал ещё в школе, продолжил в училище, потом на корабле и в армии, подстригаю друзей и родственников по сей день. Мне с волосами что-либо комбинировать, можно сказать, не пришлось. К двадцати пяти годам у меня была уже прекрасная лысина, которой я ежедневно любуюсь.
На чём мы катались и передвигались
Нормальных дорог на Руси как не было, так и нет. Передвигаться по нашей необъятной Родине – большая проблема. Зимой, если снег выпадет, даже по Москве нормально проехать невозможно. Город становится в пробки. Легковые машины буксуют оттого, что маленькие, и вязнут в снегу, да ещё мешают друг другу, бьются, а грузовики не могут преодолеть подъёмы и вписаться в повороты. Про реагенты я просто умолчу.
Летом за пределами Москвы, за некоторым исключением, выбоины, колдобины, узкие дороги или вообще отсутствие твёрдого покрытия. Одним словом – беда.
Не зря испокон веку на Руси пешком ходили. Странствовали на своих двоих, с котомкой за плечами, в лаптях и с посохом, а попросту с деревянной палкой. На неё и котомку повесить можно, положив на плечо, и глубину водной преграды измерить, и от собаки или зверя какого отмахнуться, и в окно постучать, когда ночлег ищешь. У нас на Руси и армия-то пешая была, на коне восседал только князь или военачальник, и те перед боем спешивались. Привыкли наши предки пешком ходить, наторили дорог-тропинок за столетия, они только к концу двадцатого века зарастать стали. Между Семёнковом и Юрьевом, например, была одна основная проезжая дорога, и две по краям деревень, по которым ездили редко из-за их состояния, а тропинок шесть или семь. Были тропинки к каждому сараю, к скотным дворам, к конюшне, к кузнице и мельнице, к речкам, полям и лесам, вдоль деревни и поперёк и наискосок. Основная дорога, которую называли большаком, была вымощена камнями.
Но прогресс не остановишь, ходить пешком человечеству надоело, и самым первым и надёжным средством передвижения стала лошадь и деревянная лодка. На лошадях и кораблях наши предки доезжали и доплывали до края земли. В других местах земного шара оседлали оленей, слонов, собак, ишаков. И делали это до тех пор, пока не появились паровозы, автомобили, пароходы и самолёты. Пересаживались в двадцатом веке и мы на эти виды транспорта. В середине пятидесятых годов модным стал велосипед. Это был самый доступный и удобный механический вид транспорта. Велосипеды были мужские (с рамой), женские (без рамы) и детские обоих видов. Велосипеды были в каждом доме, и не по одному, где жили люди среднего возраста и подростки. На велосипедах ездили на работу, в магазин, в школу, в лес, в клуб, в гости, на речку, в церковь, на свидание, и просто покататься. Я ещё в школу не ходил, когда у нас в семье появился дамский велосипед «Ласточка». Он оказался настолько долговечным, что оставался на ходу и после маминой кончины. Она ездила на нём каждый день на работу, когда снега на дорогах не было, и мы с братом брали покататься или по делам съездить.
Вот он один к одному, даже сеточка, прикрывающая заднее колесо от попадания туда подола платья, сумочка для гаечных ключей, ручной тормоз, звонок и эмблема той же расцветки.

А когда Виктор стал подрастать, появился и у нас мужской велосипед «Прогресс», а потом и второй, кажется, «Кама». Мы с братом купили его в Заозерье то ли за 47 рублей, то ли за 48. Деньги на велосипед заработали в колхозе летом. Когда ехали из Заозерья двое на одном, сразу его обновили. Улетели в придорожный кювет где-то за Вяльковом. Выбрались, отряхнулись от грязи, закрепили гайки на руле, а заодно и другие подтянули, и поехали дальше. Это был очень красивый велосипед чёрного цвета. Есть велосипед и сейчас, и мы на него время от времени садимся. Например, когда на машине нельзя, а выпить хочется, или заводить машину лень.

