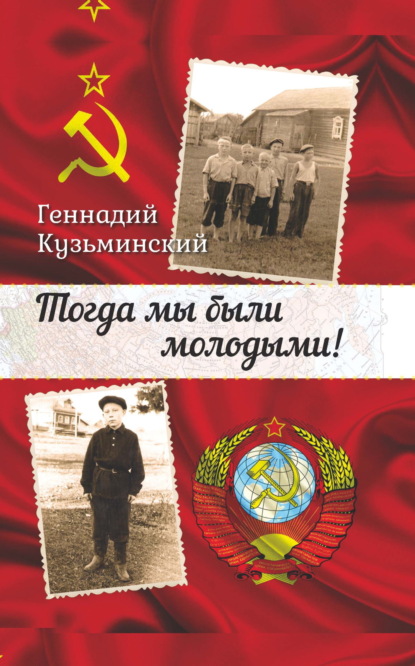
Полная версия:
Тогда мы были молодыми!
Бутылка газировки типа «Буратино» или «Колокольчик» стоила 10 копеек без посуды. Кафе, пивные бары и рестораны по ценам были доступны большинству взрослого населения. В них было не попасть. По вечерам очереди выстраивались у дверей на улице. За один стол сажали разные компании. Если ты один, а столик на четверых, то к тебе могут подсадить ещё троих совершенно разных людей. В таких заведениях полезно было иметь «своего» человека или дать официанту денег, как бы упущенную выгоду, чтобы он никого не подсаживал. Или наоборот девушку подсадил, если своей нету. А откуда ей взяться в далёком портовом городе?

Повсеместно на Руси разводили пчёл. Ульи стояли во многих деревенских и городских огородах. Мёдом делились с родственниками, соседями, продавали. Кто держал пчёл, тот мог обходиться без сахара и конфет. В соседнем с нашим огороде ульи стояли при всех хозяевах. Пчёлы летали, но кусали редко, только в очень жаркую погоду или когда у них мёд отбирали, но об этом соседей, как правило, предупреждали.

Рыбалка была и есть не только удовольствие для души, но и для желудка. Рыбы в Советском Союзе вылавливали очень много. Страна со всех сторон омывается богатейшими морями и океанами. В стране множество внутренних водоёмов. Советский рыболовный флот был одним из крупнейших в мире. В деревенских магазинах, где не было холодильников, всегда можно было приобрести рыбные консервы. Особой любовью пользовалась килька пряного посола, а попросту – хамса. У нас её называли «гамза». Привозили её в деревянных бочонках небольшого размера. Она «плавала» там в рассоле и продавалась на развес. Стоила такая килька 33 копейки за килограмм. Продавалась она и в металлических баночках, которые вскрывались обыкновенным перочинным ножом. Кстати, перочинные ножи имели и специальный кривой нож для вскрытия консервных банок.
Селёдка тоже присутствовала не только на праздничном, но и на обеденном столе. «Атлантическая», «Тихоокеанская», «Каспийская» «Иваси» – вкуснятина, особенно копчёная.
Нашу деревню, в отличие от страны, омывают не океаны, а две маленькие речки – Сабля и Работка. В те времена обе были рыбные. Весной и в начале лета рыбу ловили езами, неводами и сетями. Когда щука шла на нерест, её можно было поймать голыми руками в любом ручье, впадающем в реку, например, в Ониконском или Сальковском, что мы частенько и делали. В наших речках водились и раки, и было их немало. Свежую рыбу в основном жарили. Те, кто налавливал рыбы много, солили её впрок. Летом любители, а их было много, продолжали рыбачить черпаками, спиннингами, жерлицами, удочками и просто голыми руками. Чтобы просто поесть, наловить мог каждый, умеющий держать удочку, если не сегодня, то в другой день. А что касается Ивана Князева, так тот не жил без рыбалки и рыбы ни одного дня.
Это в нашей местности рыба не была основным продуктом питания, и ловили её в основном летом, у тех же, кто жил вблизи крупных водоёмов, ели её во всех видах круглый год. И не только щук, карасей, плотву и окуней, но и стерлядь, осетров, белуг и прочих ценнейших пород, а также икру красную и чёрную, как говорят, ложками. И всё это было бесплатно, если не подпадало под признаки браконьерства. Чтобы заставить народ есть не только мясо, но и рыбу, государство учредило в стране «рыбный день», это был четверг. Объяснялось это необходимостью насыщения организма фосфором, которого в рыбе значительно больше, чем в мясе.

А это керосинка, на ней готовили пищу. Не микроволновка, но была очень полезной и необходимой вещью, ведь печь топили зимой один раз в день, а летом один раз в несколько дней, «а кушать хочется всегда». Готовили и на электроплитах, но керосин был дешевле электроэнергии.
Бесплатно пользовались граждане и дарами леса. Ягоды сушили или делали из них варенье. Варенье варили некоторые неохотно. Требовался сахарный песок, который стоил 90 копеек, а высший сорт все 94 копейки. Как и в большинстве семей, в нашем доме ягоды были свежие, сушёные и варёные. Сушёная малина была обязательно, ей лечились при простудных заболеваниях, заваривая вместо чая. Сушёную чернику мы с Витькой таскали из белого мешочка, что стоял в чулане на полке, и ели вместо лакомства.
А ещё на зиму я заготавливал красную рябину (черноплодной рябины тогда в огороде не было). Ломал ветки с кистями ягод или обрывал только кисти и подвешивал их на чердаке к крыше. Она немного высыхала, сморщивалась, но оставалась довольно сочной и вкусной. Зимой залезал на чердак и ел, пополнял организм витаминами. А калина так и оставалась на дереве до весны, пока её птицы не склёвывали. Эти две ягоды и в лесу оставались на всю зиму.
В лесах было тогда, да и теперь, много грибов. За грибами в лес ходили и стар и млад. И удовольствие получали, и пропитание добывали.

Благородные грибы сушили, жарили, варили с ними суп, а пластинчатые солили. Солили их в деревянных кадках. В некоторых местностях это были не просто кадки, а большущие бочки. Зимой из сушёных грибов делали грибную икру, варили вкусный суп, а солёные ели с картошкой под водочку.
В лес ходили не только за грибами, ягодами и орехами, но и поохотиться. На еду добывали зайцев, уток, гусей, куропаток, рябчиков, тетеревов, глухарей, вальдшнепов. В северных и восточных местностях водились и другие съедобные птицы. Когда я работал на Севере, то мы стреляли странных птиц с клювом курицы и перепонками на ногах, как они назывались, не помню, и были не очень вкусные.
Били и животных там, где они водились, и где можно было их стрелять. У нас кабанов, оленей и косуль не было, а лосей, которых было полно, убивать запрещалось. Правда в 70-х годах кабаны появились, и довольно много. И вообще зверьё в лесах водилось. Ни один поход в лес не обходился без того, чтобы не встретить лося, зайца, крупную птицу или того же кабана. Ночью они бегали по дорогам, и многие автомобилисты и мотоциклисты столкновения с ними не избежали. Хорошо, если это заяц или безобидный ёж, а когда лось, то беда. Мой дядя Борис Крылов имел удовольствие столкнуться с лосем, когда вместе с женой на мотоцикле ехал в Углич. В итоге обоих, подобрав на дороге, отвезли в Ильинскую больницу. Слава Богу, что у обоих на головах были шлемы. Лисы вообще вели себя нагло. Бегали по полям и лугам, совершали набеги на деревню за курицами. У нас однажды передушила за два часа штук десять. Но лисиц убивали только из-за меха, мясо отдавали собакам. Да и сейчас они ведут себя безобразно.
Магазины народ посещал регулярно. Чаще всего там покупали папиросы, вино и водку. Ехали за этим продуктом на велосипедах, мотоциклах, машинах, тракторах, комбайнах, и, конечно, шли пешком. Водка – самый ходовой товар. Она для государства по праву считалась жидкой валютой. Доходы от продажи водки были существенной статьёй пополнения государственного бюджета. Для населения водка была уже твёрдой валютой. Много чего в нашей стране измерялось бутылками водки или граммами в стакане. Пили её гранёными стаканами, всякие там рюмки и фужеры народ не знал и не признавал.

До 1961 года пол-литровая бутылка водки обыкновенной, которую в народе звали «сучок», закупоривалась картонной пробкой, стоила 21 рубль 20 копеек, водка «Московская особая» с зелёной этикеткой стоила 25 рублей 20 копеек, «Столичная» – 30 рублей 70 копеек. После деноминации рубля её стоимость не изменилась, а цена соответственно стала в десять раз меньше (2.12, 2.52, 3.07). Но денег в деревнях было мало, и народ в больших количествах производил самогон, горилку, чачу. В основном для себя, но на продажу тоже. Народ потихонечку спивался.
Через десяток лет руководство страны решило дать пьянству бой, для чего в мае 1972 года вышло Постановление Совета Министров СССР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». В соответствии с этим документом появились вытрезвители, пьяниц стали сажать на пятнадцать суток и стричь наголо. Таких стриженых почему-то называли «декабристами».

Появились новые сорта водки «улучшенного качества», а фактически изменились только этикетки, вместе с этикетками изменились и цены. «Московская особая» стала стоить 3 рубля 62 копейки вместо 2.87. Появилась «Сибирская водка» (в народе – «тройка») крепостью 45 градусов, и стоила она 4 рубля 42 копейки со стоимостью посуды. Кстати, цена указывалась на этикетке с оговоркой – эта цена «со стоимостью посуды» или «без стоимости посуды». Водка «Экстра» стоила 4 рубля без стоимости посуды, «Пшеничная» – 4.62 со стоимостью посуды.

Кроме самой популярной «Московской» пили и другие приятные напитки. Была в продаже водка «Лимонная» слабо-желтоватого цвета и сладковатая, «Столичная» с гостиницей «Москва» на этикетке, «Зубровка», «Старка» – крепостью 43 градуса и по цене 4 рубля 50 копеек, «Кубанская», на этикетке которой был изображён всадник на белом коне, а на «Зубровке», естественно, бык зубр. Водка «Охотничья» выпускалась крепостью 45 градусов. «Русская» водка стоила 4 рубля 30 копеек без стоимости посуды. Этикетки на «Русской» были разные и красочные, например: герб Российской империи (орёл двуглавый), картина с охотниками на привале, картина «Три богатыря», святые Борис и Глеб на конях. Была ещё в чести «Перцовка», когда-то она стоила всего 2 рубля без стоимости посуды, а потом – 3.50. «Стрелецкая горькая настойка», «Анисовая» и «Зверобой» – обе по 3.50, и даже такие экзотические, как «Распутин» и «Померанцевая». Ряд напитков были светло-коричневатого цвета, пить их было не так горько, как «Московскую», говорили, что они «помягче». Самая дешёвая водка, типа «коленвал», из продажи исчезла. Каждая водка, кроме официального названия, имела ещё и прозвище.
А вот бутылка шампанского сначала («сначала» – это пятидесятые, шестидесятые годы) стоила 3 рубля 60 копеек, потом подорожала до 5 рублей 50 копеек. Коньяк стоил 4 рубля 12 копеек, а настойка рябиновая на коньяке, очень приятная на вкус, стоила 4 рубля 40 копеек.

Пиво народ пил из бочек, разливное. Оно было дешевле и вкуснее бутылочного. Пол-литровая кружка пива вместе с пеной стоила 20 или 22 копейки. Ждать, когда пена осядет, времени не было. Многие на этой пене озолотились.

Некоторые предпочитали пиво в бутылках, которое можно было хранить и транспортировать. Но в любом случае советское пиво было сварено на солоде, без консервантов и хранилось на более трёх-семи дней. Потом оно прокисало, и на дне тары появлялся осадок. По этой же причине в каждой местности пили пиво только своего производителя и свежее. В городах пиво продавали прямо на улицах из бочек, у которых непременно собирались огромные очереди. Кружек порой не хватало, тару приносили с собой. Были «пивнушки», прозванные «гадюшниками». Там пили всё подряд, не только пиво, курили, туалетов, естественно, не было, бедные соседи. Что удивительно, из одной кружки по очереди пили сотни и тысячи людей, и никаких тебе эпидемий. Стакан у автомата с газировкой тоже был один на всех, и его не воровали. Если брали водку разлить, то далеко от автомата не отходили и возвращали стакан по первому требованию жаждущему.
Сортов пива было немало, но самое распространённое было «Жигулёвское», его производили повсеместно. Бутылка «Жигулёвского» пива стоила всего 25 копеек без стоимости посуды, с посудой получается – 37. Цена пива, как правило, указывалась без стоимости посуды. Жигулёвское специальное стоило уже 35 копеек. «Янтарное» Бадаевского завода – 34. Столько же стоило «Славянское», производимое на заводе «Красная Бавария». «Ячменный колос» был подешевле, всего 29 копеек, его любили. Столько же стоило и «Рижское», которое варилось исключительно на солоде и в народе ценилось за качество. «Останкинское» стоило на копейку дороже – 30.

Пили в Советском Союзе и вино. Сортов вин было бесчисленное множество. Его производили все пятнадцать союзных республик. Самым дешёвым было яблочное вино в пол-литровой бутылке, его можно было купить за 98 копеек. Остальные вина, насколько я помню, разливались в тёмные бутылки по 700 или 750 грамм. Среди них тоже были дешёвые сорта, нельзя, чтобы народ оставался без выпивки, когда денег не хватало. Вот, например, «Вино красное десертное» стоило 1 рубль 30 копеек без стоимости посуды (бутылка из-под вина стоила 17 копеек). «Вермут» вместе с посудой продавался за полтора рубля, «Лучистое» плодово-ягодное тоже с посудой за 1 рубль 80 копеек, «Портвейн» розовый за 1 рубль 90 копеек, «Столовое» дешевле –1.10, «Каберне» –1.02. А вот «Портвейн» белый 777 (три семёрки) стоил дороже – 3 рубля 40 копеек, молдавская «Мадера» стоила 3.20. Качественные и недорогие были грузинские вина. «Ркацители» – 2.40, «Цинандали» – 2.70, чуть дороже стоил «Кагор» – 3 рубля со стоимостью посуды. Вино с поэтическим названием «Золотая осень» стоило вместе с бутылкой 1 рубль 27 копеек. Про «Солнцедар» молчу, страшно вспомнить.
Пили не только спиртные напитки, молоко и газированную воду, но и чай. Чай на Руси любили во все времена. Воду кипятили в самоваре, который «работал» на древесных углях, а заваривали в чайнике. Пакетиков с мусором, как сейчас, не было. Кипящий самовар ставили на стол, рассаживались вокруг него. Чай сначала разливали по кружкам или стаканам, а чтобы не обжечься кипятком, из чашек наливали его в блюдце и пили. Сахар клали либо в чашку, либо пили вприкуску, с тем же сахаром или конфетами. Сахарные куски кололи специальными щипцами.

Вот он тульский самовар, который стоял на столах в домах односельчан. Постепенно от самоваров стали отказываться и заменять их электрическими чайниками. Это были не такие чайники, которыми мы пользуемся сегодня. Те были металлические (алюминиевые), без автоматики. Они часто становились причиной пожаров. Если его забывали выключить, то вода выкипала, спираль раскалялась добела, чайник плавился и всё вокруг начинало гореть. Пожарные службы делали регулярные рейды по проверке правил эксплуатации этих чайников. Большинство госучреждений просто-напросто своими внутренними распорядками запрещали иметь их в рабочих кабинетах, но везде они были. Непослушных штрафовали и чайники незаконным образом конфисковывали.
Сортов чая было не много и качество не очень. Всегда в продаже был отечественный чай, выращенный в Грузии, Азербайджане и Краснодарском крае. А завозили чай в основном из Китая, Индии, Шри-Ланки, некоторых африканских стран. Его смешивали с отечественным, фасовали и продавали под маркой Индийского или Цейлонского. Наряду с чаем № 36, он считался хорошим и за ним «гонялись». Несмотря на низкие вкусовые качества нашего чая, его экспортировали в 10–15 стран.

А ещё мы пили кофе и какао. В СССР кофе был также, как и многие продукты и напитки не «предметом первой необходимости», а дефицитом. Он продавался в зернах на развес: два сорта – Арабика и Робуста, и конечно, вполне был приличный ассортимент растворимого.

Растворимый кофе продавался в жестяных банках: Московский кофе растворимый, (банка широкая, коричневого цвета).

Индийский кофе растворимый (тоже в коричневой банке с индийскими женщинами), Натуральный кофе растворимый в высокой серебристой банке с черными и бордовыми надписями, а потом уже с пальмами – намек на Африку.

В картонных коробках продавались кофейные напитки: Ячменный, Балтика – это суррогат, который при варке еще более или менее, отдаленно напоминал кофе – но на вкус был так себе. Опять же в жестяных банках продавался напиток кофейный растворимый «Летний» с цикорием. Продавался в городских магазинах и зерновой кофе, не всегда, не везде, но купить можно было и довольно приличного качества. Его жарили на обыкновенной сковородке, мололи, варили и наслаждались его вкусом, кто понимал. Лично я до сих пор в кофе разбираюсь, как свинья в апельсинах.
Но всё-таки кофе был «городским» напитком. В закромах он был у многих, но им не увлекались. В городах с кофе перебоев не было и любители без кофе не оставались. Мололи кофе механическими кофемолками, которые называли «мельницами». В 70-х годах в моду вошли кофемолки электрические, которые были одновременно беспроигрышным подарком в семью или близкой подруге или другу.
Стоил кофе в зернах не так уж и девшего, но и не дорого – 10–15 рублей за килограмм, растворимый – банка «натурального» – 6 рублей, банка напитка «Летнего» –4–5 рублей.
В деревне больше любили какао. Его легче приготовить, не надо молоть и варить. Налил в стакан горячей воды с молоком, бросил туда пару ложек порошка какао, сахару по вкусу и наслаждайся. Какао готовили во всех столовых, в том числе и в армии. Когда я жил в Заозерском интернате, то какао на нашем столе было очень часто наряду с чаем, компотом и киселём. Самым распространённым сортом был напиток «Золотой ярлык» в картонной коробке зелёного цвета. А ещё было какао в кубиках, в которых содержался сахар, молоко и собственно какао. Наполнил стакан водой, бросил туда кубик какао и готово. Эти кубики можно было даже есть, как конфеты, вкусно. Удобно было таким образом готовить какао, например, в поезде, в общаге или в походе на природу.
В нашем доме на обеденном столе частенько появлялся кисель, который бабушка варила, используя крахмал, полученный из картошки, что собрали на огороде и клюквы, собранной на Рябовском болоте. Фруктовый кисель был в меню практически каждой столовой.

Ещё покупали в магазинах «курево». Курящих мужчин в моей деревне было достаточно, но и некурящих тоже много. Мой дядя Крылов Борис прошёл всю войну, а курить так и не научился. Не курил Иван Блохин, Сидорин Александр, Алексей Баков, Павел Камутин, Лебедев Владимир, Коля Шапкин и другие. Но были и такие, что папиросу изо рта не выпускали, например, Николай Круглов, Иван Князь, Лебедев Виктор. Хотя папиросы и стоили, казалось бы, не дорого, но курить надо постоянно и суммы в итоге набегали немалые. Несколько человек для себя табак выращивали на собственных огородах. Точно знаю, что табак рос у Ильи Наумова и, если память не подводит, у Дмитрия Шапошникова, что жил на краю деревни.

Советский Союз по производству табачных изделий входил в тройку лидеров. Государство от производства и продажи табака имело немалый доход. Папирос и сигарет производилось много и разных. С раннего детства помню папиросы «Север», «Беломор-канал», «Байкал», «Памир», «Прима», «Шипка». Цена папирос и сигарет одного и того же названия колебалась в зависимости от сорта табака, качества упаковки, количества папирос или сигарет в пачке. Папиросы «Север» могли стоить как 14, так и 20 копеек. «Астра», «Аврора» и «Прима» стоили по 14 копеек, а «Памир» без фильтра вообще – 12 копеек. «Беломор-канал» был дорогой, он стоил 22 копейки, а был и по 25, «Дымок» – 20 копеек, сигареты «Новость» с фильтром – 18. Болгарская «Ватра» тянула на все 25, а за «Казбек» с десятью штуками в пачке платили 27 копеек. Пачку махорки можно было купить за 15 копеек, оторвать кусок газеты, свернуть «козью ножку» и наслаждаться. Со временем сигареты с фильтром стали выпускать в красивых твёрдых упаковках. «Ява», «Столичные», «Космос», «БТ», «Рига» и другие повысились в цене до 40–70 копеек.

Народ не мог жить без сладкого. За сладостями, как и за сигаретами, шли в магазин. Сахар кусковой или «колотый» покупали как килограммами, так и мешками. С сахаром пили чай, откалывая маленькие кусочки щипцами. Такие щипцы были в каждом доме, и не одни. В большом количестве сахар использовался для варенья и самогона. Самогон гнали подпольно, но, несмотря на запреты, на большие праздники, свадьбы и поминки им запасались в больших количествах. Частенько бражка до конечного продукта не доживала, её выпивали на стадии брожения. Сладенькая, пьётся хорошо, но по башке шибает прилично. Гнали самогон и на продажу. Самогонные аппараты в доме держать было опасно, поэтому пользовались подручными средствами. Напиток получался мутный, вонючий, но это не мешало потреблять его вместо казённой водки. Килограмм сахарного песка на развес стоил 80 копеек.
Если сахар был бытовой необходимостью, то конфеты своего рода баловством. Народ позволял побаловать себя и детей ирисками, карамельками, да и шоколадными конфетами тоже. Самыми доступными были «подушечки». Это такие квадратные пузатенькие, без обёртки конфетки с повидлом, вареньем или другой фруктово-ягодной начинкой, иногда посыпанные сахарной пудрой. Стоили они недорого, от 1.30 до 1.80. После принятия горбачёвского сухого закона их стали использовать в самогоноварении вместо сахара. Самогон получался вонючий, но съедобный.
Особой любовью у детей пользовались ириски «Золотой ключик», «Кис-Кис», «Тузик», а также карамельки «Снежок», «Дубок», «Фруктовый» и прочие сладости с фруктово-ягодными названиями. Они, в отличие от подушечек, были в красивых фантиках, и их можно было положить в карман и не испачкать одежду.
Взрослое население к чаю покупало конфеты повкуснее. «Белочка», «Кара-Кум», «Петушок», «Ласточка», «Птичье молоко», «Мишка косолапый», «Кот в сапогах», «Мишка на севере» – водились почти в каждом доме. Эти конфеты были очень вкусными, но дорогими, от 4 до 7 рублей за килограмм, и покупали их не килограммами, а граммами. Конфетами украшали новогодние ёлки. Для розыгрыша вместо конфет в яркие фантики частенько заворачивали кусочек хлеба. Брат Анатолий регулярно поддавался на эту уловку. Бабушка говорила, что он всегда очень любил «сладенькое».
Из сладостей, кроме конфет, ели пряники, халву и печенье, а городские жители наслаждались тортами и всякими пирожными. Самые вкусные пряниками были «Мятные». Они были белого цвета, покрыты тонким слом глазури и очень ароматные. Причём аромат исходил не от ароматизаторов, а от естественных ингредиентов. «Школьные» и «Медовые» пряники были коричневого цвета и тоже очень ароматные и вкусные, особенно когда свежие. Печенье было разных сортов, отличалось формой и вкусом. В магазины эти продукты поступали в больших картонных коробках и продавались на развес, но были и в упаковках. Вкуснейшую халву делали из подсолнечника, наверное, как и сейчас, только раньше она была вкуснее и в продажу поступала в больших брикетах.
«Брали» в магазинах макароны и крупы. Этого добра всегда было предостаточно. Макароны и «рожки» (это такие макароны завитушками) можно было грызть и в сыром виде, мне нравилось. Покупали их в большом количестве, коробками или мешками, хранились они долго, главное, чтобы мыши не съели.
Запасались впрок спичками, солью, табаком, мылом, сахаром и подсолнечным маслом. Кстати, кроме подсолнечного было масло льняное, на вкус приятное, но стоило дороже подсолнечного. Подсолнечное масло было густое, немного мутноватое, но настоящее, пахучее и вкусное.
Как мы одевались
У деревенского жителя одежда была, в основном, рабочая. Взрослые мужчины летом носили кепки, рубашки или майки, брюки, сапоги или сандалии. Рубахи тёмных цветов или в клетку. Сапоги носили кирзовые, в сырую погоду резиновые. Поверх рубашки, когда прохладно, надевали пиджак. Носили пиджаки ещё и из-за карманов, куда клали папиросы, спички, очки, перочинные ножи, носовые платки и прочие мелочи. Выходная одежда была примерно такая же. Только сапоги «кирзовые» меняли на хромовые или на ботинки фабрики «Скороход». Брюки, майки и рубахи надевали чистые и светлые, праздник всё-таки. Весной и осенью поверх всего носили плащи. Помню, что в моде были плащи из плотной ткани, как правило, тёмно-синего цвета, с косыми прорезными карманами и с поясом. Самые модные мужики пуговицы на плащах не застёгивали, а пояс болтался сам по себе.

Кепки тоже были рабочие и выходные. Рабочие – грязные и мятые. Их не только носили на голове, но использовали как тару, когда надо что-то сохранить или перенести с места на место. В них собирали в лесу грибы и ягоды, клали испечённую в костре картошку, продукты, купленные в магазине, яблоки из чужого сада, папиросы, чтобы не помялись, и спички, чтобы не намокли во время рыбной ловли. Её использовали вместо подушки, когда надо поспать во время работы, на них сидели, чтобы брюки не испачкать, да и помягче, чем на голом камне. Три Виктора – Кузьминский, Натальин, Сидорин.



