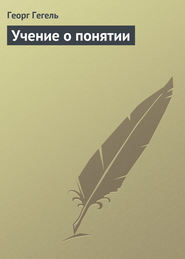 Полная версия
Полная версияУчение о понятии
То, что ближайшим образом побуждает к такой попытке, есть преимущественно то количественное отношение, в котором должны взаимно состоять общность, частность и единичность; общее считается шире частного и единичного, а частное шире единичного. Понятие есть конкретное и богатейшее (по содержанию), так как оно есть основание и полнота предыдущих определений, категорий бытия и определений рефлексии; поэтому последние, конечно, также входят в него. Но природа его совершенно искажается, если они удерживаются в нем еще в их отвлеченности, если более широкий объем общего понимается так, что оно есть большее или большее количество, чем частное и единичное. Как абсолютное основание, оно есть возможность количества, но равным образом и качества; поэтому они рассматриваются в нем вопреки своей истине, если полагаются единственно в форме количества. Так далее и определение рефлексии есть нечто относительное, в коем имеет видимость его противоположность; оно не есть во внешнем отношении, как некоторое количество. Но понятие есть более, чем все это; его определения суть определенные понятия, оно само по существу есть полнота всех определений. Поэтому совершенно несоответственно для понимания такой внутренней полноты прибегать к числам и пространственным отношениям, в коих все определения между собою внеположны; они суть, напротив, последнее и худшее средство, могущее быть для того употребленным. Отношения природы, как, напр., магнетизм, отношения цветов, были бы для того бесконечно высшими и более истинными символами. Так как человек обладает языком, как своеобразным для разума средством обозначения, то является тщетным предприятием искать менее совершенного способа изложения и мучиться из-за него. Понятие, как таковое, может по существу быть усвоено лишь вместе с духом, которого оно не только есть собственность, но и чистый он самый. Напрасно желать упрочить оное посредством пространственных фигур и алгебраических знаков для потребностей внешнего видения и чуждого понятию механического употребления, некоторого счета. И все другое, что должно служить символом, способно самое большее возбуждать чаяния и отзвуки понятия, как символа божественной природы; но если серьезно намереваются выражать и познавать таким образом понятие, то внешняя природа всякого символа непригодна к тому, и отношение скорее оказывается обратным: то, что есть в символе отзвук некоторого высшего определения, должно бы было быть познано через понятие и приближено к нему лишь через устранение той чувственной примеси, которая указывается, как средство выражения понятия.
С. Единичное
Единичность, как оказалось, положена уже через частность; последняя есть определенная общность, т. е. относящаяся к себе определенность, определенное определенное.
1. Прежде всего единичность является поэтому рефлексиею понятия в себя само из своей определенности. Она есть опосредование понятия через себя, поскольку его инобытие вновь сделало себя другим, вследствие чего понятие восстановлено, как равное себе, но в определении абсолютной отрицательности.
Отрицательное в общем, превращающее последнее в частное, было определено ранее того, как двоякая видимость; поскольку оно есть видимость внутрь, частное остается общим, а через видимость во вне оно есть определенное; возврат этой стороны в общее двоякий, или через отвлечение, которое отбрасывает общее и восходит к более высокому и высшему роду, или же через единичность, в которую нисходит общее в самой своей определенности. Здесь обходится то уклонение, в котором отвлечение сходит с пути понятия и покидает истину. Его более высокое и высшее общее, к коему оно восходит, есть лишь становящаяся все более и более бессодержательною поверхность; а пренебрегаемая им единичность есть глубина, в которой понятие схватило само себя и положило, как понятие.
Общность и частность являются с одной стороны моментами становления единичности. Но уже было указано, что они в них самих суть полное понятие и вследствие того в единичности не переходят в нечто другое, но в ней лишь положено то, что они суть в себе и для себя. Общее есть для себя, так как в нем самом абсолютное опосредование, отношение к себе, есть лишь абсолютная отрицательность. Оно есть отвлеченное общее, поскольку это снятие есть внешнее действие и тем самым устранение определенности. Эта отрицательность, правда, присуща отвлеченному, но она отчасти вне его, просто как его условие; она есть сама отвлеченность, противоставляющая себя своему общему, которое поэтому не имеет единичности внутри его самого и остается чуждым понятию. Жизнь, дух, Бог так же, как чистое понятие, не могут вследствие того быть схвачены отвлечением, так как оно отстраняет из своих образований единичность, принцип индивидуальности и личности, и потому приходит лишь к безжизненным и бездушным, бесцветным и бессодержательным общностям.
Но единство столь неотделимо от понятия, что и эти произведения отвлечения, из которых должна быть устранена единичность, собственно говоря, сами единичны. Так как отвлечение возвышает конкретное до общности, общее же понимает, лишь как определенное общее, то именно в этом и состоит единичность, оказавшаяся относящеюся к себе определенностью. Отвлечение есть поэтому разделение конкретного и превращение его определений в единичные; оно усвояет лишь единичные свойства и моменты; ибо его продукт должен содержать то, что есть само оно. Но различение этих единичности его продукта и единичности понятия состоит в том, что в первых отличается единичное, как содержание, от общего, как формы; ибо именно это содержание не есть абсолютная форма, самое понятие, или эта форма не есть полнота формы. Но этим ближайшим соображением отвлеченное обнаруживается само, как единство единичного содержания и отвлеченной общности, стало быть, как конкретное, как противоположное тому, чем оно хочет быть.
По тому же основанию частное, так как оно есть лишь определенное общее, есть также единичное, и, наоборот, так как единичное есть определенное общее, оно есть также некоторое частное. Если твердо держаться этой отвлеченной определенности, то понятие имеет три частных определения, – общее, частное и единичное, между тем как ранее видами частного считались лишь общее и частное. Так как единичность есть возврат понятия, как отрицательного, внутрь себя, то самый этот возврат от отвлечения, которое в нем собственно снимается, может быть поставлен и сосчитан, как безразличный момент наряду с другими.
Если единичность признается одним из частных определений понятия, то частность есть полнота, все обнимающая собою; как эта полнота, она и есть именно ее конкретное или сама единичность. Но она есть также конкретное по вышеуказанной своей стороне, как определенная общность; таким образом она есть непосредственное единство, в коем не положен ни один из этих моментов, как различенный или как определяющее, и в этой форме она составляет средний термин формального умозаключения.
Само собою бросается в глаза, что каждое определение, полученное в предыдущем изложении понятия, непосредственно разлагается и теряется в других. Всякое различение смешивается в том рассуждении, которое должно его изолировать и упрочить. Лишь простое представление, для которого это различение изолировало отвлечение, способно прочно различить общее, частное и единичное; таким образом, они могут быть перечислены, и дальнейшее различение хватается за полную внешность бытия, за количество, которое пригодно здесь менее всего. В единичности положено истинное отношение, нераздельность определения понятия; ибо как отрицание отрицания она содержит в себе его и его противоположение, и вместе с тем его же в своем основании или единстве совпадение каждого с его другим. Так как в этой рефлексии состоит общность, в себе и для себя, то первая есть по существу отрицательность определений понятия не только так, что она есть относительно них лишь третье различное, но так, что теперь положено, что положение есть бытие в себе и для себя; т. е. что свойственные отличению определения суть каждое полнота. Возврат определенного понятия внутрь себя состоит в том, что он имеет определение – быть в своей определенности полным понятием.
2. Но единичность есть не только возврат понятия внутрь себя самого, но непосредственно и его утрата. Через единичность оно, будучи в нем внутри себя, становится вне себя и вступает в действительность. Отвлечение, которое, как душа единичности, есть отношение отрицательного к отрицательному, есть, как показано, не нечто внешнее общему и частному, а имманентно им, и они через него суть конкретное, содержание, единичное. Но единичное, как эта отрицательность, есть определенная определенность, различение, как таковое; через эту рефлексию отличения в себя отличение упрочивается; определение частного достигается лишь через единичность, ибо последняя есть то отвлечение, которое теперь именно и есть единичность, положительное отвлечение.
Таким образом, единичное, как относящаяся к себе отрицательность, есть непосредственное тожество отрицания с собою; оно есть сущее для себя. Или, иначе, оно есть отвлечение, определяющее понятие по его идеализованному моменту бытия, как нечто непосредственное. Таким образом, единичное есть качественное одно или это. По этому качеству оно есть во-первых отталкивание себя от себя самого, что предполагает многие другие одни; во-вторых, оно есть в противоположность этим предположенным другим отношение отрицательное и потому исключающее единичное. Общность, отнесенная к этим единичным, как безразличным одним, – а она должна быть отнесена к ним, так как она есть момент понятия единичности, – есть лишь свойственное им всем. Если под общим разумеют то, что свойственно вообще многим единичным, то исходят от их безразличного существования и к определению понятия примешивают непосредственность бытия. Низшее представление, какое можно иметь об общем, каково оно в отношении к единичному, есть это его внешнее отношение, как чего-то свойственного всем.
Единичное, которое в рефлексивной сфере осуществления есть «это», лишено того исключающего отношения к другим одним, которое присуще качественному бытию для себя. Это, как рефлектированное в себя одно, не обладает для себя отталкиванием; или, иначе, отталкивание присуще этой рефлексии вместе с отвлечением и есть рефлектирующее опосредование, которое таково в нем, что оно есть положенная, отмеченная внешностью непосредственность. Это есть; оно непосредственно; но оно есть это, лишь поскольку оно указано. Указывание есть рефлектирующее движение, которое совпадает с собою и полагает непосредственность, но как нечто внешнее себе. Единичное, правда, есть также это, как и восстановленное из опосредования непосредственное; но оно имеет непосредственность не вне его, оно само есть отталкивающее отделение, положенное отвлечение, но в своем отделении само есть положительное отношение.
Это отвлечение единичного, как рефлексия в себя различения, есть, во-первых, положение различенных, как самостоятельных, рефлектированных в себя. Они суть непосредственно; но далее это разделение есть рефлексия вообще, видимость одного в другом; таким образом, они состоят в существенном отношении. Далее они суть не просто сущие единичные, противоположные одно другому; такое множество свойственно бытию; полагающая себя, как определенную, единичность полагает себя не в чем-либо внешнем, а в различении понятия; поэтому она исключает из себя общее, но так как последнее есть момент ее самой, то он столь же существенно относится к ней.
Понятие в этом отношении своих самостоятельных определений утратило себя; ибо оно уже не есть их положенное единство, и они уже не суть его моменты, его видимость, но пребывают в себе и для себя. Как единичность, оно возвращается в определенности внутрь себя; тем самым определенное само стало полнотою. Его возврат внутрь себя есть поэтому его абсолютное, первоначальное разделение, или, иначе, оно, как единичность, положено, как суждение.
Вторая глава
Суждение
Суждение есть положенная в самом понятии определенность последнего. Определения понятий или то, что, как оказалось, суть определенные понятия, уже рассмотрены для себя; но это рассмотрение было более субъективною рефлексией или субъективным отвлечением. Но понятие само есть это отвлечение, противоставление его определений есть его собственное определение. Суждение есть это положение определенного понятия через само понятие.
Акт суждения есть постольку некоторая другая функция, чем понимание, или, правильнее, другая функция понятия, поскольку оно есть акт определения понятия через себя само; и дальнейшее движение суждения в различии суждений есть это дальнейшее определение понятия. Какие имеются определенные понятия, и как эти их определения вытекают с необходимостью, это должно быть обнаружено в суждении.
Суждение может поэтому быть названо ближайшим реализованием понятия, поскольку реальность обозначает вообще выход в существование в виде определенного бытия. Ближайшим образом природа этого реализования оказалась такою, что, во-первых, моменты понятия через его рефлексию в себя или его единичность суть самостоятельные полноты, во-вторых же, единство понятия есть их отношение. Рефлектированные в себя определения суть определенные полноты, как по существу в безразличной безотносительной устойчивости, так и через взаимное опосредование одних другими. Самый акт определения есть лишь полнота, поскольку он содержит в себе эти полноты и их отношение. Эта полнота и есть суждение. Поэтому оно содержит в себе обе самостоятельные части, именуемые субъектом и предикатом. Что такое каждый из них, нельзя еще собственно сказать; они еще неопределенны, ибо должны быть определены лишь через суждение. Поскольку оно есть понятие, как определенное, между ними существует лишь то общее различие, что суждение содержит в себе определенное понятие в противоположность еще неопределенному. Поэтому субъект в противоположность предикату может ближайшим образом признаваться за частное в противоположность общему, или также за единичное в противоположность частному, поскольку они вообще взаимно противостоят, как более определенное более общему.
Поэтому правильно и нужно пользоваться для определений суждения этими названиями – субъект и предикат; как названия, они суть нечто неопределенное, долженствующее еще получить свое определение; и потому они суть не более, как названия. Сами определения понятия не могут быть употребляемы, как две стороны суждения, отчасти на этом основании, отчасти же и еще более потому, что природа определения понятия требует, чтобы оно не было чем-то отвлеченным и неизменным, но содержало внутри себя и полагало в себе свое противоположное; так как стороны суждения суть сами понятия, т. е. полнота его определений, то они должны пройти и показать в себе их все в отвлеченной или конкретной форме. Но для того, чтобы при таком изменении их определений сохранить в общем виде стороны суждения, всего удобнее прибегнуть к названиям, сохраняющим при этом постоянство. Название же противостоит вещи или понятию; это различие проявляется и в самом суждении, как таковом. Так как субъект выражает собою вообще определенное и потому преимущественно непосредственно сущее, предикат же общее, сущность или понятие, то субъект, как таковой, есть ближайшим образом некоторое название; ибо то, чтó он такое есть, выражает лишь предикат, содержащий в себе бытие в смысле понятия. Что есть это, или что это есть за растение и т. д.? под бытием, о котором тут спрашивается, часто разумеется только название, и, узнав последнее, мы удовлетворяемся и знаем, что такое есть эта вещь. Это есть бытие в смысле субъекта. Но понятие или по меньшей мере сущность и вообще общее сообщается лишь предикатом, и о нем спрашивается в смысле суждения. Бог, дух, природа или что бы то ни было есть поэтому, как субъект суждения, только название; что такое есть этот субъект по его понятию, сообщается лишь предметом. Если ищется некоторый предикат, присущий субъекту, то в основе суждения о том должно уже лежать понятие; но оно высказывается лишь самим предикатом. Поэтому предположенное значение субъекта есть собственно только представление, и оно приводит к некоторому объяснению названия, причем оказывается случайным и некоторым историческим фактом то, что подразумевается или не подразумевается под названием. Многие споры о том, присущ или нет данному субъекту некоторый предикат, суть поэтому не что иное, как споры о словах, так как они исходят от этой формы; лежащее в основании (subjektum, υποκειμενον) есть еще не более, чем слово.
Теперь надлежит ближе рассмотреть, каким образом, во-вторых, определены отношение субъекта и предиката в суждении и тем самым ближайшим образом они сами. Стороны суждения суть вообще полноты, которые ближайшим образом по существу самостоятельны. Поэтому единство понятия есть прежде всего лишь отношение самостоятельных (сторон); не конкретное, возвратившееся внутрь себя из этой реальности полное единство, но такое, вне которого они пребывают, как неснятые в нем крайние термины. Поэтому рассмотрение суждения может исходить или от первоначального единства понятия, или от самостоятельности этих крайних терминов. Суждение есть раздвоение понятия через себя само; это единство есть поэтому основание, с которого рассматривается суждение по его истинной объективности. Тем самым оно есть первоначальное разделение первоначально единого; слово «Urtheil» выражает то, что оно есть в себе и для себя. Но что понятие есть в суждении явление, так как моменты первого достигают в последнем самостоятельности, – этой стороны внешности придерживается более представление.
Таким образом, по этому субъективному взгляду субъект и объект считаются каждый за нечто готовое для себя вне другого; субъект – предметом, который существовал бы и в том случае, если бы он не имел этого предиката; предикат – общим определением, которое существовало бы и в том случае, если бы оно не было присуще этому субъекту. С суждением, стало быть, связана рефлексия, может ли и должен ли тот или иной предикат, находящийся в голове, быть присоединен к предмету, находящемуся вне ее для себя; само суждение состоит в том, что лишь посредством него некоторый предикат связан с субъектом, так что, если бы это связывание не имело места, то субъект и предикат остались бы каждый для себя тем, что они суть, первый – существующим предметом, второй – представлением в голове. Но предикат, присоединенный к субъекту, должен также соответствовать ему, т. е. быть в себе и для себя тожественным ему. Это значение присоединения снова снимает субъективный смысл суждения и безразличное внешнее существование субъекта и предиката: это действие есть хорошее; связка показывает, что предикат принадлежит бытию предмета, а не связан с ним лишь внешним образом. В грамматическом смысле это субъективное отношение, при котором исходят от безразличной внешности субъекта и предиката, имеет полное значение; ибо это слова, связанные здесь внешним образом. По этому поводу можно также упомянуть, что хотя предложение в грамматическом смысле имеет субъект и предикат, но оно не есть еще оттого суждение. Последнее подразумевает, что предикат находится к субъекту в отношении, обусловленном определениями понятий, т. е. как некоторое общее к некоторому частному или единичному. Если то, что говорится о единичном субъекте, само есть нечто единичное, то это простое предложение. Напр., Аристотель умер на 73-м году[1] своей жизни, в 4-м году 115-й олимпиады, – это простое предложение, а не суждение. Оно имело бы отчасти характер суждения, если бы одно из обстоятельств, время смерти или возраст этого философа подвергались сомнению, а между тем по какому-либо основанию на приведенных цифрах приходилось настаивать. Ибо в таком случае они признавались бы за нечто общее, существующее и без определенного содержания – смерти Аристотеля, за наполненное другим или также пустое время. Так, известие «мой друг N. умер» есть предложение; оно было бы суждением лишь тогда, если бы возник вопрос, есть ли эта смерть действительная или лишь кажущаяся.
Если суждение обычно объясняется так, что оно есть соединение двух понятий, то для внешней связки можно пожалуй сохранить неопределенное выражение «соединение» и признавать далее, что по крайней мере, соединяемое суть понятие. Но вообще это объяснение весьма поверхностно не только потому, что, напр., в разделительном суждении соединено более двух так называемых понятий, но и потому, что объяснение дает гораздо более, чем есть на деле; ибо то, что тут подразумевается вообще, суть не понятия, едва ли даже определения понятий, а в сущности лишь определения представлений; по поводу понятия вообще и определенного понятия было уже замечено, что то, чему обычно дается это название, никоим образом не заслуживает названия понятия; откуда же в суждении могут взяться понятия? В сказанном объяснении главное есть то, что не обращается внимания на существенное в суждении, именно на различение его определений, и еще менее на отношение суждения к понятию.
Что касается дальнейшего определения субъекта и предиката, то уже было упомянуто, что именно лишь в суждении они должны получить свое определение. Но поскольку суждение есть положенная определенность понятия, то ей присущи сказанные отличения непосредственно и отвлеченно, как единичность и общность. Но поскольку оно есть вообще существование или инобытие понятия, еще не возвратившегося снова к тому единству, в силу которого оно есть понятие, то здесь выступает также та определенность, которая чужда понятию, – противоположность бытия и рефлексии или бытия в себе. Но так как понятие составляет существенное основание суждения, то эти определения по меньшей мере столь безразличны, что в каждом, одном присущем субъекту, другом – предикату, имеет место и обратное отношение. Субъект, как единичное, является прежде всего, как сущее или сущее для себя согласно определенной определенности единичного, – как действительный предмет, хотя он есть лишь предмет представления, – как, напр., храбрость, право, соответствие и т. п. – о котором судят; напротив, предикат, как общее, является рефлексиею о субъекте или, правильнее, также его рефлексиею в себя самого, выходящею за эту непосредственность и снимающею определенности, как только сущие, – его бытием в себе. Таким образом, исходят от единичного, как от первого, непосредственного, и повышают его через суждение до общности; точно так же, как сущее лишь в себе общее нисходит в единичном до существования или становится сущим для себя.
Это значение суждения должно быть признаваемо за его объективный смысл и вместе с тем за истину предыдущих форм перехода. Сущее становится и изменяется, конечное переходит в бесконечное; осуществленное выступает из своего основания в явление и исчезает в своем основании; акциденция обнаруживает богатство субстанции так же, как и ее мощь; в бытии необходимое отношение проявляется в переходе в другое, в субстанции – в видимости в некотором другом. Эти переход и видимость теперь перешли в первоначальное разделение понятия, причем последнее, возвращая единичное в бытие в себе его общности, равным образом определяет общее, как действительное. То и другое есть одно и то же, единичность положена в ее рефлексии в себя, а общее, как определенное.



