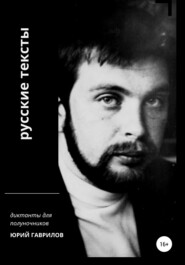скачать книгу бесплатно
(1823–1886)
Островского называют «Колумбом Замоскворечья» – и это справедливо. Героями дворянской литературы были, естественно, дворяне: на ее страницы попадали мужики, контрабандисты, дядьки Савельичи, убогие французы, разбойники Казбичи, собачки Муму, дворовые обоего пола и даже Пугачев, но не купцы. Гоголевские, из «Ревизора» – не в счет, они – лишь доказательство безобразий городничего, они из ряда: унтер-офицерская вдова, церковь, которая начала строиться и сгорела, купцы…
Но до Островского в русской драматургии не было не только весьма своеобразного и колоритного сословия, не было, как это ни странно, и денег. Дворянские деньги – ненастоящие, легко приходят, легко уходят, не на деньгах ломаются дворянские судьбы – на словах, мыслях, чувствах, страстях.
У Островского кредитные билеты – живые, они кровью потеют… Ну что изменили бы в судьбе Обломова еще триста душ? Но дайте Ларисе Огудаловой наследство в полмиллиона – и вместо одной из самых изумительных русских драм получим пошлый брак с фатоватым Паратовым, и поэтичная, страстная Лариса с радостью пойдет под венец и наденет капот.
Вместе с деньгами в драмах Островского появляется женщина. Экая, скажете вы, невидаль, вон их сколько: Софья Павловна, Мария Андреевна, Марья Антоновна, а если эти не нравятся, возьмите хотя бы госпожу Простакову…
Все не то: до Островского женщина никогда не была главной героиней, центром литературного действа, разве что «Бедная Лиза».
«Гроза», «Бесприданница», «Последняя жертва», «Без вины виноватые», – и здесь надо остановиться, ибо список выйдет слишком длинен; от «Грозы», которую два остроумца определили как мещанскую трагедию до «подлинного луча в темном царстве» – психологической драмы «Сердце не камень», символа веры Островского: излечить самодурство, грубость нравов, невежество могут только любовь и совесть.
До Островского драматургия была продуктом штучным; отвлекаясь от основных занятий, Пушкин и Гоголь как бы говорили: а вот еще трагедию – комедию можно написать. «Горе от ума» и «Борис Годунов» не скоро попали на сцену, и «Ревизор» был в премьере сыгран вкривь и вкось. Островский создал целый мир, театр своего имени, который живет и сегодня становится страшно (в полном смысле этого слова) актуальным. Перечтите хотя бы «На всякого мудреца…» или «Волки и овцы» – подумайте, есть ли в жизни другие роли, кроме хищника и жертвы.
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович
(1826–1889)
По поводу знаменитого восклицания Фамусова «забрать все книги бы да сжечь!» Салтыков-Щедрин мудро заметил, что книги не сжигать надобно, но в ступе истолочь и карт игральных понаделать.
Окончив без всякого блеска Александровский (Царскосельский) лицей, он пошел тернистым путем греха, т. е. утонул в пучине светских развлечений, странным образом сочетая рассеянный образ жизни с либеральным свободомыслием, службой в канцелярии и занятиями литературой.
Он очень смешно изображал кружок Петрашевского, пустые, бесконечные словопрения о том, довольно ли одной любви или же любовь потом, а вначале должно все разрушить. Но начальство решило, что Салтыков маскируется, и в Вятку он был сослан именно «за соприкосновенность» к петрашевцам.
Все, что необходимо Ювеналу, у Салтыкова-Щедрина присутствовало: он был умен, желчен и язвителен от природы, но сердце имел мягкое и потому тайно тяготел к юмору, что угадал беспощадный и проницательный Писарев в блестящей и хулиганской статье «Цветы невинного юмора».
Сатира Салтыкова-Щедрина оставляет странное и двойственное впечатление: Салтыков-Щедрин остроумен и зол; то ли жизнь русская мало переменилась, то ли писатель нашел некую общую формулу ее, но если внимательно прочитать «Историю одного города»; то местами возникает ощущение, что написано это сегодня, если не завтра: «Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля, и что, под наблюдением квартальных надзирателей, возникнут науки и искусства»; «новому правителю уже по одному тому должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились и глуповская восторженность, и глуповское легкомыслие».
На той же странице упомянуто «каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие».
А заповеди градоначальника номер шесть: «Натиск и притом быстрота, снисходительность, притом строгость. И притом благоразумная твердость». Так и тянет добавить: и притом укрепление вертикали власти.
Двойственность же состоит в том, что глуповцы Салтыкова в трех соснах заблудились, глуповцы же в реальности вышли к берегам Тихого океана; глуповцы Щедрина, «знали, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли» – это про Разина и Пугачева? Не сходится.
Однажды дочь Салтыкова-Щедрина, Лиза, получила двойку за сочинение. Михаил Ефграфович надел вицмундир, нацепил ордена и отправился в гимназию: «Как это так! Сочинение писал я!» Но двойку не исправили, крепкие порядки были в школе при проклятом царизме.
Толстой Лев Николаевич
(1828–1910)
В 19 лет он написал правила для самого себя на все случаи жизни: поставил целью изучить весь курс юридических наук, практическую медицину и часть теоретической, языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский; изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое, изучить историю, географию, статистику, математику; написать диссертацию; достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи, написать правила нравственного поведения, получить некоторые познания в естественных науках и составить сочинения из всех предметов…
Он оставил и предметы, и университет и стал артиллерийским офицером, воевал против горцев на Кавказе и против западных союзников на бастионах осажденного Севастополя.
Офицер опубликовал «Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские рассказы» и стал знаменитым русским писателем.
Он женился по любви, прожил с женой 48 лет, родил в браке 14 детей.
Он стал педагогом, открыл школу для крестьянских детей в Ясной Поляне, работал на голоде; болел, лечился кумысом; наставлял правительство, написал более 10000 писем, стал философом, «Буддой и Шопенгауэром», – ядовитый Розанов.
Он стал, благодаря изданию своих сочинений невиданными для России тиражами, богатым человеком, крупным землевладельцем…
И отрекся, освободился, по Бунину, от всего: науку он признал ненужной и совсем не тем, «Чем люди живы», военную службу – бездельем и развратом; он призывал к полному безбрачию, восстал против церкви, был и отлучен, и предан анафеме – такой чести не многие удостоились! Он отказался от своего сословия, от имущественных прав; он не признавал государства, правосудия, бессмертия души. Он утверждал, что помнит себя с момента рождения: как тужился, пытаясь выбраться из пеленок.
Всю жизнь он освобождался от пелен; а еще он пахал, тачал сапоги Фету, мучил близких тем, что выламывался из принятых форм бытия; он чудил: не признавал Шекспира, сожалел, что никогда не сидел в тюрьме, а незадолго до смерти начал изучать древнееврейский язык.
Он писал: «Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть все большее и большее подчинение этим формам и потом опять освобождение от них…»
Завершая освобождение, он ушел в промозглую ночь, без денег, в старом пальто, больной немощный восьмидесятидвухлетний человек, он преодолел все и самого себя, и умер в Астапове, которое теперь, конечно же, называется просто «Лев Толстой».
Чернышевский Николай Гаврилович
(1828–1889)
Канувший в Лету римлянин Теренциан Мавр утверждал: книги имеют свою судьбу. Это изречение прямо относится к произведению Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых людях».
Попович из провинциального Саратова еще до поступления в университет знал языки: древнегреческий, латинский, древнееврейский, английский, французский, немецкий, польский, читал по-арабски, говорил по-татарски; мог часами на память цитировать авторитетных ученых по любому гуманитарному предмету.
В 34 года он был изъят из жизни по ложному доносу, вина его не была доказана, но его подвергли гражданской казни, семилетней каторге и двенадцатилетней ссылке в Вилюйске, городе, где лучшим зданием была тюрьма, а зимой заваливало за семьдесят. Жена, пустая и развратная, не последовала за ним в Сибирь, бросила; быт его был таким, что разве что на гвоздях, как литературный герой его Рахметов, он не спал, его пытались выкрасть народовольцы Лопатин и Мышкин – но тщетно.
Николай Гаврилович умер в родном Саратове, в бреду связно диктуя из Вебера, немецкого историка, 12 томов «Всемирной истории» которого он перевел.
Такова судьба автора, а вот судьба книги: она была написана за три с половиной месяца в Петропавловской крепости, что само по себе должно было насторожить цензуру. Но цензор принял «Что делать?» за семейный роман(!), а сны Веры Павловны за научно-популярные агитки. К несчастью, он не дочитал рукопись до конца и не знал, что Чернышевский говорил, что «искусство должно быть учебником жизни».
Некрасов, редактор и издатель «Современника» сам повез тяжелый пакет с единственным экземпляром в типографию, рукопись выпала из саней, Некрасов был близок к умопомешательству. Мелкий чиновник нашел роман и по объявлению принес его в редакцию «Современника», так «учебник жизни», учебник социализма увидел свет.
«Эта книга глубоко перепахала, перевернула меня», – признавал Ленин, свернувший шею России, да так, что вернуть голову в нормальное положение мы так и не можем.
Лишенная каких-либо литературных достоинств книга отравила, погубила несколько поколений самых честных, самых нетерпимых к общественным язвам и самых нетерпеливых российских юношей. Чернышевский породил веселого хулигана Писарева, кулачного бойца Зайцева, Стасова – эту грудную жабу русского искусства, пошляка Луначарского и Леопольда Авербаха с чудовищным РАПП'ом.
«Что делать?» и «Как закалялась сталь» – это один роман в двух частях, и богатая мысль о том, что литература должна стать винтиком и шпунтиком пролетарского дела – это Ленин у Чернышевского списал.
– Что делать? – удивлялся Розанов. – Летом варить варенье, а зимой пить с ним чай!
Его еще покамест не распяли,
Но час придет – он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Царям земли напомнить о Христе.
Может быть, поверить Некрасову?
Лесков Николай Семенович
(1831–1895)
«Праздник жизни – молодости годы, я убил под тяжестью труда», – эти слова Некрасова Лесков с полным основанием мог отнести на свой счет.
Не закончив по семейным обстоятельствам гимназию в родном Орле, Николай Семенович поступил сначала на казенную службу, потом на частную; и та, и другая заключалась в постоянных разъездах.
К тридцати годам Лесков стал глубоким знатоком быта и психологии русского народа; накопил неисчерпаемый запас наблюдений, сюжетов, запоминающихся характеров.
А главное – будущий писатель просто купался в русской языковой стихии; он досконально знал, как говорят на Волге, на Украине или в Новороссии люди разных сословий, чинов, национальностей.
Социальный охват прозы Лескова настолько широк, что с ним может соперничать только Чехов.
Если Н. А. Островский открыл Америку в купеческом Замоскворечье, то Лесков – «мелочи архиерейской жизни» (сам происходил из небогатой полу-духовной, полу-дворянской семьи), мир мещан, тульских мастеровых, степных кочевников – всего не перечислить.
В 1861 году Николай Семенович поселился в Санкт-Петербурге и занялся журналистикой.
И на этом поприще с ним случилась драматическая история, переломившая его жизнь.
Лесков придерживался вполне «прогрессивных», как тогда говорили, взглядов (заметим, что слово «прогресс» запрещалось употреблять в печати: оно считалось опасным для неокрепших умов); его ближайшими друзьями были А. И. Ничипоренко, член «Земли и Воли», умерший в 26 лет в Петропавловской крепости, и агент Герцена – журналист Артур Бенни.
В конце на редкость жаркого мая – начале лета 1862 года в Санкт-Петербурге и других городах империи случились страшные пожары. Обывательская молва обвиняла в поджогах нигилистов, поляков и студентов.
Лесков опубликовал в «Северной пчеле» статью, где в жесткой форме потребовал от полиции либо предъявить доказательства вины студентов, либо самым определенным и официальным образом опровергнуть ложные слухи. Сходную по содержанию корреспонденцию «Пожары» намеревался напечатать в своем журнале «Время» Ф. М. Достоевский, но она была дважды запрещена цензурой.
Кто и как прочитал эту статью Николая Семеновича – неизвестно, но в демократических кругах пошли разговоры: Лесков – агент правительства и обвинил студентов в поджоге по наущению полиции.
Лесков тщетно пытался оправдаться: он устно и письменно умолял прочитать его статью и убедиться, что никакого доноса она не содержит, и ровно наоборот – написана с целью защитить студентов от облыжных обвинений.
Мог ли Чацкий убедить фамусовское общество в том, что он – не сумасшедший?
То-то…
Но там-то были ретрограды времен Очакова и покоренья Крыма!
Демократы времен Добролюбова оказались ничем не лучше.
Униженный и оскорбленный Лесков уехал в Прагу, затем в Париж и вдали от родины пытался осмыслить то новое в жизни общества, что Тургенев назвал «нигилизмом», Лев Толстой – заразой, Достоевский – «Бесами», Гончаров – «Обрывом», а Писемский – «Взбаламученным морем».
Нигилистов было много что несколько тысяч на стомиллионную империю, но опасность они несли смертельную.
Они говорили от имени народа и действовали, по их мнению, на его благо, но народа, подлинного, а не придуманного, не знали; и народ их не знал и не хотел.
Нигилисты готовы были навязать свою волю огромной стране под личиной свободы и демократии; их идейным потомкам это удалось – сначала в октябре 1917-го, потом, под другими знаменами, в декабре 1991-го, и оба раза это обернулось трагедией.
Николай Семенович вернулся в Россию с романом «Некуда» (1864) и сразу прославился – благодаря истерике Писарева Лескова прочла вся читающая Россия.
Самый знаменитый, самый талантливый тогдашний бес заклеймил Лескова как последнего реакционера и мракобеса.
А, между тем, роман прочтен тем же самым образом, что и злополучная статья о пожарах.
Яркая фигура В. А. Слепцова (Белоярцева в романе) застила глаза революционно-демократическим критикам.
Автор «Современника» и большой практик модного «женского вопроса» Слепцов организовал Знаменскую женскую коммуну – меблированные комнаты для женщин, бежавших от тирании мужей, и девушек, удравших из семьи в поисках знакомств с «новыми людьми».
По городу пошли гулять соблазнительные сплетни про оргии в коммуне…
«Эмансипе» не смогли вести самого простого общего хозяйства – дело кончилось конфузом.
Что, собственно, и описал Лесков, деликатно опустив разухабистые слухи о коммунальных, то есть общих женах.
Но «Знаменка» была любимая мозоль радикалов.
Взвыв от негодования, они вовсе не заметили того, что один из главных героев романа, социалист Райнер (Артур Бенни), погибший во главе польского повстанческого отряда, изображен в ореоле жертвенного благородства; то, что автор ни на йоту не сомневался в чистоте помыслов Лизы Бахаревой.
Была пропущена Писаревым и главная мысль Лескова: старое плохо и новое никуда не годно. Райнер и Лиза (как и тургеневский Базаров) должны были погибнуть – им некуда деваться. В старой лжи они задыхаются, и бесам они не нужны, у бесов иные, корыстные цели и иные, грязные методы.
В большом романе Лескова «На ножах» (1870) больше злобы, чем художественных достоинств. Этим романом была вскрыта старая гниющая рана. Гной обиды, мутивший разум писателя, вышел наружу и «старогородская хроника» из жизни провинциального духовенства («Соборяне», 1872) стала достойным переходом к лучшему периоду творческой жизни писателя.
В «Соборянах» Лесков показал Русь патриархальную, наивную, беззащитную перед хищниками и лжепророками.
Создавая «Праведников» он словно забыл о нигилистах, его интересовали «тихие, тайные струи, которые текли под внешней рябью русских вод, кое-где поборожденных направленческими ветрами». (Лесков Н. С. «Обнищеванцы»)
Тот, кто не прочел «Запечатленного ангела», «Пигмея», «Воительницу», мощного «Очарованного странника», лукавые «Мелочи архиерейской жизни», чудесного «Однодума» – тот представляет себе русскую жизнь XIX века в лучшем случае однобоко и имеет искаженное представление о русских характерах.
Только подобным невежеством можно объяснить утверждение: все русские – рабы. Это очарованный-то странник Иван Северьянович и соличгаличский квартальный «однодум» Александр Афанасьевич рабы?
Лесков обстоятельствами жизни был поставлен вне партий. Его умственное одиночество укрепило его огромный талант, сделало его особенным, ни на кого не похожим.
Русская критика назвала Лескова, вслед за Достоевским, «больным талантом», и читающая публика с этим легко согласилась.
Насколько здорово было само общество стало ясно через 10 лет после смерти писателя.
Чехов Антон Павлович
(1860–1904)
Современники вспоминают о Чехове как о святом – совершенно не за что зацепиться. Его жизнь сродни гражданскому подвигу Чернышевского: Чехов оказался на Сахалине, но Антона Павловича никто не ссылал, он поехал на край света сам, но зачем – никому не известно. А здоровье подкосил основательно.
Его любили животные и дети; он любил собак и лошадей, а женился отчего-то на Ольге Леонардовне Книппер, которую не любил, и она отвечала ему взаимностью.
Ускользнул от всех: от дышавшего к нему нежностью Бунина, от Горького – цепкого портретиста, от бесцеремонного Гиляровского, от Толстого, сумевшего восхититься непостижимой «Душечкой», но не умевшего разгадать Чехова.
Он написал «Крыжовник» – о несовершенстве жизни, о том, что стыдно быть счастливым и благополучным, о ничтожности человеческих желаний: купить поместье, есть собственную, не покупную ягоду.
Он купил поместье, Мария Павловна собирала и пускала в дело собственный, не покупной крыжовник, а Антон Павлович пил чай с ароматным вареньем. Он написал «Ионыча», а Гончаров – «Обыкновенную историю», кому какой талант Бог послал; но «Ионыч» – не рассказ, а в своем роде «Обыкновенная история» – такой себе роман на 18 страниц.
Сколько он написал удивительных романов—рассказов в 90–е годы: «О любви», «Душечка», Дама с собачкой», а еще раньше «Попрыгунью» и «Скучную историю».
Л. Н. Толстой о рассказе Л. Андреева «О семи повешенных» отозвался кратко: «Он пугает, а мне не страшно». Где тот смельчак, который может сказать такое о «Скучной истории» и «Ионыче»? А ведь Чехов никого не пугал, для этого он был слишком деликатен, статный великан с ясными глазами.
Помощник капитана каботажного пароходика, доставившего Чехова из Севастополя в Ялту, хам, драчун и самодур, на него решительно не было управы, придравшись к какой-то ерунде, стал избивать чеховского носильщика-татарина. И вдруг татарин бросил вещи на палубу, начал бить себя в грудь руками, таращить глаза и, наступая на помощника капитана, кричать на всю пристань: «Что! Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты вот кого ударил!» – и показал на Чехова. Помощника как ветром сдуло. И не про татарина и помощника это – про Чехова.
Свои предсмертные слова он произнес по-немецки – почему?