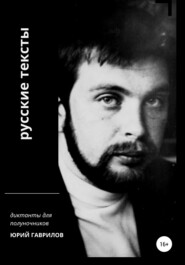скачать книгу бесплатно
На зрелище были приглашены знакомые Аракчеева, случайные московские литераторы, архитектор Барановский, которому нашлась работа.
Склеп оказался неожиданно могучим сооружением непростой конструкции – долбили ломами целый день.
Когда подняли гроб и стали его вскрывать (сгнили только боковые доски), жена архитектора Марья Юрьевна заплакала, и один чекист из числа подчиненных Аракчеева сочувственно сказал другому: «Смотри, как вдова-то убивается…»
Взрезали толстую металлическую фольгу, и мародеры кинулись растаскивать содержимое: литератор Лидин отрезал полу сюртука, Аракчеев украл у покойника сапоги, на редкость хорошо сохранившиеся, кто-то срезал пуговицы, некто, кого не хочется называть, взял себе на память ребро Гоголя.
В тот же вечер по Москве пошли гулять слухи, один соблазнительнее другого: мерзавец Лидин уверял, что в гробу не было черепа (спустя несколько лет он же клялся, что череп был, но лежал на боку.
Эта молва аукнулась в «Мастере и Маргарите»; а много лет спустя Андрей Вознесенский, для которого в то время святотатство было вторым, после восхваления Ленина, душеспасительным занятием, писал, содрогаясь от собственной смелости: «Гоголь, скорчась, лежит на боку, ноготь подкладку порвал сапогу».
Кто-то вспомнил, что в 1909 году, по случаю установки памятника Гоголю на Пречистенском бульваре (работы скульптора Андреева) проводилась реконструкция могилы писателя и что, якобы помешавшийся на собирательстве, купец Бахрушин, основатель театрального музея, подбил рабочих украсть для его коллекции череп Гоголя, так же как ранее Бахрушин будто бы похитил из могилы череп актера Щепкина.
Разумные доводы мало кого убеждали: скульптор Рамазанов, который снимал посмертную маску с Гоголя, утверждал, что на лице были выраженные следы разложения. Кроме того, снять маску с живого человека невозможно. Положение покойника в гробу может поменяться при перевозке, перекоса при опускании в могилу, из-за давления грунта на гроб (таков был случай Гоголя).
Ноготь, на боку, без головы – куда как интереснее.
А сапоги пришлось вернуть, закопать под памятник – призраки замучили.
Гончаров Иван Александрович
(1812–1891)
«Вы знаете, какой я дикий, какой я сумасшедший; я больной, затравленный, не понятый никем и нещадно оскорбляемый самыми близкими мне людьми, даже женщинами… Судьба не дала мне никакого гнезда, ни дворянского, ни птичьего, и сам не знаю, куда денусь», – из письма Гончарова, ко времени написания коего он был и знаменитым писателем, и солидным чиновником.
Склонный к простудам, отечный, вследствие сидячего, по необходимости, образа жизни, болезненно мнительный, он всегда мечтал забиться, «спрятаться куда-нибудь в угол»; всякие знаки внимания он воспринимал, как насилие над собой, и тогда он издавал глухие стенания: «пощадите, простите». Писатели решили отметить его литературный юбилей, он впал в панику и согласился принять, разумеется, у себя дома, ближайших сотрудников по «Вестнику Европы» со строжайшим условием, что не будет произнесено никаких поздравительных речей.
Горячечной фантазией Гончарова на многие годы стало убеждение, что другие писатели, и, прежде всего Тургенев, обкрадывают его в литературном отношении, воруя у него положения и героев (Марк Волохов – Базаров; Татьяна Марковна «Обрыва» – Марфа Тимофеевна «Дворянского гнезда»).
Когда Тургенев приезжал в Петербург, Гончаров переставал появляться в обществе: «Чеченец ходит за рекой» и «Сказал бы словечко, да волк недалечко», – объяснял он свое поведение. Он стал объектом злых насмешек «Обличительного поэта» (Д. Минаева): в стихотворении «Парнасский приговор» некий русский писатель, «вялый и ленивый, как Обломов, приносит богам жалобу на собрата:
Он, как я, писатель старый,
Издал он роман недавно,
Где сюжет и план рассказа
У меня украл бесславно…
У меня – герой в чахотке,
У него – портрет того же;
У меня – Елена имя,
У него – Елена тоже,
У него все лица также,
Как в моем романе, ходят,
Пьют, болтают, спят и любят…
Гончаров отозвался кротко: «с такой натурой, как моя, нужна не крапива смеха и не грубые удары всевозможных бичей».
И такой человек, «вялый и ленивый», первым из русских писателей совершил двухлетнее кругосветное путешествие: из Петербурга до Японии на военном фрегате «Паллада», из Японии в Петербург – через Сибирь – и это в 1854 году!
Он написал два тома путевых заметок, жанр самый модный в то время, это все знают, все читали… Менее известен другой факт: на стоянке в одной из гаваней Японского моря командующий русской экспедицией адмирал Путятин получил известие о войне, объявленной России со стороны Англии и Франции.
Адмирал под секретом сообщил Гончарову, что, так как парусная «Паллада» не может ни сражаться с винтовыми пароходами противника, ни уйти от них, он в случае встречи с неприятелем решил сцепиться с ним абордажными крючьями и взорвать оба корабля.
Гончаров был человеком штатским, он мог сойти на берег без нарушения присяги, без бесчестья, но он остался и на последнем переходе не выказывал ни малейших признаков волнения.
Герцен Александр Иванович
(1812–1870)
– Александр Иванович! Барин! Как же быть? Совершенно не к кому обратиться! – взывал затравленный Мандельштам. А барин изволили выехать за границу, еще в 1847 году, навсегда.
А Александр Иванович читали Гегеля как алгебру революции, чем до смерти, узнай он об этом, напугали бы законопослушного немца.
Во второй, новгородской ссылке Герцен был под полицейским надзором… у самого себя – такие вот шутки николаевской бюрократии.
В Москве, в сороковые годы, в гостиной на зеленых диванах аксаковской гостиной сидя, Герцен разжег самый великий русский спор; нескончаемый, страстный, философский, жизненный и бессмысленный: славянофилы – западники.
Причем главный славянофил начал с издания журнала «Европеец», а главный западник кончил надгробным памятником, обращенным лицом к России.
Он слышал мерные залпы в поверженном революционном Париже – это расстреливали пленных повстанцев.
Он, единственный в эмиграции, не поверил Нечаеву, золотушному бесу русской революции.
Герцен стал издавать «Колокол» с девизом «Зову живых!». Боже, как читали «Колокол» в России, как везли его туда, как прятали, как хранили!
Царь запретил высылать Герцену доходы с имения – деньги шли на революционную пропаганду, Герцен пожаловался на царя банкиру Ротшильду, кредитору российского императора: «Барон! Вы даете взаймы революционеру. Император Николай не признает священного права частной собственности!..» Ротшильд принял сторону Герцена.
«Мещанство – окончательная форма западной цивилизации», – и западник поверил в русскую крестьянскую общину. Но тот, кто верит в Россию, – тот умножает скорбь. Здесь причины духовной драмы.
Откройте любой том «Былого и дум» – это биография Европы и России, трагедия обманувшейся мысли, крушение последних надежд, в том числе и наших; здесь кипят страсть и кровь, а не холодная сукровица заокеанских боевиков.
Лермонтов Михаил Юрьевич
(1814–1841)
«Гнилостное брожение – Лермонтов» – блистательный Тынянов.
Лермонтов описал себя дважды, и оба раза невпопад. Первая попытка – «Демон», и то, что гений Лермонтова, в полную силу вспыхнувший в нем лишь за четыре года до смерти, был «вольный сын эфира», сомневаться не приходится, но Лермонтов никого не любил, как Демон Тамару. Сказать: «Нет, не тебя так пылко я люблю», – Михаил Юрьевич мог с полным правом любой женщине.
Он равно презирал и женщин, и мужчин и всегда был готов бросить кому угодно в лицо «железный стих, облитый горечью и злостью», что многим почему-то не нравилось.
Лермонтов – Печорин, здесь действительно сходства много, кроме одного – в жизни Грушницкий убьет на дуэли Печорина; деталь, конечно, но немаловажная.
Не зная, куда выплеснуть переполнявшую его желчь, он оболгал свое поколение, хотя и понимал: лишь один его поэтический гений оправдывал существование современников. Для справедливости заметим, что в то время, пока Печорин скуки ради губил людей, русские моряки плавали к берегам Антарктиды, Лобачевский создавал неэвклидову геометрию, Росси строил великолепные дворцы и целые улицы, а Михаил Юрьевич Лермонтов писал «Героя нашего времени».
Одинокий, «и некому руку подать», ощетинившийся против всего мира поэт лишь Бога признавал равным собеседником, а попросить о милости считал незазорным только у Пречистой Девы.
Он был счастлив лишь в те мгновения:
Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка…
……………………………………….
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастья я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.
Но, создавши зловещую притчу о трех пальмах, Лермонтов и Богу не затруднился представить счет:
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей.
В своей богоборческой «Благодарности» Лермонтов просит смерти, что ж каждому дается по вере его.
Лермонтов безжалостно и неумно издевался над майором Мартыновым, однокашником и соседом по койке военной школы; Мартынов в отличие от Дантеса всю жизнь сожалел о содеянном.
В коротком замыкании лермонтовского гения есть неразгаданная тайна, как в непонятной власти над душой таких, казалось бы, простеньких строк:
Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.
Как сумел разгадать он это своим озлобленным сердцем? Вот уж воистину: над вымыслом слезами обольюсь.
Тургенев Иван Сергеевич
(1818–1883) —
Добролюбов Николай Александрович
(1836–1861)
Тургенев был барин по рождению и воспитанию, но он еще играл барина, великосветского льва, аристократа – ему это льстило.
В салонах он рассказывал, что публикует свои повести в «Современнике» без интереса, даром, а сам всегда забирал деньги вперед.
Тургенев невзлюбил Добролюбова и Чернышевского сразу и всерьез; он говорил, что они семинаристы (для дворян это было ругательное слово), что они кутейники, протухли лампадным маслом, тащат в изящную словесность мертвечину…
Но они были интересны ему как художнику, особенно Добролюбов.
Тургенев давал «литературные обеды», попасть на которые было мечтой всякого журналиста. Тургенев пригласил на обед Добролюбова: «И вы приходите, молодой человек». А Добролюбов не пришел! Тургенев подумал, что Добролюбов обиделся формой приглашения, и обратился к нему нарочито вежливо. А Добролюбов не пришел! Тургенев, в присутствии Добролюбова, пенял Панаеву: «Вот, Иван Иванович, нынешняя молодежь равнодушна к авторитетам, не то что мы, когда начинали…» И пригласил Добролюбова на прогулку, но тот отказался.
Они были чужие – иначе одевались, иначе говорили, иначе общались между собой. Даже Панаев, во всем послушный Некрасову, и тот морщился. Самым возмутительным было то, что они никогда не сплетничали, не рассказывали, что печатают свои статьи в «Современнике» бесплатно, работали по 14 часов в сутки и к приличным людям никуда не ходили, а шушукались между собой, как заговорщики.
Добролюбов так засел Тургеневу в печенки, что Иван Сергеевич начал писать роман «Нигилист», и как тут было не свалиться в злую карикатуру. Но Тургенев, сам впоследствии послуживший прообразом карикатуры, был не только светский фат, но и художник, он «Записки охотника» написал…
Попенку Добролюбову была дана лекарская фамилия Базаров, Базарову – добролюбовское презрение к авторитетам и равнодушие к красоте. Но каким-то непостижимым образом Тургенев разгадал тайну Добролюбова – ведь тот был таким ущербным, потому что не жил никогда, не любил, не дышал полной грудью. И как только Базаров вдохнул опьяняющей смеси настоя трав, краснолесья, аромата духов Одинцовой, запаха смерти, исходящего от дуэльного пистолета, он задохнулся, но познал и жизнь, и слезы, и любовь…
А Добролюбов задохнулся под тяжестью честного труда и чахотки. Он, Добролюбов, был фигурой риторической, силой своего таланта Тургенев изваял из него фигуру трагическую и навсегда прописал в русской литературе.
Некрасов Николай Алексеевич
(1821–1878)
Некрасов, вдоволь помыкавшись в юности по петербургским углам, хлебнувши горяченького до слез, разбогател на альманахах и «Современнике», зажил барином и два раза в неделю ездил в Английский клуб – посидеть за ломберным столиком.
Со временем Некрасов пристрастился к этому занятию, стал заядлым картежником и вел уже игру азартную, то есть такую, в которой ставки не ограничены.
Азартная игра была запрещена уставом клуба, но, разумеется, существовали способы обойти эти ограничения, а иной раз Некрасов сочинял банчишко на несколько сот тысяч рублей у себя дома. По правилам игры упавшие на пол карты, а каждая талия игралась новой колодой – прежнюю смахивали со стола, и она, а также оброненные деньги, считалась собственностью прислуги. Однажды слуга Некрасова поднял с пола запечатанную пачку в тысячу рублей – свое жалование за четыре года. «На счастье», – сказал Некрасов, это были его деньги.
Как все игроки, Некрасов был болезненно суеверен. Однажды он отказал в трехстах рублях сотруднику журнала Пиотровскому, объяснив, что давать ему деньги накануне большой игры, значит, обречь себя на проигрыш. Пиотровский пригрозил самоубийством, но Некрасов стоял на своем, хотя сами по себе триста рублей для него ничего не значили. На другой день стало известно, что проситель застрелился; Некрасов был потрясен, он оплатил все долги Пиотровского, устроил ему достойные похороны и все твердил, что и представить себе не мог, чтобы из-за такой ничтожной малости человек пускал себе пулю в лоб.
Однажды некий начинающий беллетрист, скучая с Некрасовым вечер – поэт был серьезно болен и на время оставил игру – предложил перекинуться в банк.
Сначала, по мелочи, Некрасову везло, но когда ставка выроста до 1000 рублей, карта издателя «Современника» была убита.
Поэт был страшно удручен, он решил, что удача отвернулась от него, но, тщательно разглядев колоду, заметил, что карты были краплены длинным ногтем прозаика; Некрасов повеселел и вновь пустился в игру, строжайше запрещенную ему докторами.
Кроме карт Некрасов страстно любил женщин, Белинского и русский народ; и то, и другое, и третье – совершенно искренне. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть его сочинения.
Достоевский Федор Михайлович
(1821–1881)
Все, кто любил творчество Достоевского и с глубоким уважением относился к личности писателя, в 1978 году с нетерпением и неким трепетом ожидали выхода в свет 18 тома полного собрания сочинений Федора Михайловича.
Дело в том, что впервые широкая публика могла познакомиться со следственным делом Достоевского по процессу петрашевцев, членами кружка социалистов-фантазеров, легкомысленных читателей Фурье и Сен-Симона. Напуганное европейской революцией 1848 года правительство отнеслось к Петрашевскому со товарищи с непомерной жестокостью, «шумим братец, шумим» было высочайше соизволено наказать смертью. Среди приговоренных к расстрелу был и Достоевский. Он пережил незабываемое – эшафот, оглашение приговора, расстрельный столб, завязанные глаза, – все это изменило его жизнь, мировоззрение, творчество.
О Достоевском при жизни ходило много темных слухов; в его произведениях с опасной навязчивостью возникает болезненная и уголовная тема насилия над маленькой девочкой (Свидригайлов, Ставрогин); Федор Михайлович был страстным игроком и знатоком погибших, но милых созданий, отнюдь не похожих на Соню Мармеладову.
Все грехи были отпущены Федору Михайловичу его читателем за беспощадный, мучительный гений, но вдруг, о, ужас, недостойное поведение на следствии, минутная слабость страдающего эпилепсией человека, немыслимо самолюбивого, мнительного, молодого, только что феерической удачей открывшего свой литературный счет.
«Все прощает Бог, лишь иудин грех не прощается…»
Декабристы, как известно, давали следствию излишне откровенные признания, умолял о пощаде несчастный Полежаев, показывали друг на друга и петрашевцы.
Ну а уж в 1978 году стукачи цвели махровым цветом, приличные люди относились к ним с чувством гадливой брезгливости.
Никто, от сердца отлегло, никто не вел себя на следствии и суде так благородно, так прямодушно, так достойно, с таким щепетильным понятием о чести, как Достоевский.
Федор Михайлович давал показания только на себя, не юлил, не каялся, не просил пощады и ни слова не промолвил о своих товарищах в опасном и невыгодном для них смысле.
Получив в Тобольске из рук жен декабристов в подарок Евангелие, Достоевский на четыре года водворился в «Мертвом доме», чтобы выйти с каторги ясновидцем духа, гением мировой литературы.
Островский Александр Николаевич