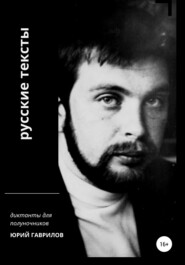скачать книгу бесплатно
Радищев Александр Николаевич
(1749–1802)
Радищев был управляющим Петербургской таможней; всем было известно, что он не берет взяток, над Радищевым смеялись в лицо – тут бы правительству и насторожиться, поведение Радищева было вызывающим и провокационным.
Ко времени написания «Путешествия из Петербурга в Москву» он находился под влиянием мартинистов, членов тайного, полурелигиозного – полу-политического общества, в учении которых странным образом сочеталось вольнодумство и мистика.
«Таинственность воспламенила его воображение. Он написал свое «Путешествие из Петербурга в Москву», сатирическое воззвание к возмущению, напечатал в домашней типографии и спокойно пустил в продажу».
Он был арестован, Екатерина II заклеймила его бунтовщиком хуже Пугачева; на полях книги, где Радищев призывает освободить крестьян, она начертала: «Никто не послушает!»
Радищева приговорили к смертной казни, отца четырех детей, оставшихся без матери. Так ли уж была опасна книга Александра Николаевича? Нет, разумеется, – крестьяне читать не умели, а помещики, «звери алчные, пиявицы ненасытные», оставлявшие крестьянину «один только воздух», Радищева действительно не послушали бы.
Какие-то опивки совести колыхнулись в Екатерине – Радищева затолкали в кибитку и выкинули в Сибирь, за 7000 верст.
Полиции было велено злонамеренную книгу отбирать и сжигать, такая же участь постигла и нераспроданную часть тиража; конечно же «Путешествие» тут же взлетело в цене, Пушкин свой экземпляр приобрел за 200 рублей; до наших дней дошло около сотни рукописных копий и два десятка книг.
Павел I вернул Радищева из ссылки, Александр I позвал его на службу и несчастный решил «осчастливить Россию». Начальник Александра Николаевича, граф Завадовский, участник суда над Радищевым, прочитавши какой-то прожект, с досадой сказал: «Никак не уймешься, опять за свое».
Ничего эти слова не значили, но нервы Радищева были расстроены, дома он объявил: «Вот, детушки, опять Сибирь», и отравился.
«<Мы> не можем в нем не признать преступника с духом не обыкновенным, политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью», – Пушкин.
Карамзин Николай Михайлович
(1766–1826)
«Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постели с жадностью и вниманием. Появление сей книги (как и быть надлежало) наделало много шума и произвело сильное впечатление… Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом», – из воспоминаний Пушкина о Карамзине.
Карамзин был не только знаменитый и официальный историограф российской империи, которому власть предавала значение: Александр I освободил Карамзина от цензуры, а Николай I, когда Николай Михайлович заболел, предоставил ему для путешествия во Францию и Италию фрегат, Карамзин был еще и популярнейший писатель своей эпохи, родоначальник направления в литературе, сентиментализма.
Карамзин признавал, что «любит те предметы, которые трогают сердце и заставляют проливать слезы тяжелой скорби». Именно начиная с «Бедной Лизы», русская литература приобрела характер «филантропический» (Иван Киреевский): определенно, ниточка тянется от «Бедной Лизы» к «Бедным людям», прошивает она и «Станционного смотрителя», и «Шинель», и «Муму».
Лиза утопилась в пруду не только из-за несчастной любви, но и из-за пристального внимания Карамзина к проблемам самоубийства.
В конце XVIII века самоубийства были модными среди дворянской молодежи, не бытовые, а философские. Право человека распоряжаться своей жизнью и вечный вопрос, что ждет его после смерти, русские сократы решали при помощи пистолета. В своей предсмертной записке молодой ярославский помещик Иван Опочинин писал определенно: «После смерти – нет ничего!.. Прошу покорно, братец, в церквах меня отнюдь не поминать!»
Самоубийцы считали свой выбор высшим проявлением свободы (ну как не вспомнить Достоевского с его Кирилловым), и Карамзин сочувственно относился к философским бредням отравившихся западным скептицизмом недорослей.
Но самоубийство Радищева потрясло Карамзина, его огорчали вошедшие в моду утопленники «Лизиного пруда», и он выступил с резкой отповедью «опасным философам».
Так вот можно дозволять или любить что-либо теоретически, но когда лично коснется…
Карамзин ввел в русский язык больше новых слов, чем все отечественные писатели вместе взятые. А еще он ввел в письменный оборот букву «Ё». Пустяк, казалось бы, но если сосулька на голову или молотком по пальцу, что восклицает русский человек? То-то же…
Крылов Иван Андреевич
(1769–1844)
В старое доброе докомпьютерное время кроме букваря и сказок была еще одна книга, которую не мог обойти ни один самый нерадивый русский ребенок – басни Крылова.
Пушкин стал народным поэтом благодаря работнику Балде и царю Салтану, компанию Пушкину составил дедушка Крылов – и все, других национальных поэтов у нас нет, ибо чтение стихов – такой же удел немногих избранных, как и их написание.
Когда Крылов умер, произошло дело неслыханное – высочайшим повелением ему был воздвигнут памятник (единственному из русских писателей за всю историю литературы!) в Летнем Саду, необыкновенно удачный: в окружении не то зверюшек, не то аллегорий, все постигший, погруженный в дрему дедушка, рассказавший нам, бесчисленным поколениям внуков, «книгу мудрости народной» – по словам Гоголя.
Большинство сюжетов крыловских басен восходит к тому, что придумал Эзоп; идеи Эзопа использовали и баснописцы античности, и реформатор церкви Мартин Лютер, и блестящий француз Жан де Лафонтен, и русские баснописцы – Сумароков, Дмитриев, Державин. Но только Крылов справился с невероятно трудной задачей – придать античному сюжету национальный характер, и дать басне такую мораль, которая врезалась бы намертво в противоречивое русское сознание.
Басня Эзопа «Ворона и лисица» заканчивается выводом: «Притча уместна против человека неразумного»; Лафонтен тот же сюжет завершает так: «Сударь, запомните: всякий льстец кормится от тех, кто его слушает…»; сверхназидательный Лессинг заменил сыр отравленным мясом – наказаны все; мораль Тредиаковского невнятна: «Всем ты добр, мой ворон, только ты без сердца»; Сумарокова – легковесна: «Сыр выпал из рота лисице на обед». А вот Дедушка просто и на века: «и в сердце льстец всегда отыщет уголок».
Любая ситуация описана Крыловым: российские политики – вечные герои «Квартета», власть и народ – «Волк и ягненок», экономика – «Тришкин кафтан», – нужно ли продолжать?
В «Застольных разговорах» Пушкин записал такой анекдот о Крылове: «над диваном, где он обыкновенно сиживал, висела большая картина в тяжелой раме. Кто-то ему дал заметить, что гвоздь, на котором она была повешена, непрочен, и что картина когда-нибудь может сорваться и убить его. «Нет, – отвечал Крылов, – угол рамы должен будет в таком случае непременно описать косвенную линию и миновать мою голову». Он все рассчитал, лукавый ленивец, мудрец, чревоугодник, царский библиотекарь, затворник Васильевского острова.
Жизнь, к счастью, обошла по косвенной линии его тяжелую, величавую, рано поседевшую голову.
Жуковский Василий Андреевич
(1783–1852)
Василий Андреевич Жуковский родился в семье богатого помещика Афанасия Ивановича Бунина, матерью была пленная турчанка Сальха. Мальчик получил фамилию своего крестного, бедного дворянина Андрея Жуковского, приживала в доме Буниных.
Незадолго до рождения Жуковского у Буниных умерли шестеро из одиннадцати детей, в их числе и единственный сын, студент Лейпцигского университета. Жена Бунина в память об умершем решила воспитать новорожденного как родного сына.
Кудрявый смуглый мальчик стал всеобщим любимцем, но, после того как в 1794 году его исключили из народного училища «за неспособность», было решено отдать его для продолжения обучения В. А. Юшковой, одной из замужних дочерей Бунина. Дом Юшковых был одним из культурных очагов Тулы: домашний театр, музыкальные вечера. Именно к этому времени относятся первые литературные опыты Жуковского.
Надо заметить, что в большой семье Буниных, Протасовых, Юшковых, Елагиных, в этом дворянском гнезде, будущий поэт – единственный мальчик; его окружает целый женский мир: старшие замужние сестры, тетушки, кузины, племянницы, что, безусловно, способствует развитию природной мягкости его характера и рождению романтических грез.
В 1797 году Жуковский (а Бунины тем временем выхлопотали ему дворянство) был определен в Благородный пансион при Московском университете.
В 1802 году, автором напечатанных стихов и переводов, Жуковский возвращается в родные края: Тула, Белёв, дом Екатерины Афанасьевны Протасовой, где подрастают племянницы, Маша и Саша, девушки весьма начитанные и воспитанные в романтическом духе. Маша сама пишет стихи, в нее-то и влюбляется Василий Андреевич, без памяти, на всю жизнь.
Екатерина Афанасьевна, женщина глубоко религиозная, скоро разгадав тайну брата, решает, во что бы то ни стало не допустить брака между близкими родственниками. Она берет с Жуковского клятву: Василий Андреевич должен отказаться от Маши и никогда не открывать ей своего сердца. Но в 1805 году поэт становится домашним учителем Маши и Саши Протасовых, и Маша отвечает на любовь Жуковского таким же сильным и глубоким чувством.
Какой мощный литературный фон у этой обоюдной страсти: «Тристан и Изольда» – образ трагического отказа от любви; «Новая Элоиза» – затверженный всеми трепетными сердцами Европы урок зарождения нежных чувств. Поэзия и жизнь переплетаются так тесно, что трудно провести меж ними грань, понять, что именно определяет дальнейший ход событий: печатное слово или живое чувство.
В 1812 году Жуковский все же осмелился просить руки Маши, но Екатерина Афанасьевна ответила решительным и окончательным отказом.
Жуковский поступает поручиком в московское ополчение, обретает широкую известность, создав «Певца в стане русских воинов», болеет тифом, выходит в отставку, а перед мысленным взором – Маша Протасова. И Василий Андреевич делает последнюю попытку соединить свою жизнь с жизнью Маши. Тщетно.
«Трагическое чувство мучительно пройдет через жизнь поэта; оно составит содержание стихов Жуковского, стихов Маши, их страстной переписки», писал Ю. М. Лотман.
Саша Протасова выходит замуж за профессора Дерптского университета А. Ф. Воейкова, и семья перебирается в тихий немецко-эстонский городок. Там по настоянию матери Маша принимает предложение университетского профессора, медика и музыканта, И. Ф. Мойера, друга Жуковского.
Мойер знает о любви Маши к Василию Андреевичу, он щадит ее чувства, он любит Машу сильно и нежно. Жуковский не герой, он не способен бороться за любовь, он благословляет союз Маши и Мойера, он своими руками передает возлюбленную (Тристан и Изольда) своему верному другу.
Три сердца изнемогают, исходя благородством, любовью и мукой. Все трое любят, все трое все знают, все трое готовы на жертвы – все трое страдают. Это романтизм. В жизни? В искусстве? Поди разбери…
Но писать Жуковский стал лучше.
Вот такая амальгама из прозы жизни и поэзии поэзии, из страсти и крови, чести и дружбы.
Жуковский поселяется на время в Дерпте. Он еще больше сближается с Мойером, рекомендует его Пушкину для операции аневризмы; он может видеть Машу ежедневно, их отношения неизменно чистые, платонические, их неугасающая страсть трагична.
В 1823 году Маша умирает во время вторых родов. Кто-то до недавнего времени ухаживал за ее могилой; ее памятником стало одно из лучших стихотворений Жуковского – «Ты удалилась, как тихий ангел».
Жуковский станет знаменитым поэтом, он сделает блестящую придворную карьеру, он будет воспитателем цесаревича Александра, он, наконец, женится в возрасте 58 лет на 18-летней девице, но забыть Машу Протасову ему было не суждено.
Батюшков Константин Николаевич
(1787–1855)
«Философ резвый и пиит… Певец забавы» – так обращался Пушкин в своих посланиях к старшему товарищу по «Арзамасу». «Что до Батюшкова, то уважим в нем несчастия и не созревшие надежды», – скажет зрелый Пушкин.
Батюшков оставил не слишком значительное литературное наследство, анакреонтическая поэзия – излюбленный жанр Константина Николаевича – умерла в России вместе с автором «Умирающего Тасса»; сегодня только редкий ценитель изящной словесности откроет том «Опытов в стихах и прозе». А жаль!
Рок судил так, что жизнь Батюшкова раскололась на две равные доли. Первая половина жизни Константина Николаевича, небогатого и незнатного дворянина, обычна – статская и военная служба, участие в заграничных походах русской армии против Наполеона, тяжелые ранения, гибель друзей. И в то же время – дружба с Гнедичем, Вяземским, Жуковским; «Арзамас», поэзия пиров, забав и любви на древнегреческий лад; путешествия по Европе.
Уже после пансиона, из которого Батюшков вынес немного знаний, но французский, немецкий и итальянский языки изучил очень хорошо, поэт в совершенстве овладел латынью и перечитал римских и итальянских классиков, в числе любимых на всю жизнь остались эпикуреец Гораций и нежный Тибулл. Жить Италией, дышать Италией невозможно без Ариосто и Тассо, Данте и Петрарки.
Батюшков знал, что ему не избежать родового проклятия, недаром он начал оплакивать «Умирающего Тасса» – знаменитый итальянец скончался во тьме безумия; трудно перечислить всех родственников Батюшкова, помрачившихся умом.
В 1821 году свеча поэтического таланта Батюшкова выстрелила яркой и загадочной искрой – семь безнадежно горьких, мощных строк о тщете человеческого существования, так непохожие на то, что он писал прежде.
Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнью, седой Мелхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.
Тридцать три года, вторую половину жизни, поэт прожил вне времени и пространства. Начавшись с бешенства, болезнь обрела спокойное течение. Нежная и заботливая опека родственников, прогулки, рисование, собирание гербариев. Память не изменила Константину Николаевичу: он наизусть читал Тассо, русских авторов. Но не написал не строчки.
Бывают странные сближения – Батюшков и Цветаева:
«Я берег покидал туманный Альбиона…»
Божественная высь! Божественная грусть!
Бывают и не странные сближения: Батюшков и Мандельштам. Мандельштам вложит в навеки сведенные уста Батюшкова прекраснейшую строку: «только стихов виноградное мясо мне освежило случайно язык…»
Не умом, но сердцем прожил Батюшков вторую половину жизни, но он сам и напророчил:
О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальней
Чаадаев Петр Яковлевич
(1794–1856)
«Второй Чадаев, наш Евгений…»
Первого Чаадаева – гусара, известного не только исключительной тщательностью и щепетильностью туалета, но и самой безукоризненной храбростью на поле боя, вызвал к себе для доверительной беседы царь Александр и в завершение сказал: «Теперь мы будем служить вместе».
Чаадаев немедленно подал в отставку и уехал в Европу.
И «…близь Бретмона появился иностранец, соединявший в своей осанке торжественность епископа с корректностью светской куклы» (Осип Мандельштам).
«Всего чужого гордый раб…» (Николай Языков).
А меж тем в России на скипетре Николая I написали: «самодержавие, православие, народность», а на державе – «прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение» – автором чеканной формулы был шеф жандармов Бенкендорф.
И вот в журнале «Телескоп» «офицер гусарский» опубликовал «Философическое письмо» и вытер ноги о «самодержавие, православие» и, заодно уж, о «народность».
«Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. «Это был выстрел в темную ночь…», – Герцен был потрясен.
Чаадаев утверждал, что Россия не принадлежит «ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций», мы стоим «как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода». Пушкин написал Чаадаеву, другу и наставнику, взволнованно-растерянное письмо и не отправил его.
Правительство было ошарашено. Наглость проступка превышала ссылку и каторгу, как казнить? И Чаадаев был «высочайшим повелением объявлен сумасшедшим». Кроме «Письма» были тому и другие основания: Пушкин, например, жаловался, что Чаадаев хотел вдолбить ему в голову «всего Локка», или вот – острота: Хомяков одевается так национально, что народ на улице принимает его за персиянина – экая тонкая сумасшедшинка!
Вызванный на дуэль из-за пустяка, Чаадаев отказал: «Если в течение трех лет войны я не смог создать себе репутацию порядочного человека, то, очевидно, дуэль не даст ее».
Он предсказал: «Мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком…»; «истина – выше родины», – утверждал Чаадаев; «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами», – признавался он.
И впрямь – сумасшедший.
Грибоедов Александр Сергеевич
(1795–1829)
В «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу, произведенному высочайше учрежденною 17-го декабря 1825-го года Следственною Комиссией, составлен 1827-го года» (Алфавит Декабристов) о нем сказано: «Коллежский асессор, служащий при генерале Ермолове. Требовался к ответу по показанию Оболенского и Трубецкого, назвавших его, со слов Рылеева, членом общества. Но по изысканию Комиссии открылось: 1) что за несколько дней до отъезда его из Петербурга он был принят в «Общество соревнователей просвещения и благотворения»; 2) что Рылеев, несколько раз заводя с ним разговоры о положении в России, делал намеки об обществе, но видя, что <Грибоедов> полагал Россию неготовую к конституционной монархии и неохотно входил в суждения о сем предмете, то и оставил его; 3) Александр Бестужев … об обществе не говорил ему и не принимал его в члены, жалея такой талант, в чем и Рылеев был согласен; 4) во время бытности Грибоедова в 1825 году в Киеве тамошние члены пробовали его, но он не поддался… Впрочем, как по собственному его показанию, так и по отзывам главных членов, он к обществу не принадлежал и о существовании оного не знал. Содержался сперва на Главной гауптвахте, а потом в Главном штабе.
…Высочайше повелеваю освободить с <оправдательным> аттестатом, выдать не в зачет годовое жалование и произвесть в следующий чин».
Так что из своих бумаг Грибоедов жег целых два часа, любезно предоставленных ему Ермоловым при аресте в Грозной? Что за тайное общество упомянуто в «Горе от ума»?
14 марта 1828 коллежский советник Грибоедов привез в столицу долгожданный мир с Персией, был обласкан: орден Святые Анны второй степени с алмазными знаками и четыре тысячи золотых червонцев.
А еще он привез проект Русско-Кавказской компании, который представил коммерции советнику Родофиникину и министру иностранных дел Нессельроде.
Согласно прожекту компания получала от государя важные привилегии, дело сулило неслыханные барыши. Директором всего гигантского предприятия, с правом дипломатических сношений с соседними державами, строительства крепостей, с правом объявлять войну и заключать мир, передвигать войска, Грибоедов предлагал себя. Не сразу разобрались, что официальным путем, на законном основании коллежский советник истребовал себе власть вице-короля.
Решили: раз такой умный, пусть выбивает из персов контрибуцию – куруры.
В Тегеране у Грибоедова хватало врагов, и англичане бунтовали темный народ, объясняя, что в нищете его повинен русский министр-резидент, выжимающий из Персии последние соки.
«Два вола запряженные в арбу, поднимались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» – спросил я их. «Из Тегерана». – «Что вы везете?» – «Грибоеда». Пушкин. «Путешествие в Арзурум».
В качестве извинения Николай I получил знаменитый бриллиант – «Надир Шах», и дело было исчерпано.