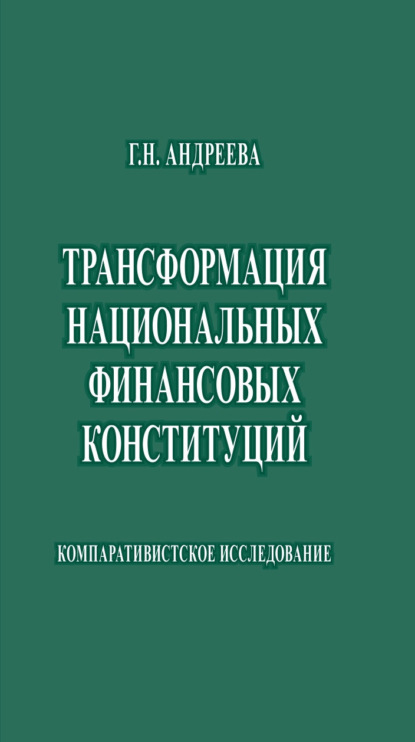
Полная версия:
Трансформация национальных финансовых конституций. Компаративистское исследование
Во-вторых, следует отметить, что трансформация финансовой конституции, которая произошла в большом числе стран, необязательно носит всеобщий характер. Так, придание центральным банкам конституционного статуса в сочетании с принципом его независимости в целях обеспечения финансовой стабильности, активно продвигаемое группой финансистов, было воспринято и получило конституционное отражение не во всех странах, поскольку аналогичного эффекта можно добиться активизируя и другие институты финансовой конституции и перестраивая их взаимодействие, а кроме того, необходим общественный консенсус в отношении роли центрального банка, который далеко не везде и не всегда достижим, подтверждением чему служит отсутствие такового в США и история противодействия Первому банку США и Второму банку США[42]. Кроме того, и в тех странах, где принцип автономии центрального банка получил отражение в конституции, его содержание, значение в рамках национальной финансовой конституции и способы реализации в каждой стране обладают ярко выраженными особенностями, и характер взаимодействия центрального банка с другими институтами отражает собственную национальную модель финансовой конституции.
В-третьих, трансформацию финансовой конституции можно рассматривать в целом как всей совокупности соответствующих институтов[43], так и через призму изменений наиболее значимых институтов финансовой конституции: бюджета, государственного долга, денежной эмиссии и др. Полная системная трансформация финансовой конституции может произойти при радикальной конституционной реформе, особенно при революционной смене самой конституционной модели. В силу свойственного отношениям, связанным с регулированием публичных финансов и денежной системы, консерватизма такая радикальная системная трансформация представляет редкое явление. Обычно имеет место частичная трансформация, т. е. конституционные изменения, затрагивающие с формальной стороны лишь один или несколько отдельных институтов финансовой конституции.
Однако особенность финансовой конституции такова, что появление хотя бы одного нового конституционного положения в большей или меньшей степени меняет финансовую конституцию в целом. Внедрение новых институтов, нацеленных на решение общенациональных задач вроде обеспечения финансовой стабильности или преодоления гиперинфляции, влечет серьезные изменения в финансовой конституции в целом. На это обращают внимание, например, исследователи финансовой конституции Испании, в которую в результате конституционной реформы была включена новая редакция ст. 135, установившая приоритет выплаты государственного долга и правила бюджетного равновесия[44]. Однако изменения затронули и другие институты национальной финансовой конституции, о которых в новой редакции статьи прямо не упоминалось, а именно: внесены изменения в понятие бюджета; увеличились риски для сохранения достижений социального государства; уменьшилась роль Счетной палаты Испании как контрольного органа аудита государственных счетов и, наконец, произошло значительное ограничение финансовых полномочий автономных сообществ[45]. Помимо этого, внесенные в конституцию изменения повлекли реформирование государственного управления Испании, проведенное через Комиссию по реформе государственного управления (CORA), которое включало в общей сложности 217 мер, из которых 139 касались государства и автономных сообществ, а 78 – Главного государственного управления[46].
Комплексный характер воздействия на финансовую конституцию изменения даже только одной статьи национальной конституции позволяет исследовать публичные финансы в различных аспектах, включая изучение трансформации отдельных наиболее значимых институтов. Отдельный анализ изменения последних позволяет углубить и детализировать представления о существенных моментах трансформации национальной финансовой конституции в целом.
В-четвертых, серьезные трансформации финансовой конституции в случае необходимости требуют конституционных реформ или конституционных изменений (в некоторых странах здесь проводится различие между этими двумя процедурами, как, например, в Конституции Испании). Конституционные реформы, в свою очередь, возможны только в определенных пределах, которые предопределяются жесткостью или гибкостью конституции, а также наличием в ней запретов на изменение определенных положений. Большинство современных конституций – жесткие, поскольку универсальное понятие рационально-нормативной конституции основывается на различии между учредительной и учрежденной властью и формальном различии между конституцией и законом. Верховенство конституции обеспечивается положениями о порядке ее изменения и положениями о конституционном контроле. Наличие конституционной демократии предполагает, что между конституцией и законом имеется не только формальное, но и материальное различие. В этом смысле жесткая процедура изменения конституции – только инструмент, форма, служащая конституционной демократии, состоящей в том, что ценности, принципы и правила должны быть определены волей большинства. Это обычная практика современных государств, гарантирующая сохранение демократии[47]. Соответственно, изменение финансовой конституции в части формальных правовых норм должно происходить в предписанных конституцией процедурах (квалифицированное большинство в парламенте, референдум и т. д.), однако именно применительно к финансовой конституции конституционным законодателем оставлены широкие пределы для возможности ее трансформации не путем внесения поправок в конституцию, а с помощью принятия обычного законодательства. Именно поэтому, например, в ЕС только один раз принималось решение о необходимости изменений на конституционном уровне (в случае «золотого правила» бюджетной стабильности), в остальных случаях, даже при придании автономного статуса центральным банкам и объединении их в системе ЕС, положения ряда национальных конституций остались неизменными.
1.3. Факторы трансформации национальных финансовых конституций
Положения национальной финансовой конституции имеют разную степень изменчивости. В них можно выделить некое стабильное «ядро», которое на протяжении всего существования конституционного строя остается относительно стабильным и до настоящего времени почти неизменным, варьируясь в деталях, нередко достаточно важных, но тем не менее не отменяющих факта самого существования данного института финансовой конституции. Так, принятие финансовых законов парламентом, утверждением им бюджета и отчета о его исполнении, гарантии государственного долга, закрепление за государством функции денежной эмиссии являются своего рода константами конституционного регулирования публичных финансов. Форма выражения и реализации конституционных положений, относящихся к этому «ядру» финансовой конституции, со временем менялась, обрастая новыми деталями и фиксируя новые, наиболее значимые для политической элиты данного государства аспекты.
Другая часть финансовой конституции является более подвижной, особенно это относится к положениям о статусе и структуре государственных органов, которые обеспечивают управление публичными финансами, о конкретных полномочиях исполнительной власти, о круге субъектов принятия решений о государственных займах и ссудах, о видах выпускаемых денег и отношении государства к обращению на его территории иностранной валюты, о стимулировании иностранных инвестиций и некоторым другим. Эти положения являются наиболее подверженными воздействию различных факторов, которые ведут к их изменению. Следует отметить, что воздействие какого-либо фактора хотя бы на один из институтов национальной финансовой конституции означает изменение ее общей конфигурации, поскольку институты финансовой конституции тесно связаны друг с другом. Другое дело, что изменение целого ряда институтов, как это бывает, например, при изменении формы правления, говорит о существенной трансформации, а изменение одного института может повлечь трансформацию, которая в момент реформы представляется не слишком значительной, но в перспективе может перерасти в более глубокие изменения. Так, повышение статуса счетных судов до конституционного уровня стало началом усиления их позиции в системе государственных органов, обеспечивающих деятельность в сфере публичных финансов, передачу им целого ряда дополнительных функций и увеличение их аппарата, что позволило им эффективнее участвовать в обеспечении информирования законодательного органа и исполнительной власти о состоянии публичных финансов государства и происходящих в них процессах.
Факторы, воздействующие на национальную финансовую конституцию, целесообразно разделить на две группы: на внутренние и внешние факторы.
Внутренние факторы, оказывающие серьезное воздействие на национальную финансовую конституцию, разнообразны. Одни из них способны повлечь серьезную глубинную и сущностную трансформацию национальной финансовой конституции, другие воздействуют на нее менее основательно, вызывая частичные изменения, не меняющие ее сути.
В числе влекущих серьезные изменения финансовой конституции факторов следует выделить изменение формы правления. Переход от монархии к республике, как показывает исторический опыт различных государств, приводит к глубоким изменениям в национальной финансовой конституции: в ней исчезают монархические элементы и возникают новые республиканские демократические институты. Отказ от таких институтов финансовой конституции, как имущество Короны, цивильный лист, полномочия исполнительной власти, опирающиеся на монаршую прерогативу, означали освобождение публичных финансов от ряда феодальных по происхождению обременений, а для самой финансовой конституции – от организационных форм предшествующего периода. Провозглашение принципа народовластия в качестве определяющей характеристики государственного строя приводит к усилению роли парламента во всех сферах, появлению новых форм парламентского контроля за финансами и новых органов, подотчетных парламенту, а также изменению прежних органов (например, счетно- контрольных). Принцип народовластия способствует использованию различных форм прямой демократии в решении финансовых вопросов как минимум на муниципальном уровне, а в Швейцарии и на региональном и общенациональном. Причем в данной стране опыт прямой демократии сформировался давно, и бюджетные вопросы стали одним из важнейших предметов народного законодательства[48]. Опыт Швейцарии в этом плане является уникальным, но он свидетельствует о возможностях республиканизма трансформировать национальную финансовую конституцию.
Реставрация монархии влечет возвращение если не всех, то многих монархических институтов. Она также способствует некоторой модернизации этих институтов, поскольку республиканский строй является вызовом для монархии, который стимулирует ее к демонстрации своих преимуществ уже в рамках правительственного конституционализма, стремящегося учесть полученный в результате революций опыт и приспособиться к новым условиям. Помимо этого, в реставрированных монархиях получила отражение потребность правящей элиты и монарха в создании повышенных гарантий для главы государства и использовании в этих целях конституций. Такую тенденцию продемонстрировала, например, реставрация монархий в Европе в постнаполеоновский период.
Изменение политического режима также серьезно влияет на национальную финансовую конституцию, причем одни и те же изменения политического режима в одних странах приводят к укреплению публичных финансов и превращают конституционные положения в реальность, в других – ведут к негативным последствиям. Так, усиление авторитарных начал и тенденция к централизации может привести к созданию более адекватной и работающей финансовой конституции и уменьшению или даже исчезновению нежелательных негативных явлений в сфере публичных финансов, особенно коррупции или гиперинфляции, как это произошло, например, в Чили[49]. Однако для этого нужна целая совокупность условий, в том числе помощь высококвалифицированных экономистов и юристов, и готовность авторитарного режима пойти на изменения. В отсутствие этих и ряда других условий, как показывает опыт авторитарных режимов ряда африканских стран, в силу усиления при этом коррупции и отсутствия транспарентности финансов в ситуации сокращения демократических начал, позитивной трансформации национальной финансовой конституции не происходит, а, наоборот, возможны самые негативные варианты развития событий. Демократизация политического режима тоже выступает фактором изменения национальной финансовой конституции, поскольку при этом расширяются полномочия парламента и сферы парламентского контроля. Это позволяет на демократических началах, т. е. не игнорируя, а учитывая мнение населения, решать вопросы о бюджете и государственных займах. Однако для того, чтобы это происходило, также необходим целый ряд условий – от наличия традиций политического участия до соответствующей правовой культуры. Опыт постсоциалистических стран в условиях распада социалистической системы показал, что для создания работающих национальных финансовых конституций нужно определенное время, и демократизация сама по себе, без других необходимых для ее полноценного проявления условий влечет трансформацию финансовой конституции, но не является гарантией ее адекватной и позитивной реализации.
Изменение территориального устройства государства также служит фактором трансформации национальной финансовой конституции, поскольку влечет перестройку системы органов государства, новое разграничение компетенции и предметов ведения между уровнями власти, изменение распределения ресурсов. Так, переход от унитаризма к федеративному устройству приводит к разграничению компетенции и предметов ведения между федерацией и ее субъектами, изменению финансовых потоков в государстве, причем в случае использования финансового выравнивания такие потоки движутся уже не только по вертикали, но и по горизонтали, а также появление новых источников финансирования для субъектов федерации как в виде установления новых налогов, так и субсидий со стороны федерации. Вместе с тем на уровне федерации должна быть создана новая система государственных органов, обеспечивающих не только реализацию предметов ведения федерации в сфере финансов на уровне федерации, но и единый порядок выполнения на всей территории, в том числе органами субъектов федерации, требований, предъявляемых к ним в федеративной конституции. При этом происходит и изменение масштабов и сложности системы публичных финансов. Такая трансформация финансовой конституции требует выстраивания организационно-финансовых отношений между федерацией и субъектами, т. е. такое изменение территориального устройства выступает фактором серьезной перестройки финансовой конституции, поскольку кумулятивный эффект изменений велик и создает по сути новую финансовую конституцию.
Концепция социального государства повлекла в странах с рыночной экономикой создание обширного сектора государственных услуг, обеспечивающих реализацию социальных прав, что стало фактором для перестройки финансовой конституции, поскольку теперь ее положения трактовались в контексте положений национальной конституции о социальных правах. Действенность этой части финансовой конституции прямо зависит от возможностей государства использовать публичные финансы в этой сфере. Сокращение возможностей государства по финансированию социальных услуг или их отсутствие превращают эту часть финансовой конституции в частично или полностью неработающую, фиктивную. Любая политика государства, направленная на экономию средств на социальную сферу, по сути становится в таком контексте фактором трансформации национальной финансовой конституции.
К числу внутренних факторов изменения финансовой конституции следует отнести и административные реформы. Комплексная перестройка системы органов управления неизбежно ведет к изменению и управления публичными финансами. Исчезновение старых и появление новых звеньев государственного аппарата способно как усилить транспарентность и эффективность системы публичных финансов, соответственно, и национальной финансовой конституции, так и существенно снизить их действенность за счет повышенной бюрократизации процедур и усложнения доступа к финансовой информации. Последнее расширяет поле для коррупции и создает условия для нецелевого использования публичных финансов. Соответственно, все это в совокупности приводит к деформации национальной финансовой конституции, положения которой приобретают иной смысл, чем это предполагалось в момент принятия национальной конституции.
Существует и такой фактор трансформации конституции, как политика государства по реализации конституционных положений о публичных финансах. Современное конституционное регулирование публичных финансов многообразно и многопланово, охватывает различные аспекты и требования по управлению ими. Очевидный перевес в сторону одних аспектов в ущерб другим влечет диспропорции в реализации положений финансовой конституции. Соответственно реальная финансовая конституция в этом случае будет существенно отличаться от ее нормативной формы. Между тем современным правительствам в условиях нестабильности финансов часто приходится выбирать между двумя (или более) приоритетными направлениями финансовой политики, а не искать баланс, соответствующий конституционной модели.
Уравновешивающим и стабилизирующим фактором в этом случае могут оказаться решения органов конституционного контроля. С другой стороны, деятельность органов конституционного контроля по интерпретации конституционных норм как взаимосвязанной совокупности норм и толкование отдельных положений финансовой конституции в контексте общих конституционных принципов позволяет «достраивать» даже лаконичную, не вполне завершенную, нормативную составляющую финансовой конституции, придавая ей целостность и внутреннюю логику. Это повышает как уровень защищенности публичных финансов от различного рода злоупотреблений, так и права граждан. В этом случае решения органов конституционного контроля выступают в качестве фактора трансформации финансовой конституции.
Важным фактором трансформации финансовой конституции является состояние экономики государства и конституционно закрепленная роль государства по отношению к экономике. Реализация на практике концепции государства-«ночного сторожа» требовала в целом нейтралитета государства по отношению к частному сектору. Разумеется, устанавливая налоги, сборы и пошлины, государство все равно, даже в рамках обозначенной концепции, оказывало воздействие на экономику государства и его хозяйственную жизнь. При этом прямое вмешательство было скорее исключением, чем правилом, и происходило в случае «провалов рынка» или недостаточности средств частного сектора для необходимых государству широкомасштабных проектов, но и в последнем случае либеральные государства стремились найти другие формы поддержки и прямо не вмешиваться. Характерный пример в этом смысле представляет собой опыт зарубежных стран по строительству железных дорог. Хотя государство очевидным образом было заинтересовано в развитии транспортной сети, от которой зависел промышленный прогресс и экономическое лидерство государства, на первый взгляд, крупные государственные вложения (поскольку именно государство аккумулировало значительные финансовые ресурсы) должны были бы ускорить строительство железных дорог, но одни государства активно участвовали в железнодорожном строительстве, а другие четко придерживались принципов либерального рыночного регулирования и нейтралитета государства. Наиболее строго ему следовали в Великобритании, где железнодорожная сеть развивалась на основе только частного предпринимательства: «В Великобритании любой желающий мог по своему усмотрению спроектировать и финансировать постройку железной дороги»[50]. Определяющим аргументом в отказе государства от участия в строительстве железных дорог была либеральная традиция «достигать политического и экономического порядка путем максимизации свободы личности»[51]. В Бельгии, наоборот, государство не только не отказывало в помощи частному сектору в реализации крупномасштабных национальных проектов, которые частный сектор в силу ограниченности ресурсов не мог осуществить, но рассматривало их как государственную задачу и финансировало, что, впрочем, закончилось провалом эксперимента[52].
Государство-предприниматель как концепция, сменившая идею государства-«ночного сторожа», привело к созданию обширного государственного сектора экономики, это потребовало расширения сферы государственного управления публичными финансами, поиска баланса в регулировании публичных и частных финансов, вызвало рост норм о финансах и распространение законодательно-технического приема о выделении положений о финансовой конституции в отдельную главу, что являлось косвенным свидетельством ее трансформации. Поскольку достаточно быстро (с исторической точки зрения) выяснилось, что государственный сектор экономики менее эффективен, чем частный, наступил период приватизации, ставший новым фактором изменения финансовой конституции, позволившим вернуть часть государственных средств в бюджет.
Сильная, развитая национальная экономика со здоровой финансовой системой делает публичные финансы более стабильными, соответственно его финансовая конституция не нуждается в большом числе ограничителей. В этом случае собственно конституционное регулирование направлено на поиск оптимальной формы и содержания для более эффективной реализации ее положений.
Слабая, подверженная кризисам национальная экономика, нуждающаяся в частом изменении направлений использования публичных финансов для ликвидации «провалов» рынка, нередко требует трансформации национальной финансовой конституции в целом для ситуации в экономике, например в виде введения норм об антиинфляционном регулировании. Вот здесь возможно и обратное, упорядочивающее и стабилизирующее воздействие финансовой конституции, «сконструированной» должным образом на экономику и национальные финансы.
В современных условиях возрастает роль внешних факторов трансформации финансовой конституции. К их числу следует отнести прежде всего фактор глобализации, который, с одной стороны, позволяет странам легче обмениваться опытом и стимулирует использование наиболее удачных или подходящих для данной страны образцов, в большей мере соответствующих вызовам времени. С другой стороны, такое заимствование способствует усилению унификации национальных финансовых конституций. Глобализация, под которой понимается «усиливающаяся интеграция экономик и обществ во всем мире»[53], является одним из существенных факторов, который оказывает значительное и растущее влияние на национальные финансовые конституции. Интеграция экономик и финансовых ресурсов делает финансы более неустойчивыми и подвижными в условиях отсутствия золотого стандарта и привязки валют к доллару[54]. События, происходящие в одном государстве, могут затрагивать не только его соседей, но и другие, даже удаленные государства, а в случае финансовых кризисов и весь мир. Глобальная мировая финансовая система усилила взаимозависимость стран мира. Наиболее тесные связи и взаимозависимость существуют между государствами – держателями долларовых ресурсов. В силу этого взаимоотношения между ними в наибольшей степени оказывают влияние на мировую финансовую систему. Соответственно, например, как только одно или несколько государств – держателей крупных долларовых запасов начнет от них избавляться, в движение придет вся мировая финансовая система. В силу этого национальные финансы становятся более уязвимыми для внешнего воздействия, а экономические и финансовые кризисы, начинаясь в одной стране, охватывают весь мир, сказываясь негативно на экономике и публичных финансах.
Глобальный экономический и финансовый кризис, разразившийся в начале ХХI в., обнажил основные проблемы современной национальной финансовой конституции. Процессы глобализации сделали мир в целом более уязвимым для различного рода катаклизмов в экономической и финансовой областях. Происходящие циклически экономические кризисы приобрели новый характер в условиях формирования единого рынка. Глубина и масштабы кризиса заставили политиков и специалистов по конституционному праву заново оценить существующие национальные и международные институты, их взаимодействие с точки зрения того, насколько они способны выполнять роль стабилизаторов в кризисных ситуациях глобального масштаба.
Отношение к наднациональным и национальным институтам в плане их именно такого использования менялось в течение XIX–XX вв. Изначально в период принятия первых конституций оптимальным считался нейтралитет государства по отношению к экономике. Предполагалось, что рынок в условиях нейтралитета государства сам справляется с внутренними проблемами. Феодальное государство со свойственной ему мелочной регламентацией и вмешательством в экономическую деятельность частных лиц по этой концепции рассматривалось как основная помеха для нормального функционирования экономики. На самом деле это, конечно, не означало полной отстраненности государства: концепция «государства-ночного сторожа» предполагала изначально в том числе активные действия государства по отношению к нарушителям порядка. Кроме того, в определенных случаях государство эпизодически восполняло с помощью аккумулированных в казне ресурсов недостаточность частных средств. Но если в XIX в. это были разовые акции со стороны государства, то в течение ХХ в. их число возрастает, все более превращаясь в постоянную черту его деятельности.



