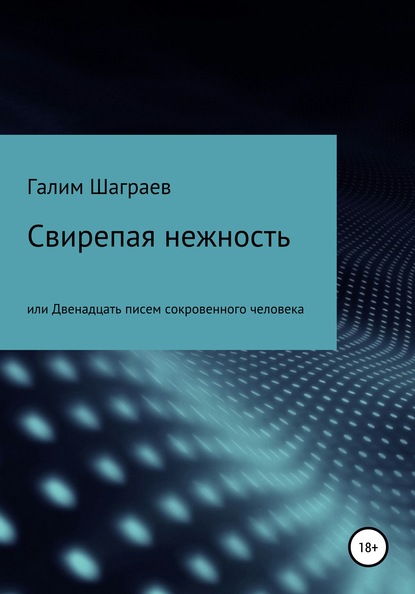 Полная версия
Полная версияСвирепая нежность, или Двенадцать писем сокровенного человека
Драма тех лет перечеркнула основы моего целеполагания.
Я был государевым слугой: я и жил, и служил.
Теперь – только живу.
Но, как ни странно, не нахожу в том особой радости.
И переживаю: передача громадной общественной собственности в пользование немногих лишила многих собственной – личной – причастности к целям, делам и заботам всего государства и абсолютное большинство людей утратило не что-нибудь, а мистику – то есть сверхчувственное единение всех с государством и сверхчувственное единение государства со всеми своими членами.
Вот в чем причина отсутствия радости.
Вот что стало очевидным с противоположной стороны настоящего.
Вот в чем основа вязкой, тягучей, плотной и постоянной усталости.
Письмо шестое
СИЛА СИЛЬНЫХ
…Вязкая, тягучая, плотная, постоянная усталость.
От ее гнетущего, затяжного синдрома не спасало ничто.
Ничто, кроме памяти.
Память…
Вещь в себе.
От всего можно откреститься, но только не от памяти.
Оперируя познанным, память проводит параллели, и проводит их помимо твоей воли.
…Мы стояли на Чермале.
Чермал – один из бессчетного числа притоков и рукавов Амура.
Амур – вторая после Волги великая река, с которой я хорошо знаком.
Чермал – небольшая горная речка с быстрым течением, но, в отличие от Амура, с его огромным водостоком и тяжелой, черной водой, на Чермале, как и на моей протоке, вода чистая и прозрачная, только холодная.
Середина сентября.
Мы проснулись от грохота.
Грохот рушил небо и землю: он перемешивал их.
И, нарастающий, шел по Чермалу снизу вверх.
Шел, надвигаясь сплошной стеной.
Был тягучим, долгим.
Тот грохот пробудил во мне первородный, почти животный, но забытый, страх.
Потом все прояснилось: вверх по притокам и рукавам Амура шла горбуша.
Шла из океана.
Шла, чтобы дать жизнь новому потомству.
От мириадов белых бурунов темная ночная вода стала непрерывной светлой линией.
Я впервые увидел такое яростное проявление сути составных объективной реальности.
Вниз текла вода.
Вверх – против течения – живая плоть.
Понтонный мост, сооруженный нами для переправы сельхозтехники, ходил ходуном.
Я видел, как идет на нерест рыба в дельте Волги.
Видел, как светлеет нутро воды от блеска чешуи великого множества рыбы, но такого яростного потока бессчетной массы живой плоти не видел, и впервые ощутил океанскую мощь созидательной энергии живой природы.
…Нечто подобное я увидел позже на главных улицах и площадях Москвы.
То была амёбообразно-студенистая, многолюдно-черная, безликая толпа.
Ее – толпу – кто-то хорошо организовал.
Организовав, двинул на сокрушение институтов существующей тогда власти.
Именно амёбообразная студенистость безликости толпы разбудила тот самый, первородный, но, видимо, хорошо забытый – почти животный – страх и на протяжении длительного времени тягучая, обволакивающая сознание липкая студенистость толпы 90-х вползала в мои предутренние сны, фокусируя взгляд на заурядной типичности глашатаев новых горизонтов, которые привнесли в мою жизнь ощущения не только внутреннего, но и внешнего неуюта.
Те, кто с помощью толпы пришел во власть, отменили очень важный рефлексивный акт-символ; те, кто пришел во власть, отменили долгий, протяжный, отдающийся во времени и пространстве, многоголосый, троекратный, волнообразный перекат «ура…» на Красной площади.
Отменив акт-символ, они лишили многих энергии страны-победительницы.
…Два раза в год та, отнятая у меня, – великая страна – показывала себя миру.
Она показывала всего ничего: красоту и выучку парадного строя своего воинства.
Но тем самым великая страна говорила: со мной считаются и будут считаться.
Но тем самым великая страна утверждала: сфера моего влияния уходит далеко.
Выходит за пределы державного города и огромной страны.
Соприкасается с миром.
И Красная площадь становилась местом, видным со всех сторон, и долго хранила протяжный, отдающийся во времени и пространстве, многоголосый, троекратный, волнообразный перекат: «У – у – р – р – р – а – а – а – а – а!..»
Моя новая страна перестала показывать себя миру.
Перестав показывать себя миру, моя новая страна стала безмолвно-инертной.
И я понял: исход естества красоты порождает апатию.
…Неподалеку от вестибюлей многих станций метро долгое время стояли шеренги людей.
Они поражали безмолвностью.
За людей говорили таблички на груди.
На картонных или бумажных квадратиках или прямоугольниках надписи:
«Жестяные работы».
«Плиточные работы».
«Сантехника».
«Электрика».
«Циклевка полов»…
И если в свое время у меня в степи перед глазами возникал монах с гравюры учебника истории средних веков, то теперь представал рисунок продажи рабов из учебника истории древнего мира: у несчастных, чья жизнь мало чего стоила, тоже были таблички на груди, но если средневековый монах, дойдя до края земли, пробивал головой небесную полусферу и тем самым выходил за пределы познаваемого, то люди у вестибюлей метро говорили о возврате к пройденному, – возврате, сходном с одним из самых мрачных периодов в истории страны и мира.
Но та, отнятая у меня, великая страна не умирала.
Запас ее прочности оказался рассчитан надолго.
Ее – великой страны – уже не было, но она, как ни странно, продолжала жить.
И – даже действовать.
Граждане России пользовались общегражданскими и заграничными паспортами разрушенного государства, более того, свыше десяти лет паспорта несуществующей страны выдавали десяткам тысяч молодых людей, достигших совершеннолетия; да, введены и действуют паспорта нового образца, но десятки миллионов выданных той, – разрушенной страной, – свидетельств о рождении (титульные и внутренние листы многих из них написаны на двух, а то и на трех языках) будут жить со своими владельцами многие десятки лет, по самым скромным подсчетам, – больше века.
Одна из расхваленных разработок военно-промышленного комплекса США самолет-невидимка F-117А, по американской военной терминологии называемый «Черный ястреб», что само по себе выдает скрытый оттенок агрессии, во время войны НАТО с остатками Югославии – Сербией в марте 1999 года, был сбит зенитной ракетной установкой советского производства …семидесятых(!) годов.
Великая страна говорила о себе через время.
Говорила, став уже исторической категорией.
В чем сила сильных?..
Сильные, если и грозят, – то только пальцем.
Почему?
Потому.
Сильные защищают себя на дальних подступах.
Письмо седьмое
ПОБЕДИТЕЛЬ
…Звонок звенел и звенел.
– Слушаю вас.
Я ответил хриплым от сна голосом, и автоматически глянул на часы – 06:00.
Так рано нам не звонили.
– Это я…
На другом конце линии связи брат искал и не находил нужных слов.
Я понял все и сразу.
– Знаешь…
Брат, не решаясь сказать о главном, откашливался и откашливался.
– Отец оставил нас.
Он нашел слова, которые искал, но произнес их бесцветным, тусклым голосом.
– Похороны завтра. Мы ждем тебя. Успеешь?..
Брат говорил телеграфно.
– Когда это случилось? – только и спросил я.
– Полчаса назад.
Выразив желание близких, брат успевал попутно разъяснять что-то кому-то.
И я понял: нас ждет большая работа.
…Мулла сел у изголовья отца.
– Кто уходит?
Его обращение было адресовано товарищам, друзьям и сверстникам отца.
– Нажен уходит, Нажен.
Хором ответили товарищи, друзья и сверстники.
…По мусульманскому обычаю друзья, товарищи и сверстники проводят с усопшим его последнюю ночь на земле.
Та ночь – не просто ночь.
По-казахски она называется «кұзет» и означает «караул», «охрана».
В ту ночь в доме и на дворе покойного не гаснет свет.
Избранный круг людей – друзья, товарищи и сверстники до утренней зари вспоминают особенные для них эпизоды, когда они, люди одного с покойным поколения, постигли того в пике проявления им высших степеней качеств человека.
– Стало быть, нас оставляет Нажен?.. Знаем…
Высказывание мулла закончил глаголом действия множественного числа.
И подытожил:
– Мужчина был, и – хороший человек.
– Верно, верно!
Дружно подтвердили друзья, товарищи и сверстники отца.
Получив подтверждение своему заключению, мулла продолжил:
– В молодости покойного окружали свои и чужие дети, а в старости – свои и чужие внуки… Дети любят добрых людей, не так ли, старики?
– Так, так… Истинно так!
Ответил слаженный хор голосов.
– Приступим?..
Мулла обратился уже ко всем присутствующим.
Затем, будто отчитываясь, обернулся к отцу со словами:
– Все, кому надо, пришли. Мы, Нәке*, прощаемся с тобой.
И стал творить молитву.
Проводы покойного на моей станции и всей округе, несмотря на многолюдье, приобретают все оттенки камерного действа: помимо родных и близких обязательно приходят соседи и знакомые с взрослыми или находящимися на стадии взросления сыновьями.
Но раньше всех у изголовья почившего собираются друзья, товарищи, сверстники.
И горечь потери семья усопшего разделяет сначала со старшим поколением общины.
Оно – старшее поколение – хорошо знает цену утрат.
Им – старшим – принадлежит доминирующая роль.
На них держится весь протокол и сценарий проводов.
Они же, старики, совершают омовение.
Я не заметил, как расселись люди.
Деликатно и ненавязчиво меня, братьев и сестру отводили и отводили от тела отца. Впереди, заслонив нас, несколькими шеренгами коленопреклоненно присели все, кто пришел проститься; я не обратил внимания, кто это был, но кто-то из знакомых почтенного возраста, отводя в сторону, полушепотом объяснил: нас отводят от отца, чтобы он в тоске ли, в печали от одиночества или из-за какой-либо обиды не забрал с собой кого-то из близких.
Но уход отца забрал еще одну, и очень заметную, частицу моего «я».
Он, пусть далеко от меня, – но был на этом свете.
Он был и этого, – как оказалось, – было достаточно.
С его уходом я лишился, – теперь уже окончательно, – внешней защитной оболочки.
И лопатками ощутил за спиной пустоту.
Человек скромных достижений, мой отец был участником огромного действа.
Он был участником огромной – мировой – войны.
Войны, закрепленной в истории человечества.
Он и его поколение отстояли право на жизнь той – моей – страны.
…Ночью, временами отвлекаясь от рассказов стариков, я вспомнил резанувшее слух, откровенно-горькое обобщение отца:
– Разве это народ, который купился за миску похлебки? И…
Он в сердцах затоптал только что начатую папиросу.
– Подумать только! За миску похлебки и бесплатный проезд…
Употребив густо-соленое выражение, глубоко и разочарованно вздохнув, уточнил:
– Бесплатный проезд… Где бы ты думал?.. В городском транспорте! Неужели кто-то думает, что время не настигнет платой? В этой жизни бесплатным бывает только сыр в мышеловке.
И очень просто, но доступно обозначил роль загадочности случая в истории.
…Высказал он свое признание после нашей небольшой пикировки.
Я только что приехал с семьей в отпуск.
В перерыве застолья, когда все вышли во двор, отец задал мне подряд два вопроса:
– Вы что там, в Москве, делаете? Понимаете ли, что!?
Его однозначное обобщение всех и вся было крайне неприятным.
И я, осаживая его, задал встречный вопрос:
– Ты думаешь, кто-то спросил у кого, что нужно делать?
Тогда, несколько отступив, он и выразил свою неприятную оценку.
…Речитатив муллы.
Незнакомые арабские слова беспристрастно произносились нараспев.
И я понял: молитва – особый, ритмизированный строй речи и представляет собой давно рожденную, протяжную, горловую песню.
Ее, особым образом организованный звукоряд, обращен к иным сферам.
Посредством молитвы человек спокойно, но осторожно и тихо стучится в небеса.
Стучится затем, чтобы там – в иных сферах – узнали имя его соплеменника.
Стучится затем, чтобы там – в иных сферах – узнали и приняли его достойно отпетую в этой жизни душу.
«Человек – существо символическое, но высота небес, – думал я, – символичнее и выше многих земных символов».
– Да будет достигнутое место ясным!
Произнес мулла, завершив молитву.
– Да будет так!
Откликнулись старики.
…С выносом тела отца я понял: он уходит не один.
С ним уходит и его – особое – поколение.
Уходит поколение победителей.
Уходит поколение-символ, а символы нового времени еще неряшливы: они только-только начинают причесываться людьми и временем.
Но отец и в новом облике оставался отцом.
И, даже уходя из этого мира, продолжал показывать мне жизнь.
Как показал когда-то место слияния вод великой реки и огромного внутреннего моря.
Как превратил когда-то в праздник обыкновенное дело – растопку самовара.
Как изумил когда-то неожиданным подарком.
…То был приличный сверток.
Я вспотел, пока развернул около десятка газетных страниц.
Удивился обнаруженному там спичечному коробку.
Еще больше – кузнечику в нем.
Кузнечик совершенно очумел от вертуханий свертка.
Однако, хоть несколько секунд, но я подержал его на ладони.
И запомнил, как он улетел.
…Чувствительный толчок розоватых, в темно-красные крапинки, бедер.
Взблеск крылышек.
И – нет кузнечика.
И теперь понимаю: лучшего подарка в жизни у меня и не было.
Но на этот раз отец выводил более скрытую – глубинную – линию жизни.
Проститься с ним приехали люди из четырех сел.
Пусть не всех, но многих я хорошо знал.
Люди откровенно признавались: живут непросто, если точнее – трудно.
Многие потеряли работу, а вместе с ней – деньги.
Обеспечивали семьи сезонными подработками да подворьем.
Но именно они, – люди непростой, трудной жизни – и стали в коленопреклоненные шеренги, отгородив детей покойного от явления смерти.
Это они – коленопреклоненные люди – заставили меня заплакать.
Впервые за время похорон.
Это был не тот народ, о котором горько высказался отец.
Это был другой народ.
Народ, который проявлял себя, подлинного, когда это было нужно.
И я пожалел, что не знаю ни одной молитвы почтения людей.
…Распахнутые настежь ворота.
За их створом процессию встретила вторая половина обитателей станции.
За воротами – в скорбном молчании – русские.
Многие пришли семьями, а старики и старухи привели с собой внуков и внучек.
Совместное проживание этносов вырабатывает свои, – неписаные, – законы.
Станция, где сошлись крыльями огромный и немалый народы, – не исключение.
Усопшего здесь провожают всем миром.
Но до выноса тела соблюдается дистанция.
Дистанция отдает дань уважения тонкой материи иного обряда.
Впереди всех – Татьяна Фоминична Трофименко.
Жила она рядышком, через два дома.
Отец, мать и Татьяна Фоминична проработали вместе почти тридцать лет.
И связывали их не просто дружеские, а особо дружеские отношения.
Бывая в отпусках, я заходил к ней поздороваться, справиться о житье-бытье.
Мы обнялись.
– Опустело место отца…
Татьяна Фоминична, показав взглядом на стульчик и верстачок у стены сарая, полуудивленно произнесла:
– Полчаса смотрю на них. Правду люди говорят: без хозяина и вещи сиротеют.
Выяснив, когда я приехал, она, озадаченно покачивая головой, призналась:
– Позавчера с ним говорила. Сидел, пилил свои чурочки…
И, продолжая покачивать головой, задумчиво произнесла:
– Видать, что-то чувствовал. Знаешь, что сказал? Говорит: «Фоминишна, если окажусь на бугре, первый привет передам твоему Саше».
…Православное и мусульманское кладбища – в трех километрах от станции.
Оба – на внутренних склонах двух, почти слившиеся у оснований, – бугров.
Хребты их, расходясь под небольшим углом, уходят на восток.
И образуют несвойственное для этих мест начертание …латинской буквы v.
У самого разветвления бугров – с уходом на внутреннюю сторону их хребтов – два кладбища.
Два кладбища…
Православное и мусульманское.
Одно – в крестах.
Другое – в полумесяцах.
Крест и полумесяц…
Высшие сакральные символы европейско-азиатского культурного круга.
Рядом друг с другом.
Рядом…
Как когда-то рядом жили, дружили, ссорились, но и мирились их обитатели.
И – будто две вертикали отходят от лика земли.
И – будто две линии прямой связи.
Как знать, может, с иными горизонтами жизни?
Невольно упомянув сына, Татьяна Фоминична заплакала.
Ее единственный сын Александр скончался пять лет назад от лейкемии, и, некогда рослая, полная, красивая даже для своего возраста женщина сильно сдала и, похудев, обесцветилась.
– Пусть земля будет пухом. Мой привет до Сашеньки дойдет!
Татьяна Фоминична перекрестилась и, молитвенно прижав сложенные вместе по мусульмански кисти рук к груди, отдала отцу земной поклон.
Вечером мы сидели с матерью на лавочке.
Братья развозили уже последних, задержавшихся, стариков.
– Все ушли.
Мать выразила конец завершившегося действия на русском языке.
Вздохнув, обозначила состояние, которое воцарилось надолго, на казахском:
– Тыңштық…*
* Тыңштық – тишина (казах.).
И беззвучно заплакала.
– Ты уедешь. У тебя – семья.
Мать взглянула на меня.
В глазах – немой укор.
Тот самый, что стоял при расставаниях в конце моих отпусков в глазах отца: он так хотел, чтобы я вернулся домой.
– Поезжай, мы исполнили все, как надо.
Мать снова заплакала.
– Сынок, – она глубоко вздохнула, – одна я осталась. Почти все близкие по крови покинули меня, а кто жив, не доедут. Дорога из Алма-Аты сколько стоит?.. Сам знаешь. Твой отец – мой последний родной.
«Она и не думала расставаться с отцом», – подумал я.
И, ревниво чувствуя, что мать отдаляется от меня, братьев и сестры, ответил:
– У тебя есть мы.
– Вы – не мои.
Мать употребила личное и притяжательное местоимения множественного числа.
Развела их паузой и частицей отрицания.
Произнесла сказанное убийственно-спокойно.
У меня между лопаток просквозил холод.
Видимо, она многое передумала, прежде чем так сказать.
– Вы – не мои.
Мать снова вздохнула и уточнила:
– Вы были моими, а теперь – не мои. У вас – свои семьи.
И снова заплакала.
Утерев слезы, тихим голосом обозначила свою, – последнюю, – роль:
– Я, сынок, теперь – одинокая волчица. Мой удел – выть у могилы своего мужчины. Никто не утрет мои слезы. Даже вы, мои дети, не сможете. Когда умру, не будет у меня места рядом с мужем.
Она, укоризненно-озадаченно покачав головой, бесстрастно констатировала:
– Наши кладбища теперь заполняются быстро.
Внимательно посмотрев на меня, захотела в чем-то убедиться:
– Как ты думаешь?..
Она смотрела, чуть прищурив глаза, как бы определяя дальнюю, – известную только ей одной, – цель, и приоткрыла сокровенное:
– Как ты думаешь, можно ли нарушить обычай?..
– Какой? – спросил я, чувствуя что-то непостижимое.
Мать пояснила:
– Я хочу, чтобы вы, мои дети, положили мои кости вместе с отцовскими. Русские, по-моему, хорошо поступают. Некоторые русские семьи…
Пытаясь точнее выразить сокровенное, она то и дело переходила с казахского на русский, выстраивая суть выверено-точным синтезом слов двух языков:
– У русских семей есть чему поучиться. Они соединяют кости близких одной могилой. Я не знаю, хорошо это или не очень, может быть, и не очень…
Она задумалась, после чего продолжила:
– Получается, будто кости сваливают в одну яму. Но кладбище и могила – не яма. Кладбище и могила – последнее пристанище человека. Они освящены молитвой. Я думаю…
И снова заплакала.
Успокоившись, закончила:
– Думаю, отец принял бы меня. Он бы не обиделся, и чуток подвинулся, если лягу рядом. Костям не нужно много места: я ведь обниму его.
И, снова вздохнув, поправилась и уточнила:
– Не его обниму… Не его, сынок. Его кости обниму, его кости…
Я удивился: уход отца не оставил мать без надежды.
Более того, она видела возможность качественно иного слияния с ним.
Ее мысли, видимо, не раз посещали непознанные мною сферы.
Но ставила она такую задачу, к решению которой я пока не готов.
Мать снова задумалась.
Прервала молчание вопросом:
– Знаешь, как отец хотел дожить до юбилея Победы?.. Братья говорили?
Я кивнул, но было очевидно: она скажет то, чего не говорил никто.
И она сказала:
– Он умолял Создателя дать ему увидеть парад Победы. Так упрашивал Его!..
И, вся выпрямившись, гордо произнесла:
– И увидел, увидел!..
Загибая пальцы, тихо, порой переходя на шепот, стала считать:
– Дявяносто шестой, девяносто седьмой, девяносто восьмой, девяносто девятый… Четыре года. На четыре года пережил свое ожидание мой победитель. На четыре… До этого четыре года ждал свой парад. Ждал, ждал, ждал и – дождался. Четыре и четыре – восемь. Не зря как-то сказал: «Я, мать, был участником одной войны, и еще две пережил, но из этой жизни уйду победителем».
Переведя дыхание, тихо-тихо прошептала:
– Увидел отец свои святые знамена на святой площади, увидел… Выплакал свои слезы счастья, выплакал… Как же мало нужно человеку! Всего-то ничего – только бы его не обманывали.
– Сынок!
Мать смотрела очень внимательно, не зная, говорить или нет.
И призналась:
– Я не видела слез своего мужа, ни разочка не видела, и вот – довелось.
Обмакнув скомканным носовым платком глаза, снова призналась:
– Смотрит парад и – плачет. Не в голос, как мы, бабы, а тихо-тихо, будто стесняется, а слезы-то по щекам текут. Я тогда кое-что поняла…
Мать надолго умолкла.
После чего совсем тихо прошептала:
– Страшно, когда плачет мужчина. Так страшно, сынок…
Глубоко вздохнув, продолжила:
– Если плачет мужчина, значит, человеку не помочь. Ничем. И я сама заплакала.
– Получается, хоть чем-то, но помогла, – то ли возразил, то ли поддержал ее я.
– Какая это помощь!?..
Вопрос с восклицанием загнал меня в тупик, а вывод поставил в угол:
– Выстраданная радость – скорее горе. Радость, сынок, даруется вовремя.
И окончательно удалилась от меня.
Чуть грустно улыбаясь, ушла в себя.
То, что сказала после, было ее обращением к своим, внутренним, мыслям:
– Чтобы добиться меня, он однажды выкрасил и завил волосы. Такой смешной был!..
Безвольно уронив на колени руки, мать стала совершенно бессильной и одинокой.
И я понял: отец принадлежал ей больше, чем мне.
Мы входили в дом, когда мать, устало поправляя выбившиеся из-под головного платка волосы, с неожиданной хитринкой глянув на меня, озадачила:
– Ты обещал купить мне красное платье, где оно?..
Создатель!
Мать помнила мое давнее – еще детское(!) – обещание.
Я дарил ей много чего, а про красное платье забыл.
Неужели память – вид энергии?
Не потому ли позывы, адресованные одной душой другой душе, говорят через время?
Не дав опомниться, без всякой связи с предыдущим, мать вдруг констатировала:
– Мы будем голодать. Видел, в магазине ничего нет, а если есть, у нас денег нет.
…Больше всего на свете мать боялась голода.
За свою жизнь она трижды переживала его.
Первый раз, малым ребенком, в голодомор 1930 – 1931 годов.
Второй раз – в годы великой войны, задевшей не только страны, но и континенты.
В третий раз голод коснулся крылом и ее, и меня.
То были тяжелые 1963 – 1964 годы.
Тогда на юге страны два года подряд выдался неурожай.
Однако то был все-таки не голод, а нехватка отдельных видов продуктов питания.
Но нехватка есть нехватка, и я два года не знал, что такое белый хлеб, и, когда на станцию привозили из Астрахани, как говорили, испеченные из перемолотой вермишели белые булочки, в них, действительно, порой встречались непропеченные белые стерженьки, то было пределом мечтаний.
…Слова матери о голоде вызвали ощущение давней, знакомой тревоги.
Все дни похорон я бессознательно считал составы.



