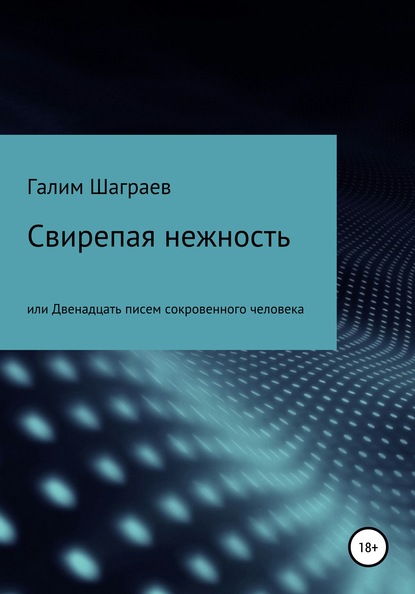 Полная версия
Полная версияСвирепая нежность, или Двенадцать писем сокровенного человека
«Недурно, но не много ли? Два носителя и семнадцать спутников! Не хухры-мухры, можем ведь! – мысленно воскликнул не без гордости я. – А вообще – хорошее слово «спутник». Теплое. Неужели орбита его движения – сфера и моего влияния?» – думал я, засылая в набор новое сообщение.
Курьер принес с участка верстки оттиск первой страницы.
Колонка, в которой разместились сообщения ТАСС, показалась сгустком неясной, тревожно пульсирующей энергии, и, усиливаясь, начинало беспокоить ощущение дискомфорта; оно не проходило долго и не позволяло подойти к оттиску сероватой бумаги на стене, чтобы проверить правильность написания, размещения и оформления рубрик, заголовков и иллюстраций будущей газетной страницы.
Колонка пугала.
Показалось: она разбухает, а слова, не выдерживая внутреннего давления скрытой энергии, начинают расползаться и вот-вот рассыплются на буковки, разбегутся неведомо куда, так и не раскрыв причин нарастающей тревоги.
За ней – тревогой – остро таился страх: есть время, дата и место запуска спутников, но нет целевых характеристик, и непонятно зачем, для чего они запущены?
Захотелось, чтобы в номере не было сообщений о запусках ракет и спутников; захотелось поменять пульсирующий источник нервной энергии на другую информацию, лишь бы ушло то, что может внушать не столько подспудную тревогу, сколько страх. «Пусть погоду определяют с самолетов, – думал я, – пусть спутники могут управляться, способны самоуничтожаться, пусть их остатки не долетают до земли, сгорая в плотных слоях атмосферы, пусть… Но кто знает: какую мысль передали на орбиту? А, может, просто расшалились нервы? Может, хватит тянуть лямку? Пора в отпуск?..»
…Я вспомнил о той неожиданной тревоге, когда, радуясь, что наконец-то дома, умиротворенно курил на балконе и время от времени бросал взгляд в спальню, где кокетливо сбитый на бок абажур торшера высвечивал конусом света краешек приспущенного до пола одеяла, видел оброненную спящей женой книгу с замятой страницей, которую не догадался поднять, и думал: сейчас зайду, сяду на краешек постели, жена привычно подвинется, заулыбается сквозь слегка потревоженный сон и, выпростав из-под одеяла руку, найдет мою ладонь, положит ее под щеку, из-под одеяла вырвется тепло ее тела, защекочет ноздри сладковатый, телесный запах сомлевшей от сна молодой, привлекательной женщины. «Тоже ведь спутники… Только кто из нас в большей степени?» – думал я и, подогреваемый истомой полумрака спальни, уже гасил сигарету, когда, близко, почти над крышей соседнего дома, полоснув зведосвод тонким лезвием трассирующего, светящегося следа, пронесся сгусток космического тела.
Осколок далекого, непонятного, живого или неживого мира сгорел в атмосфере, и снова наплыл, взбудоражил успокоившиеся было нервы безотчетный страх, и я, натыкаясь в ночную прохладу косяка и оконных стекол, не мог нашарить спасительную ручку двери лоджии…
Письмо четвертое
ОХОТА
…Сколько прошло с тех пор?
Много воды утекло.
А видения текста не проходили.
Они стали моими постоянными спутниками.
Беспокоили.
Преследовали.
Настигали в самые неподходящие моменты.
…Конец июля.
Степь.
Полдень.
Мы идем под палящим солнцем.
В полдень в степи царствуют только солнце и тишина.
Жизнь в опаленном потоком горячего белого света пространстве замирает.
Даже суслик пребывает в полуденном отдыхе и не стоит столбиком у норы, любопытствуя, а кто это идет?
Если честно, хорошо, что я откликнулся на просьбу Аскера и пошел с ним на охоту.
В отпуск к родителям я приезжаю не только ради них – мне хочется снова увидеть и снова ощутить необъятность просторов степи.
Степь в чем-то похожа на море: и степь и море – необъятны.
И я одинаково люблю эти две бесконечности пространства.
…Монотонно-ровная, молочно-белесая бескрайняя поверхность.
Покачивание реюшки – большой морской лодки.
Запах снасти и рыбы.
– Море, – сказал отец. – Скоро увидишь рыбу, много рыбы…
Видимо, отец не так меня понял: ловлю рыбы я каждый день видел и на реке, поэтому хотелось увидеть громаду вод Каспия, о чем часто говорили родные и соседи, вот и упрашивал отца взять хоть разочек с собой, взять туда, куда уходили и откуда возвращалиь настоящие мужчины.
Мой род из ловцов.
Однажды я назвал двоюродного дядю рыбаком, и он серьезно обиделся.
И, кривя губы, счел нужным уточнить:
– Мы – не рыбаки, мы – ловцы. Мы ходим в море!
Его последняя фраза обозначила характер: ловцы – те, кто бросает вызов морю.
Правда, платят за то дань: выйти в море – еще не значит вернуться.
Ловцы – люди удачи, а умелая постановка сетей и знание моря – основа их успеха.
…Накануне вечером отец и соседи-ловцы решали мой вопрос.
Они долго и громко говорили у нашей реюшки.
Отец, видимо, спорил и смог одолеть возражения.
И вот – море.
…Монотонно-ровная, молочно-белесая бескрайняя поверхность.
Покачивание реюшки.
Запах снасти и рыбы.
Рыбы было много, и – даже очень.
И вся она – крупная.
Сети, которыми брали ее, – с ячеей в пять пальцев с просветом.
Ловцы называют их режаками: мелочь пролетает через них со свистом.
Сети выходили из моря.
Сети несли рыбу.
Море, сети и рыба заставляли мужчин азартно и радостно кричать.
Море, сети и рыба делали мужчин веселыми.
Мужчины занимались своим делом: делом, которое знали и любили.
…Тяжелые, будто из бронзы, никак не меньше метра, сазаны.
Бледно-голубые огромные судаки.
И – веретена с характерными шипами на спинах и боках – стерляди и осетры.
Рыбы выгибались.
Высоко подпрыгивали, особенно сазаны.
Тяжело падали.
Сильно и гулко били хвостами по палубному настилу реюшки.
Снова выгибались и снова подпрыгивали, а потом, исчерпав силу, слабо извивались.
…Детское восприятие поражали красота и тяжелая сила больших рыбин.
Очень скоро ими наполнили всю лодку.
И красивые рыбины теряли облик в бурых, слабо шевелившихся огромных кучах.
Больше всего я жалел о пропадавшей красоте тяжелых, упругих рыбин.
Сазанами, судаками, стерлядью и осетрами набили все три рыбных отсека реюшки, залили их водой и закрыли деревянными люками.
Реюшка настолько сильно осела в воду, что стало страшно: так и утонуть недолго, но ловцы не обращали на то никакого внимания и, довольные уловом, шутили и смеялись, и мой страх уступил место чувству обиды – красивые, большие рыбины находились в тесной темноте, – в море им было лучше.
…В бескрайне-ровном и монотонном однообразии степи – своя красота.
Красота неочевидная, скрытая безмолвием и необъятностью пространства.
В отличие от моря степь надежна.
Но от впечатления, что идешь посуху, как по воде, не уйти.
Идешь, идешь, а она – степь – не кончается.
Но главное в том необъятии – полынь.
Она – везде.
Впереди.
Слева.
Справа.
Сзади…
Полынь – трава с прямыми метельчатыми стеблями бледно-стального опушения.
Ее цвет – основной колорит степи.
Уходя вдаль, цвет бледно-стальной цвет полыни сливается с линией горизонта.
На месте стыка земли и неба плавно перетекает в синеву.
А синева незаметно переходит над головой в огромный горячий белый круг.
В середине того круга – почти невидимый диск солнца.
…Мне часто приходилось бывать в степи; если в детстве манила ее потрясающая необъятность, то, повзрослев и работая в колхозе, я был уже буквально прикован к ней частыми поездками, и всякий раз именно в степи перед глазами возникал монах с гравюры учебника истории средних веков; дойдя до края земли, монах пробивал головой небесную полусферу, а я же, как когда-то в раннем детстве, как ни пытался, так и не прикоснулся к блескуче-подвижному отражению солнца в теплой воде протоки, так и здесь, – в степи, – ни разу не дошел до места стыка земли и неба.
– Значит так, терпи! Пять километров пойдем на своих двоих…
Аскер снял брюки, тенниску и забросил их на заднее сиденье «Нивы».
Охотник – высокий, поджарый сорокасемилетний мужчина.
Легкость его фигуры не вязалась с размеренной, неспешной походкой.
И то и другое удивляли.
Так удивляют иногда крепко сбитые, грузные мужчины, бывая подвижными, как ртуть.
Аскер остался в цветных семейных трусах.
На ногах – легкие плетеные сандалии.
На голове – белая войлочная панама.
И так не вязался с его пляжным обликом пятизарядный карабин Симонова.
Меня все тянуло спросить: всегда ли он так ходит на охоту, но Аскер упредил.
Прижав палец к губам, намекнул: все, что требуется, – тишина; о том он говорил еще по пути, и просил не нервничать и не курить; моя задача – смотреть и запоминать, а полезная нагрузка – термос с охлажденной кипяченой водой.
По примеру охотника я тоже разделся и тут же обгорел, но дорога к логову и выстроенная в мыслях модель ожидания небезопасной встречи заслоняли болезненные ощущения от неприятного жжения кожи.
– Пришли…
Аскер произнес слово, едва шевеля губами, и сел на сброшенную панаму.
Нам надо было отдохнуть и отдышаться.
Мы, чтобы не вспотеть, специально шли медленно.
Когда что-то делаешь специально, требуется особое напряжение сил, и трудно не вспотеть, а тут как раз потеть-то и нельзя: пот, усиливая запах, выдает человека издали, и волк не станет дожидаться тебя и просто уйдет, и твой труд станет напрасным старанием.
Аскер снова прижал палец к губам: теперь нужна полная тишина и осторожность.
Нам осталось перебраться через гребень отлогого бугра.
На его противоположном склоне небольшое углубление – логово волка.
По весне охотник выследил здесь трехлетка-одиночку.
Видимо, молодой самец не стал обзаводиться семьей, а родную уже покинул.
Степные волки, как и лесные, часто используют брошенные старые норы барсуков, енотов, лисиц или, прогнав тех с полюбившегося им места, заваливают землей ствол норы и несколько расширяют вход: они не любят глубоких убежищ.
…Я еще подумал: а не собака ли это?
Уж больно по-домашнему разбросал свои лапы волк.
И, как-то по-щенячьи поскуливая, вздрагивал.
Наверное, видел тревожный сон.
Осторожно, на цыпочках, мы подошли к нему почти вплотную.
Не доходя до зверя семи-восьми шагов, Аскер оглянулся, попросил взглядом отойти меня подальше, и, направив карабин на зверя, нацелился, и – легонько свистнул.
Волк упруго вскочил.
И – особый запах зверя: тяжелый, сопряженный с трупным.
Это не унылый обитатель клетки московского зоопарка, а настоящий зверь.
Зверь, который добывает пищу сам.
Вон сколько белеет вокруг костей овец и сайгаков.
Некоторые до сих пор исходят запахом гниющей мышечной ткани.
…Взбугрив загривок, волк, чуть присев на задние лапы, напружинился.
Собрав на узко вытянутой морде и вокруг глаз морщины, обнажил клыки.
Глухо зарычал.
На короткое время стал прекрасным, сильным зверем.
Но выстрел в упор оборвал ощущение недолгой красоты.
…Маленькая красная дырочка на лбу чуть выше глаз.
Вывернутая выходом пули левая лопатка.
Скомканное тело волка отбросило назад и чуть вправо.
Мне стало неуютно.
Я всегда любил хорошую, классную работу.
Но обыденная простота, с которой Аскер исполнил и показал свою?..
Она убила ожидания.
Видимо, не зря говорят: простота хуже воровства.
Впрочем, чего ждать от профессионала?
Любой профессионализм в своей основе отдает здоровым цинизмом.
Вот и Аскер, охотник в третьем поколении, знает: взять спящего степного волка ничего не стоит; после ночного нападения на отару в жаркий летний полдень он спит без задних ног.
Так брали волков дед и отец охотника, так берет их и он – Аскер.
Действия просчитаны и отработаны долгой практикой до мелочей.
Но работа, которая имела для меня свою, и очень самостоятельную, загадку, утратив сопряженность с таинством и риском, убитая холодным расчетом, стала для Аскера обыденным, доведенным до предельного упрощения, делом.
Видимо, так оно и должно быть.
Но неужели любой профессионализм в своей основе жесток и расчетлив?
Все те мысли – только промельк.
Их заслоняло нечто большее: волк не успел что-то сказать.
Это я знаю только теперь: безмолвное умеет говорить.
Но говорит, увы, уже костями.
…Через год, будучи в отпуске, спросил у родителей: «Что-то не видно Аскера, где он?»
Отец и мать не ответили.
И только спустя некоторое время мать, перематывая с веретена пряжу, сказала, ни к кому особо не обращаясь:
– Болел Аскер… Сильно болел. Родня возила его по больницам, возила, да без толку. Он ведь, сынок, спящих волков брал, спящих… Да и дед, и отец его делали так. Они, считай, и не работали вовсе. След нашли, логово нашли, когда надо пришли, и – все дела, а зверь, он хоть и зверь, – душу имеет. Вот мой отец настоящий охотник был: он ходил за волком. Помню, днями за ним ходил, покоя ему не давал…
Мать отложила веретено и моток пряжи на краешек стола.
Внимательно посмотрев на меня, озадачила:
– Ты где родился?..
– В селе… Кара-Бирюк…
Растерянно произнес я, а перед глазами поплыла строка о месте рождения из метрики.
– То-то и оно…
Мать подумала, вернулась к прерванному делу и попросила:
– Переведи Кара-Бирюк на русский.
– Черный, насколько помню…
Скрытый смысл ключевого слова дохнул дуновением сквозняка, и я осекся.
– Нет. Не волк…
Ответ матери заслонил от сквозняка.
Она покачивала в руке перемотанным с веретена клубком.
Но пряжу речи, видимо, не закончила.
– «Қара» по-казахски не только «черный», «қара» это еще и смотреть, и видеть, а «бұйрық» – много чего означает, много чего… Только не о том я… Волки, сынок, – произнесла задумчиво, – считай, наши родственники.
Я удивился: в последнее время встречи с отцом и матерью редко обходились без неизвестных мне фактов.
– Они мне жизнь сохранили.
Мать, делая в уме вычисления, подняла вверх глаза.
– Сколько мне тогда было?.. Лет десять, может, одиннадцать…
– Десять тебе было, десять! В тридцать девятом дело было!
То подал голос отец.
…У моего отца была феноменальная память: он помнил не только важнейшие события – дни рождений, дни свадеб, дни смерти не только всех родных и близких, но и многих соседей, и такие случаи, которые имеют особенность как-то замыливаться в памяти, к примеру, кто и когда пошел в школу или в армию, кто и когда заболел, с кем и когда приключилось то или иное забавное или не очень забавное происшествие – помнил те вехи до подробностей обстоятельств, вплоть до состояния погоды на дворе.
Отец занимался самоваром и вполуха слушал рассказ матери.
Он вышел на пенсию, проработав сверх положенного срока больше пяти лет.
Но, даже выйдя на пенсию, продолжал тосковать по работе, и, чтобы реже возвращаться мыслями к временам активной деятельности, как говорил, сделал себе «праздник души».
И превратил в праздник обыкновенное дело – растапливание самовара.
Редко когда доверял он самовар кому-либо.
Растапливал его только чурочками сухого саксаула, абрикоса или вишни.
Для спиливания сушняка сделал специальную маленькую ножовку.
Сушняк распиливал опять же на специальном верстачке.
Он считал: только саксаул, абрикос или вишня дают воде хороший жар, а чаю – неповторимый аромат, и если мать добавляла в топку самовара прессованный овечий помет – в отличие от сушняка, он дольше хранит тепло – разбор полетов следовал тут же, – кому, простите, нравится нарушение заведенного тобою порядка?
– Он помнит все!..
Мать с уважением посмотрела на отца.
Во взгляде – неизменно-горделивое: «Это мой мужчина!»
Покачивая перемотанным с веретена клубком, продолжила:
– Пошла я за водой на реку. Зима. Только достала из проруби ведра, только собралась их на коромысло взять, а вокруг – волки. Сидят кружком, штук девять-десять, наверное, не считала, не до того было. И страшно, и интересно. Ни звука не слышала, ни тени не видела. Как подошли? Когда? Не знаю. Думаю, все… Будет мама косточки мои собирать. Что делать? Заплакала. Обратилась к старшему волку: смотрел он, как только человек умеет смотреть, и говорю: «Не трогайте меня. Я вам ничего плохого не сделала. Отпустите, я ведь и не жила совсем!»
Продолжая покачивать клубком пряжи вверх-вниз, мать определяла его вес.
Определив, удовлетворенно заметила:
– Твоим мальчишкам на носки хватит.
И продолжила прерванную мысль:
– Знаешь, не тронули. Тот волк, будто все понял, повернулся и пошел в сторону леса. За ним – след в след – остальные. Меня, думаю, отец мой и спас. Он, когда шел по следу бирюка. Бiр…
Мать перешла на родной для нее казахский язык:
– Бiр – значит один. Одинокие, сынок, не столько одиноки, сколько сильны. Будь то зверь или человек.
Выдержав паузу, во время которой что-то обдумала, задумчиво произнесла:
– Человек, правда, может оказаться брошенным. Хорошо, что вы помните нас и навещаете. Мы с отцом гордимся всеми детьми, но особенно тобой и твоей семьей. Вы уедете, а мы рассказываем людям, какие у вас чемоданы красивые, а у детей – рюкзачки, и какие вы подарки в них привезли. Брошенные детьми старики и старухи завидуют нам с отцом и плачут. Чтобы утереть им слезы, я, сынок, их конфетами вашими угощаю.
Мать вздохнула и вернулась к тому, от чего ушла:
– Бiр… Извини, бирюк… Русские зовут так одинокого волка или кабана, а еще – одинокого или нелюдимого человека. По-казахски это ни то, ни другое, да и «бирюк» звучит не так: «бұйрық»… Много чего означает это слово, много чего… И приказ, и наказ, и веление, и хорошее пожелание, а у нас – на Нижней Волге – судьба… Так что ты родился не в селе «Черный волк», а в селе «Смотреть судьбу». Так вот, о чем говорила-то?.. Да… О волках-одиночках… Сильный зверь, сынок, не терпит стаю. Сильный зверь оставляет сородичей и смотрит свою судьбу сам. И добычу свою берет один. Волк-одиночка может взять даже лошадь. Изнурит ее гоном и бьет ее, усталую, в жилу сна, и отскакивает в сторону. Помню, идет отец мой по следу, и с волком, которого не встретил, как с человеком разговаривает. До сих пор слова его в ушах стоят: «Волк – зверь сильный, и проклятия у него сильные. Я с ним не зря говорю: к смерти готовлю. Неготовый к смерти проклятиями достанет и меня, и потомство мое…» Так что Аскер для меня от проклятий волков умер. Мы с отцом не раз думали о нем и боимся за тебя. Зря ты с ним на охоту ходил, зря… Помяни мое слово, твой волк еще придет к тебе.
…И волк пришел.
Он обозначился в проеме закрытой двери – сразу и весь.
Он будто прошел сквозь дверь.
Страшно худой.
Облезлый.
Жалкий.
Не волк, а нечто из неприятных клочковатых комков облезавшего подшерстка.
Глубоко переводя дыхание, он часто водил рельефно запавшими ребрами боков.
Но смотрел зеленовато-карими глазами пристально, вдумчиво.
Я онемел.
И понял: перед ним открывались не одни двери.
Он изучающе смотрел на многих, и только теперь знает: достиг цели.
Отставляя в сторону вывернутую выходом пули левую лопатку, чуть клонясь налево, он беззвучно подошел ко мне, ткнулся черным, прохладным комочком носа в колено, глубоко втянул воздух и, тихо, по-свойски, словно то место было заведомо его, угнездился на коврике у моих ног и, вытянув по-собачьи лапы, устало зевнул и… заснул.
И теперь знаю: он досматривает свой – некогда прерванный и мною – тревожный сон.
…Время от времени я глажу его тяжелую, лобастую голову.
Изгиб ладони находит чуть выше глаз маленькое, круглое отверстие.
Края ее влажны от сукровицы.
Наконец-то он сказал о том, чего не успел, когда выстрел в упор оборвал в нем недолгую красоту истинного зверя: «Меня убили, когда я не был готов к смерти…»
Утешает то, что давно обозначенная, неясная по своей природе, но, – существующая на свете, – тревога удержала, и я не стал выполнять просьбу Аскера и не рассказал о его работе в известной столичной газете.
Убить, оказывается, очень просто.
Письмо пятое
МОСКВА
…Как-то вечером Ольгу прорвало:
– Учительница целый урок говорила Алешенькиному классу о взрывах. У подъезда ее дома кто-то оставил подозрительную, по ее мнению, машину. Она звонила в милицию, вдруг взрывчатка заложена. Разумеется, милиция ехала долго. Конечно, машину переместили подальше от дома, ничего, кстати, не нашли. Представляешь?.. Весь урок – о последних страстях – весь урок! Не домашние задания спрашивала, не новую тему рассказывала… Да, время тревожное, кто бы спорил: детям нужно говорить об опасностях, но неужели она не понимает, что, тиражируя свои страхи, вкладывает их – свои страхи – в головы детей и способствует умножению всесилия насилия?.. Не целый же урок говорить об одном и том же: как ждала милицию, как и чем оттаскивали машину, какая собака обнюхивала салон и багажник…
– А мальчишки и девчонки не слушали ее и баловались. Писали друг другу записки. Я даже домашние задания на завтра по математике и русскому сделал, – включился в разговор младший сынишка-шестиклассник, отрываясь от очередного тома Всемирной истории.
…То были всплески энергии большой политики.
Москва была, есть и будет городом большой власти, городом большой, – мировой, – политики, городом больших денег.
На ее маленьком пятачке – вокруг и внутри Кремля – творилась, творится и будет твориться история государства, и каждый правитель вносил, вносит и будет вносить в облик столицы неповторимые штрихи своего времени.
На исходе ХХ века, особенно в последние шесть-семь лет 90-х годов, центр и окраины Москвы отстроились фешенебельными зданиями банков, гостиниц, фирм, учреждений федерального уровня, жилыми элитными домами; сооружения с использованием самых современных строительных материалов вписались в державную суть столицы и не нарушили ее архитектурного облика, не стали чем-то неожиданным, а, напротив, явились приметами нового периода в истории страны, придав облику города несвойственный до этого лоск; в то же время на улицах, на вокзалах, на транспорте, особенно в метро и на пригородных электропоездах, появились толпы молодых и не очень молодых людей, жаждавших успеха, а со временем ставших банальными коробейниками – разносчиками мелких товаров – они раздражали постоянными приставаниями купить что-нибудь, но нездоровье общества в большей степени проявлялось в бродягах и бездомных, беженцах и попрошайках; все они стекались в богатый город из бедной российской периферии, из мест вооруженных и иных конфликтов; долгое время и на улицах, и в метро, а нередко и на пригородных электричках побирались и московские бабули – светлые, ясные старушки, отдающие отчет неприглядности своему положению, а голодные старики без стеснения копались средь бела дня в мусорных контейнерах – ожидание стариками и старухами мизерных пенсий доходило до трех-четырех, а то и пяти месяцев.
Я не видел такого в той – своей – стране, а вот в новой – довелось.
Отзвуки большой политики приходили в дома и семьи и через ведущих основных политических программ на каналах телевидения; они, наверное, по-своему честно отрабатывали хлеб, но слишком часто заостряли внимание на постоянных политических противоборствах, отставках, назначениях, скандалах, нередко в их передачах превалировала откровенная ложь и агрессивное хамство, переход на обнажение личной жизни; сюжеты их программ входили и в мои поры, отравляя и высушивая душу.
С противоположной стороны сумерек настоящего все становилось более обнаженным.
…Я стал очевидцем тектонического разлома уклада жизни своей страны.
И – еще не пережил его исхода.
Не пережил.
Мне – сложившемуся и самостоятельному человеку – вдруг предложили начинать свою жизнь заново.
Это оскорбляло.
Я имел не только престижную работу, городское жилье, семью, но даже дом в деревне.
И с благодарностью довольствовался теми – главными – дарами жизни.
И вдруг ощутил себя… бездомным, и – страшно одиноким.
Почему?
Потому.
У меня отняли страну, в которой я родился.
И потеря именно страны стала самодовлеющей, главенствующей.
С меня будто содрали внешнюю, но очень важную – защитную – оболочку.
И оказалось: ощущение принадлежности к своей стране дороже всего.
Дороже социального положения.
Дороже денег.
Дороже даже интересной работы.



