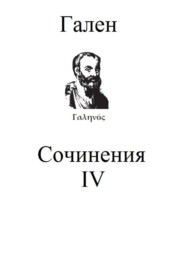 Полная версия
Полная версияСочинения. Том 4
9.2.8. Мы недостаточно искусны, по-моему, чтобы произвести подобное разыскание, – это вроде того, как заставлять человека с не слишком острым зрением читать издали мелко написанные буквы. И вдруг кто-то сообразит, что те же самые буквы бывают и крупнее, где-нибудь в надписи большего размера! Я думаю, прямо находкой была бы возможность прочесть сперва крупное, а затем разобрать и мелкое, если только это одно и то же.
9.2.9. – Конечно, – сказал Адимант, – но какое же сходство усматриваешь ты здесь, Сократ, с разысканиями, касающимися справедливости?
– Я тебе скажу. Справедливость, считаем мы, бывает свойственна отдельному человеку, но бывает, что и целому государству.
9.2.10. – Конечно.
– А ведь государство больше отдельного человека?
– Больше.
– Так в том, что больше, вероятно, и справедливость принимает большие размеры и ее легче там изучать.
9.2.11. Поэтому, если хотите, мы сперва исследуем, что такое справедливость в государствах, а затем точно так же рассмотрим ее и в отдельном человеке, то есть подметим в идее меньшего подобие большего»[183].
9.2.12. Итак, заранее поупражнявшись с нами на примере государства и показав, что в нем одно сословие правит, другое сражается за него, а третье занимается ремеслом, Платон перенес эти выводы на душу и показал, что и в ней есть часть управляющая, по крайней мере когда душа находится в нормальном состоянии; и другая часть, подчиненная, как в государствах войско находится в подчиненном положении; третью же, оставшуюся часть те, кто создал нас, прибавили для того, чтобы она питала тело; не обученные же тому, чтобы различать сходные между собой вещи, считают, что есть одна, а не три перечисленные части души.
9.2.13. Тому же, как следует упражняться в разделении их, Платон учит на примере государства на протяжении почти всего сочинения «Государство», описав в четвертой книге руководящую часть, а именно разумение, а подчиненные ей части – в других книгах.
9.2.14. Теперь настал подходящий момент для того, чтобы привести его слова из диалога «Федр»:
«– Обмануться легче при большой или при малой разнице между вещами?
– При малой.
– Переход к противоположности разве не будет менее заметен, если его совершать постепенно, а не резко?
9.2.15. – Как же иначе?
– Значит, если кто-то собирается обмануть другого, не обманываясь сам, то он должен досконально знать подобие и не-подобие всего существующего.
– Это необходимо.
– А может ли тот, кто ни об одной вещи не знает истины, различить сходство непознанной вещи с другими вещами, будь оно малым или большим?
– Это невозможно.
– Значит, ясно: у тех, кто имеет неверные мнения о существующем и поддается обману, причина их беды – какое-то подобие между вещами.
9.2.16. – Да, так бывает.
– Может ли быть, чтобы тот, кто всякий раз уводит от бытия к его противоположности, сумел искусно делать постепенные переходы на основании подобия между вещами? И сам он избежит ли ошибки, раз он не знает, что такое та или иная вещь из существующих?
– Этого никак не может быть.
– Значит, друг мой, кто не знает истины, а гоняется за мнениями, у того искусство речи будет, видимо, смешным и неискусным»[184].
9.2.17. Итак, как говорит Гиппократ, одно является наиболее легким для познания, а другое – более сложным, и начинать следует с самого легкого, с того, что настолько очевидно, что все люди согласны с этим.
9.2.18. Так же думал и Платон; в этом можно убедиться из следующего его рассуждения:
«– Не ясно ли всякому, что кое с чем из этого мы согласны, а кое-что нас возмущает?
– Кажется, я улавливаю твою мысль, но говори яснее.
– Когда кто-нибудь назовет железо или серебро, разве мы не мыслим все одно и то же?
– Конечно, одно и то же.
9.2.19. – А если кто назовет справедливость и благо? Разве не толкует их всякий по-своему, и разве мы тут не расходимся друг с другом и сами с собой?
– И даже очень.
– Значит, кое в чем мы согласны, а кое в чем и нет.
– Да, так.
– В чем же нас легче обмануть и где красноречие имеет большую силу?
– Видно, там, где мы блуждаем без дороги.
9.2.20. – Значит, тот, кто намерен заняться ораторским искусством, должен прежде всего произвести правильное разделение и уловить, в чем признак каждой его разновидности: и той, где большинство неизбежно блуждает, и той, где этого нет.
– Прекрасную его разновидность, Сократ, постиг бы тот, кто уловил бы это!
9.2.21. – Затем, думаю я, в каждом отдельном случае он не должен упускать из виду, но, напротив, как можно острее чувствовать, к какому роду относится то, о чем он собирается говорить.
9.2.22. – Конечно.
– Так что же? Отнесем ли мы любовь к тем предметам, относительно которых есть разногласия, или нет?
– Да еще какие разногласия! Иначе как бы, по-твоему, тебе удалось высказать о ней все то, что ты только что наговорил: она – пагуба и для влюбленного, и для того, кого он любит, а с другой стороны, она – величайшее благо.
– Ты совершенно прав»[185].
9.2.23. Это рассуждение приведено в диалоге «Федр»; здесь Платон учит, что то, что подпадает с очевидностью под естественные критерии, никоим образом не является предметом спора, но разногласия рождаются относительно тех предметов, которые подпадают под эти критерии не полностью или неотчетливо; для понимания этого рода вещей следует упражняться в различении подобий.
9.2.24. Ведь некоторые вещи таким образом относятся друг к другу по подобию или различию того, что в них, что в чем-то они похожи, а в чем-то непохожи. И необходимо, чтобы муж ученый был способен распознавать это, так что мог бы точно и быстро сказать, подобны они друг другу или не подобны.
9.2.25. Итак, послушай вновь то, о чем я постоянно говорю и пишу, то, что ты постоянно слышишь от меня: зная общий метод, но не упражняясь во многих частных вещах, нельзя стать хорошим мастером.
9.2.26. И ты можешь видеть, что это справедливо для всех подобных искусств, для некоторых же это настолько верно, что общий метод можно за один год изучить в совершенстве, однако достигнуть успеха в этих искусствах можно, только если упражняешься в них всю жизнь.
9.2.27. Совершенно очевидно, что именно таковы искусства счета, риторики и игры на музыкальных инструментах. Итак, аподиктический метод не нуждается в столь длительных упражнениях, но и он требует изрядной тренировки. При этом следует, чтобы обучение каждому искусству происходило на тех материях, которые полезны нам в жизни.
9.2.28. Ведь даже если человек, по природе лучше всего подходящий для того или иного дела, пренебрегает практикой, он будет ничем не лучше того, кого природа не наделила большим талантом, но кто был усерден в упражнениях.
9.2.29. Итак, подумай о том, что, если человек, ноги которого великолепно устроены и тело весьма сильно, пренебрегает этими дарами природы и никогда не бегает, и даже когда гуляет, всегда ходит очень медленно, он не сможет стать победителем Олимпийских игр, если не отбросит лень и не возьмет себе за правило часто упражняться, причем выполнять не какие угодно упражнения, а именно те, которые подходят для ног.
9.2.30. А если кто-нибудь возьмет человека, имеющего такую природу, и станет учить его ходить по тонкой веревке или карабкаться по гладкому стволу, как фокусники учат своих учеников, то он не только не победит в Олимпийских играх, но даже не будет ходить быстрее обычных людей.
9.2.31. Итак, эти примеры были написаны Гиппократом и Платоном, указавшими на их полезность в науках и всех видах деятельности. Я добавлю еще кое-что, чтобы можно было уловить их мысль в целом.
9.2.32. Разумеется, я не считаю, что этих примеров достаточно для тех, кто желает стать мастером в своем искусстве, однако они должны постоянно тренироваться, как ораторы тренируются всякий день, изыскивая темы, подходящие для таких упражнений.
9.3.1. Возьмем у Платона прежде всего то, что сказано в пятой книге «Государства», где он, говоря о природе женщин, вначале высказывает мнение, что им надлежит участвовать в тех же занятиях, что и мужчинам, как если бы у них была такая же природа, однако затем сам возражает на это рассуждение.
9.3.2. Он говорит, что никто не стал бы утверждать, что мужское тело и женское тело имеют одну и ту же природу, но показывает, в каком отношении их природа одинакова.
9.3.3. Все его рассуждение выглядит следующим образом:
«– А вот как: считаем ли мы, что сторожевые собаки-самки должны охранять то же самое, что охраняют собаки-самцы, одинаково с ними охотиться и сообща выполнять все остальное, или же они не способны на это, так как рожают и кормят щенят, и, значит, должны неотлучно стеречь дом, тогда как на долю собак-самцов приходятся все тяготы и попечение о стадах?
– Все это они должны делать сообща. Разве что мы обычно учитываем меньшую силу самок в сравнении с самцами.
9.3.4. – А можно ли требовать, чтобы какие-либо живые существа выполняли одно и то же дело, если не выращивать и не воспитывать их одинаково?
– Невозможно.
– Значит, раз мы будем ставить женщин на то же дело, что и мужчин, надо и обучать их тому же самому.
– Да.
– А ведь мужчинам мы предназначили заниматься мусическим и гимнастическим искусствами.
– Да.
– Значит, и женщинам надо вменить в обязанность заниматься обоими этими искусствами, да еще и военным делом; соответственным должно быть и использование женщин»[186].
9.3.5. В этом отрывке Платон заявляет, что ко всем искусствам следует допускать и женщин, затем он говорит то же самое и об упражнениях, которые мы делаем обнаженными, и о езде на лошадях, и о том, чему обучаются и в чем практикуются для сражений, – во всем этом, он считает, должны участвовать и женщины. Однако затем он возражает самому себе так:
9.3.6. «– Так хочешь, вместо других мы будем вести спор сами с собой, чтобы доводы противников, подвергшись нашей осаде, не остались без защиты?
9.3.7. – Этому ничто не препятствует.
– Мы от их лица скажем так: “Сократ и Главкон, вам совсем не нужны возражения посторонних: вы сами в начале основания вашего государства признали, что каждый, кто бы он ни был, должен выполнять только свое дело – согласно собственной природе”.
– Да, я думаю, что мы это признали. Как же иначе?
– “А разве женщины по своей природе не вовсе отличны от мужчин?”
– Как же им не отличаться?
– “Значит, им надо назначить и иное дело, соответственно их природе”.
9.8.3. – Ну и что же?
– “Так разве это теперь не ошибка с вашей стороны, разве вы не противоречите сами себе, утверждая, что мужчины и женщины должны выполнять одно и то же, хотя их природа резко отлична?” Найдешь ли ты, чудак, что сказать в свою защиту?»[187]
9.3.9. После этого, сказав кое-что о способности к спору, Платон предлагает следующее разрешение противоречий:
9.3.10. «– Безусловно, ведь мы невольно столкнулись с таким словесным противоречием.
– Как это?
– Когда природа людей неодинакова, то и занятия их должны быть разные; это мы мужественно отстаивали, а к спорам дали повод имена: ведь мы совсем не рассматривали, в чем состоит видовое различие или сходство природных свойств, и не определили, к чему тяготеет то и другое, когда назначали различные занятия людям различной природы и одинаковые тем, кто одинаков.
– В самом деле, мы этого не рассматривали.
9.3.11. – Так вот нам представляется, как видно, возможность задать самим себе следующий вопрос: одинаковы ли природные свойства людей плешивых и волосатых или противоположны? Когда мы признаем, что противоположны, то спросим снова: если плешивые сапожничают, то позволено ли делать это и волосатым, а если сапожничают волосатые, позволено ли это плешивым?
– Спрашивать об этом смешно!
9.3.12. – Смешно по какой-то иной причине, чем тогда, когда мы определили сходство и различие природы женщин и мужчин не вообще, но ограничились только тем видом их различия или сходства, который связан с их занятиями: например, мы говорили, что и врач, и те, кто лишь в душе врачи, имеют одни и те же природные свойства. Или, по-твоему, это не так?
– По-моему, так.
– А у врача и плотника различные природные свойства?
– Конечно.
9.3.13. – Значит, если обнаружится разница между мужским и женским полом в отношении к какому-нибудь искусству или иному занятию, мы скажем, что в таком случае надо и поручать это дело соответственно тому или иному полу. Если же они отличаются только тем, что существо женского пола рожает, а существо мужского пола оплодотворяет, то мы скажем, что это вовсе не доказывает отличия женщины от мужчины в отношении к тому, о чем мы говорим. Напротив, мы будем продолжать думать, что у нас и стражи, и их жены должны заниматься одним и тем же делом.
– И правильно будем думать.
9.3.14. – Стало быть, после этого мы предложим тому, кто утверждает противное, просветить нас, указав, в отношении к какому искусству или занятию – из числа относящихся к государственному устройству – природа женщины и мужчины не одинакова, а различна.
– Справедливое требование!
9.3.15. – Правда, как ты говорил немного раньше, так, возможно, и кто-нибудь другой скажет, что нелегко отвечать с ходу, но что, поразмыслив, он с этим без труда справится.
– Возможно, он так и скажет.
9.3.16. – Хочешь, мы попросим того, кто выдвигает эти возражения, последовать за нами и посмотреть, удастся ли нам доказать ему, что по отношению к занятиям, связанным с государственным устройством, у женщины нет никаких особенностей.
– Очень хочу.
9.3.17. – Ну-ка, скажем мы ему, отвечай. Ты говорил так: “Один уродился способным к чему-нибудь, другой – неспособным; один легко научается чему-либо в деле, другой – с трудом; один, и немного поучившись, бывает очень изобретателен в том, чему обучался, а другой, хоть долго учился и упражнялся, не усваивает даже того, чему его обучали. У одного телесное его состояние достаточно содействует его духовному развитию, другому оно, напротив, только мешает”. Так или не так разделил ты тех, кто от природы способен к какому-нибудь делу, и тех, кто не способен?
– Всякий скажет, что так.
9.3.18. – А знаешь ли ты хоть какое-нибудь из человеческих занятий, в котором мужчины не превосходили бы во всем женщин? Стоит ли нам распространяться о том, как женщины ткут, пекут жертвенные лепешки, варят похлебку? Считается, что в этом-то женский пол кое-что смыслит, – вот почему больше всего осмеивают женщину, если она не справляется и с этим.
– Ты верно говоришь; попросту сказать, этот пол во всем уступает тому. Однако многие женщины во многих отношениях лучше многих мужчин, хотя в общем дело обстоит так, как ты говоришь.
9.3.19. – Значит, друг мой, не может быть, чтобы у устроителей государства было в обычае поручать какое-нибудь дело женщине только потому, что она женщина, или мужчине – только потому, что он мужчина. Нет, одинаковые природные свойства встречаются у живых существ того и другого пола, и по своей природе как женщина, так и мужчина могут принимать участие во всех делах, однако женщина во всем немощнее мужчины.
– И даже намного.
9.3.20. – Так будем ли мы поручать все мужчинам, а женщинам – ничего?
– Как можно!
– В таком случае, я думаю, мы скажем, что по своим природным задаткам одна женщина способна врачевать, а другая – нет, одна склонна к мусическому искусству, а другая чужда Музам.
– Так что же?
– А разве иная женщина не имеет способностей к гимнастике и военному делу, тогда как другая совсем не воинственна и не любит гимнастических упражнений?
– Да, это так.
9.3.21. – Что же? И одна склонна к философии, а другая ее ненавидит? Одной свойственна ярость духа, а другая невозмутима?
– Бывает и так.
9.3.22. – Значит, встречаются женщины, склонные быть стражами и не склонные. Разве мы не выбрали и среди мужчин в стражи тех, кто склонен к этому по природе?
– Конечно, выбрали именно таких.
– Значит, для охраны государства и у мужчин, и у женщин одинаковые природные задатки, только у женщин они слабее, а у мужчин сильнее.
– Выходит так.
– Значит, для подобных мужчин надо и жен выбирать тоже таких, чтобы они вместе жили и вместе стояли на страже государства, раз они на это способны и сродни по своей природе стражам.
– Конечно.
– А кто одинаков по своей природе, тем надо предоставить возможность заниматься одинаковым делом.
– Да, одинаковым.
9.3.23. – Значит, мы, совершив круг, вернулись к исходному положению и признаем, что предоставление женам стражей возможности заниматься и мусическим искусством, и гимнастикой не противоречит природе.
– Нисколько не противоречит»[188].
9.3.24. Во всем этом рассуждении на примере женщин Платон учит нас находить и различать сходства и различия природы сравниваемых предметов.
9.3.25. Ведь женщины подобны мужчинам в силу того, что являются разумными существами, то есть восприимчивыми к науке; однако поскольку мужской пол сильнее во всяком деле и лучше постигает науки, а женщины слабее и к наукам менее способны, то в этом состоит их различие. Другое несходство состоит в том, что они, являясь самками, из-за этого пригодны к вынашиванию плода; ведь у женщин есть некоторые части тела, от природы приспособленные для беременности, а у мужчин их нет.
9.3.26. Поэтому истинным будет высказывание: в одном отношении женщины устроены подобно мужчинам, а в другом отношении – противоположно.
9.3.27. Итак, прав будет тот, кто совершит перенос с одного на другое в том, в чем они подобны, но неправ будет тот, кто совершит этот переход в том, в чем они несходны, и тем более в том, в чем они противоположны.
9.3.28. Ведь как Гиппократ в сочинении «О врачебном кабинете» написал, что мы должны «исследовать сначала сходства и различия», а в «Прогностике» добавил понятие противоположного, говоря относительно лица, что «то, которое наибольше от него отступает, является самым опасным», так же, как мы видим, ведет доказательство в приведенном рассуждении и Платон.
9.4.1. Приведем еще один отрывок из написанного Гиппократом в качестве примера того, как различить сравниваемые объекты, выделяя сходства и различия.
9.4.2. В сочинении «О суставах» есть такой отрывок: «Узнать вывихи плеча можно по следующим признакам: так как люди имеют правильное тело, руки и ноги, то следует сравнивать, например, член здоровый с больным и член больной со здоровым, но не рассматривать суставы другого человека (ибо одни имеют более выдающиеся суставы, чем другие), а самого больного – отличается ли у него здоровый член от больного.
9.4.4. Это, конечно, правильно сказано, но так можно легко совершить ошибку; поэтому недостаточно знать медицину только в теории, но следует иметь также знакомство с ней и на практике, ибо многие вследствие боли или по другой причине, хотя вывиха у них и нет, не могут, однако, принимать тех положений, какие принимает здоровое тело;
9.4.5. поэтому и такое положение следует понять и осмыслить. Однако, с одной стороны, головка плеча в подмышечной области больше выступает с той стороны, где вывих, чем со здоровой;
9.4.6. с другой стороны, и вверху, около верхней части плеча, образуется углубление и акромион кажется выступающим, так как сустав низводится к нижнему месту.
9.4.7. Это также может вызвать ошибочное понимание, но об этом будет написано после, ибо дело достойно того, чтобы о нем писать.
9.4.8. Кроме того, локоть вывихнутой руки кажется более отстоящим от ребер, чем в здоровой. Если кто-либо, однако, применит силу, то локоть становится на свое место, но с болью.
9.4.9. Наконец, больной никак не может поднять руку вверх к уху, вытянув локоть, как он делает это здоровой рукой; не может он также производить вывихнутой рукой движения взад и вперед»[189].
9.4.10. Это рассуждение Гиппократа подобно рассуждению в «Прогностике». Ведь и там он предписал нам, глядя на лицо больного, прежде всего обращать внимание на то, сходно оно или несходно с лицом здорового человека, и прежде всего – с лицом самого пациента, когда он был здоров. Таким же образом здесь вывихнутый сустав он сравнивает со здоровым, и именно со здоровым суставом самого пострадавшего. Ведь он подчеркивает, что, производя сравнение с суставами другого человека, врачи часто впадают в ошибку.
9.4.11. И все же, как в отношение отдельных частей тела возможно распознать, подобна ли пострадавшая часть находящейся в естественном состоянии, как он говорит в «Прогностике», так же и здесь, написав прекрасно и обо всем остальном, он подчеркнул, что одним из источников ошибки является сходство других состояний с вывихом сустава.
9.4.12. Ведь верхняя часть плеча бывает расположена низко не только при вывихе сустава, но и при отрыве акромиона; поэтому при постановке диагноза это состояние часто путают с вывихом, поскольку при отрыве акромиона и вывихе имеется общий признак.
9.4.13. Итак, здесь он снова показывает на одном примере то, что в общем виде было разъяснено в сочинении «О врачебном кабинете», то есть говорит не только о сходствах, но и о различиях признаков двух болезней.
9.4.14. Итак, полой верхняя часть плеча оказывается в обоих случаях, но из других симптомов вывиха плеча, которые он перечисляет, ни один не наблюдается при отрыве акромиона: эти симптомы он в приведенном выше отрывке описывает следующим образом:
9.4.15. «В вывихнутой руке локоть кажется более отстоящим от ребер, чем в здоровой. Если кто, однако, применит силу, то локоть приводится, но с болью.
9.4.16. Наконец, больной никак не может поднять руку вверх к уху, вытянув локоть, как он делает это здоровой рукой; не может он также производить вывихнутой рукой движения взад и вперед»[190].
9.4.17. Все это наблюдается при вывихе, но ничего подобного не происходит с теми, у кого оторван акромион; иными словами, общее у этих состояний – только то, что верхняя часть плеча оказывается полой.
9.4.18. Но и в этом общем есть не только сходство, но и различие. Ведь это место кажется более низко расположенным, однако в действительности не смещается ниже своего естественного положения, как это бывает при вывихе плеча.
9.4.19. Ведь при вывихе плеча головка плечевой кости опускается в область подмышки, а ком, прежде находившийся в верхней части плеча, действительно пропадает. При отрыве же этот ком сохраняет прежнее положение, а при перемещении акромиона вверх создается ложное впечатление смещения этой зоны вниз.
9.4.20. В любом случае имеет смысл привести еще один отрывок из сочинения «О суставах», в котором Гиппократ показывает, как сходства и различия разных форм одной болезни вводят в заблуждение многих врачей.
9.4.21. При смещении позвонка вперед позвоночник в этом месте смещается вниз.
9.4.22. Иногда же, когда обломаны задние отростки позвонка, из которых получается позвоночный гребень, это место оказывается полым и впалым, как и при смещении позвонков вперед.
9.4.23. Эта болезнь легко излечима, другая же весьма пагубна. Некоторые врачи, не зная различия между ними, как говорит Гиппократ, думают, что они без труда излечат смещение позвонков вперед.
9.4.24. Он называет это смещение не только «смещением вперед», но и «смещением внутрь», имея в виду под словом «внутрь» внутреннюю часть тела, а под словом «снаружи» – его переднюю и заднюю поверхность.
9.4.25. Вот его рассуждение об этом: «С одной стороны, позвонок нелегко выталкивается назад, разве кто-либо спереди будет ранен через живот (но тогда он умрет) или если кто, будучи сброшен с высокого места, ударится оземь бедрами или плечами (но и этот также умрет, если тут же не погибнет); с другой стороны, не легко произойдет такое выскальзывание вперед, если только не обрушится какая-нибудь чрезмерно большая тяжесть, ибо каждая из костей, выдающаяся кзади, такова, что она сломается, прежде чем произойдет большое отклонение вперед, и под влиянием насилия связки и сочленения разрушатся. Кроме того, и спинной мозг будет страдать, если будет согнут на ограниченном месте, когда позвонок выскользнет таким образом и, выскочив, прижмет спинной мозг, если даже не разорвет его. Сдавление же и защемление мозга приводит к параличу больших и важных частей тела, поэтому у врача не будет даже стремления как-нибудь исправить позвонок, раз имеются многие другие сильные повреждения.
9.4.26. Очевидно, в этом случае вправление невозможно ни через встряхивания, ни каким-либо другим способом, разве кто, разрезав человека и введя в живот руку, сделает исследование и рукой оттолкнет обратно изнутри кнаружи; но это может быть сделано на мертвом, а не на живом человеке. Почему я об этом пишу?
9.4.27. Потому что некоторые думают, будто они лечили людей, у которых позвонки выпали внутрь, совершенно выйдя из суставов; действительно, некоторые считают, что из всех вывихов этот легче всего проходит и что нет нужды ни в каком вправлении, но что выздоровление наступает само собой.

