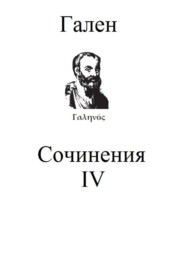 Полная версия
Полная версияСочинения. Том 4
8.9.6. οὐ ταὐτὸν δ’ ἐστὶν ἢ ψεῦδός τι λέγειν ἢ καταγέλαστον, ἐπεί τοι καὶ αὐτὸν ᾿Ερασίστρατον ἐδείξαµεν ἔν τε τῷ Περὶ χρείας ἀναπνοῆς καὶ σφυγµῶν χρείας τε ἅµα καὶ γενέσεως, ἔτι δὲ καταπόσεώς τε καὶ πέψεως ἐσφαλµένον· ἀλλ’ οὐ κατεγελάσαµεν αὐτοῦ διότι µὴ πᾶν τὸ ψεῦδος εὐθύς ἐστι καὶ καταγέλαστον, ἐπεί τοι καὶ περὶ φλεγµονῆς γενέσεως καὶ πυρετοῦ διαγνώσεως ἔν τε τοῖς περὶ φλεβοτοµίας λόγοις καὶ ἄλλοις τισὶ θεραπευτικοῖς λογισµοῖς ἐδείχθη ἐσφαλµένος.
8.9.7. καὶ µέντοι καὶ τῶν ἀπ’ αὐτοῦ τις ἀντιστρέψας τὸν λόγον ἡµᾶς φησι περὶ τούτων, οὐκ ᾿Ερασίστρατον, ἐσφάλθαι, οὐ µὴν οὔτε ἡµεῖς ἐκείνου καταγελάσοµεν οὔτ’ ἐκεῖνος ἡµῶν· ἀδήλων γὰρ ὄντων τῶν δογµάτων καὶ τῇ διὰ τοῦ λόγου πίστει τοῖς µὲν πιθανῶν, τοῖς δ’ ἀπιθάνων φαινοµένων ὥσπερ τὸ τοῖς δόξασιν ἀληθέσιν εἶναι συναγορεύειν ἀνεµέσητόν ἐστιν, οὕτω καὶ τὸ συγχωρεῖν ἑτέροις ἀντιλέγειν αὐτοῖς.
8.9.8. τὸ δὲ σκώπτειν καὶ καταγελᾶν ὡς ἠλίθιον ὃ δογµατικῶς ἀµφισβητεῖται, προπετές· οἷόν [ἂν] ἐστι καὶ τὸ παραρρεῖν τι τοῦ πόµατος εἰς τὸν πνεύµονα διά τε τοῦ λάρυγγος καὶ τῆς τραχείας ἀρτηρίας, οὐκ ἀθρόον οὐδὲ διὰ µέσης τῆς εὐρυχωρίας τοῦ ὀργάνου φερόµενον, ἀλλὰ περὶ τὸν χιτῶνα αὐτὸν δροσοειδὲς καταρρέον.
8.9.9. Tοῦτο µὲν οὖν εἴτ’ ἀληθὲς εἴτε ψεῦδός ἐστιν, ὀλίγον ὕστερον ἐπισκεψόµεθα. τὸν δὲ καταγέλαστον ὄντως λόγον, ὡς οὐκ εἰς τὴν γαστέρα φέροιτο διὰ τοῦ στοµάχου τὸ ποτὸν ἀλλ’ εἰς τὸν πνεύµονα διὰ τῆς ἀρτηρίας ἅπαν, οὐδαµόθι Πλάτων εἶπεν.
8.9.10. ἐν γοῦν αὐτῷ τούτῳ τῷ βιβλίῳ καθ’ ὃ τὴν προειρηµένην περὶ τοῦ πόµατος ῥῆσιν ἔγραψεν, εἰς τὴν κοιλίαν ἔφη τὸ πινόµενον ὥσπερ τὰ σιτία φέρεσθαι.
8.9.11. καὶ οὐχ ἅπαξ τοῦτ’ εἶπεν ἀλλὰ πάνυ πολλάκις, ὡς ἔνεστί σοι µαθεῖν ἐκ τῶν ῥήσεων αὐτοῦ, πρώτης µὲν τῆσδε µετὰ τέτταρας πρώτους στίχους τῆς προειρηµένης ὑπ’ αὐτοῦ ῥήσεως γεγραµµένης·
8.9.12. “τὸ δὲ δὴ σίτων τε καὶ ποτῶν ἐπιθυµητικὸν τῆς ψυχῆς καὶ ὅσων ἔνδειαν διὰ τὴν τοῦ σώµατος ἴσχει φύσιν, τοῦτο εἰς τὸ µεταξὺ τῶν φρενῶν καὶ τοῦ πρὸς τὸν ὀµφαλὸν ὅρου κατῴκισαν.”
8.9.13. οὐκ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ τῷ πνεύµονί φησι τὸ τῶν σιτίων καὶ ποτῶν ἐπιθυµητικόν, ἀλλὰ κατωτέρω τοῦ διαφράγµατος εἶναι. φρένας γὰρ οὐχ οὗτος µόνος ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι παλαιοὶ τὸ διάφραγµα προσηγόρευον.
8.9.14. κατωτέρω δὲ τῶν φρενῶν τούτων ἥ τε γαστὴρ κεῖται καὶ τὰ ἔντερα καὶ τὸ ἧπαρ αὐτό, περὶ οὗ νῦν ποιεῖται τὸν λόγον.
8.9.15. καὶ µέντοι καὶ µετ’ ὀλίγα πάλιν φησί· “τὴν ἐσοµένην ἡµῖν ποτῶν καὶ ἐδεσµάτων ἀκολασίαν ᾔδεσαν οἱ ξυντιθέντες ἡµῶν τὸ γένος, καὶ ὅτι τοῦ µετρίου καὶ ἀναγκαίου διὰ µαργότητα πολλῷ χρησοίµεθα πλέονι.
8.9.16. ἵν’ οὖν µὴ φθορὰ διὰ νόσους ὀξείας γίγνοιτο καὶ ἀτελὲς εὐθὺς τὸ γένος τὸ θνητὸν τελευτῴη, ταῦτα προορώµενοι τῇ <τοῦ περι>γενησοµένου πόµατος ἐδέσµατός τε ἕξει τὴν ὀνοµαζοµένην κάτω κοιλίαν ὑποδοχὴν ἔθεσαν.”
8.9.17. καὶ κατωτέρω δὲ πάλιν ἐν ταὐτῷ συγγράµµατι τάδε γράφει· “ταὐτὸν δὴ καὶ περὶ τῆς παρ’ ἡµῖν κοιλίας διανοητέον ὅτι σιτία µὲν καὶ ποτὰ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐµπέσῃ στέγει, πνεῦµα δὲ καὶ πῦρ µικροµερέστερα ὄντα τῆς αὑτῆς συστάσεως οὐ δύναται.”
8.9.18. πάλιν οὖν κἀνταῦθα σαφῶς εἶπεν εἰς τὴν κοιλίαν ἡµῶν ἀφικνεῖσθαι τά τε σιτία καὶ τὰ πόµατα, καὶ τοῦ γ’ ἐν αὐτῇ κατὰ τὴν τούτων µίξιν γενοµένου χυµοῦ τὴν εἰς τὰς φλέβας ἀνάδοσιν ὑδρείαν ὠνόµασε διὰ τὴν ὑγρότητα λέγων ἐφεξῆς τοῖς προγεγραµµένοις οὕτως· “τούτοις οὖν κατεχρήσατο ὁ θεὸς εἰς τὴν ἐκ τῆς κοιλίας ἐπὶ τὰς φλέβας ὑδρείαν.”
8.9.19. κἀν τοῖς ἑξῆς δὲ πάλιν οὐ µετὰ πολλὰ τῶν εἰρηµένων ὧδέ πώς φησι· “ὅταν γὰρ εἴσω καὶ ἔξω τῆς ἀναπνοῆς ἰούσης τὸ πῦρ ἐντὸς συνηµµένον ἕπηται, διαιωρούµενον δ’ ἀεὶ διὰ τῆς κοιλίας εἰσελθὸν τὰ σιτία καὶ ποτὰ λάβῃ, τήκει δὴ καὶ κατὰ [τὰ] σµικρὰ διαιροῦν διὰ τῶν ἐξόδων ᾗπερ πορεύεται διάγον οἷον ἐκ κρήνης ἐπ’ ὀχετοὺς ἐπὶ τὰς φλέβας ἀντλοῦν ταῦτα ῥεῖν [ἢ] ὥσπερ αὐλῶνος διὰ τοῦ σώµατος τὰ τῶν φλεβῶν ποιεῖ ῥεύµατα.”
8.9.20. καὶ διὰ τῶν ἑξῆς δὲ φυλάττειν φαίνεται τὴν αὐτὴν γνώµην ἔν τε τοῖς περὶ τῆς ἀναπνοῆς καὶ πέψεως λόγοις ἅπασιν· ὥστε τῆς µὲν ἠλιθίου δόξης ἀπήλλακται καὶ χρὴ τοὺς οἰηθέντας αὐτὸν οὕτως ἀνόητον ὑπάρχειν ὡς ὑπολαβεῖν εἰς πνεύµονα φέρεσθαι τὸ ποτὸν ἅπαν, αὐτοὺς ἐγκαλεῖσθαι µᾶλλον ἐφ’ οἷς καταψεύδονται.
8.9.21. Περὶ δὲ τοῦ φέρεσθαί τι τοῦ πόµατος εἰς τὸν πνεύµονα περὶ τὸν ἔνδοθεν χιτῶνα τοῦ τε λάρυγγος καὶ τῆς τραχείας ἀρτηρίας βουλόµενός τις αὐτὸς ἀφ’ ἑαυτοῦ πειραθῆναι δύναται λαβὼν µὲν ἑστὼς τοῦ ὕδατος εἰς τὸ στόµα δαψιλές, εἶτα κατακλιθεὶς ὕπτιος ὑπανοίγων τε βραχὺ τὸ στόµιον τοῦ λάρυγγος· ἐφ’ ἡµῖν γάρ ἐστιν ἀνοιγνύναι τε καὶ κλείειν αὐτό.
8.9.22. παραρρέοντος γάρ τινος εἰς αὐτὸν ἐκ τοῦ στόµατος αἰσθήσεται βραχέος, ὃ δὴ καὶ γαργαλίζει καὶ παροξύνει πλέον γενόµενον.
8.9.23. ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ἐρεθιζοµένην βῆχα καρτερήσας τις δύναται κατασχεῖν ὡς αὐτίκα παύσασθαι, βραχέος τοῦ γαργαλίζοντος ὄντος.
8.9.24. ἐνίοτε δὲ καὶ βηχίον µικρὸν γενόµενον ἐσκέδασε τὸ γαργαλίζον οὐδεµιᾶς ἀναπτύσεως γενοµένης· ᾧ καὶ δῆλόν ἐστι τὸ ἀθρόον πόµα καὶ πολὺ καὶ τοσοῦτον ὡς καταλαµβάνειν τὰς ὁδοὺς τοῦ πνεύµατος ἐρεθίζον τὸ ζῷον εἰς βῆχα, τὸ δ’ οὕτως ὀλίγον ὡς περὶ τὸν ἔνδον χιτῶνα τοῦ λάρυγγός τε καὶ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ἐκχεῖσθαι δροσοειδῶς οὔτε ἐρεθίζον οὔθ’ ὅλως αἴσθησιν ἐργαζόµενον ἑαυτοῦ κααφεροµένου διὰ τῆς ἀρτηρίας.
8.9.25. ἀλλ’ εἰ καὶ ζῷον ὅ τι ἂν ἐθελήσῃς διψῆσαι ποιήσεις ὡς κεχρωσµένον ὕδωρ ὑποµεῖναι πιεῖν, εἰ δοίης εἴτε κυανῷ χρώµατι χρώσας εἴτε µίλτῳ, εἶτ’ εὐθέως σφάξας ἀνατέµοις, εὑρήσεις κεχρωσµένον τὸν πνεύµονα. δῆλον οὖν ἐστιν ὅτι φέρεταί τι τοῦ πόµατος εἰς αὐτόν.
Книга восьмая
8.1.1. Решив рассмотреть учения Гиппократа и Платона, мы первым делом объяснили, что для врачебного искусства и для философии важнее всего установить, управляет человеком множество сил или одна. Затем, обратившись к исследованию их в соответствии с аподиктическим методом, мы сказали о том, что источник восприятия и самопроизвольного движения находится в руководящем начале души; в данном случае нет никакой разницы, сказать «самопроизвольно» или «по собственному побуждению».
8.1.2. Совершенно очевидно, что одни движения производятся, когда вытягиваются и сжимаются члены при ходьбе, беге, в положении стоя и при других подобных действиях. Движения сердца и артерий, происходящие непроизвольно, – иного рода, как и распределение пищи, которое является еще одним видом движения.
8.1.3. Однако, начав с движений произвольных, при которых действует та часть души, которая, собственно, и называется руководящей, мы показали, что лишь один довод, если брать предпосылки из сущности самого предмета исследования, заслуживает внимания с научной точки зрения, а именно довод, согласно которому руководящее начало души находится там, где начинаются нервы.
8.1.4. Вот важнейшая предпосылка нашего рассуждения, признанная всеми врачами и философами, связанное же с ней допущение, согласно которому «начало нервов находится в головном мозге», является истинным, а допущение «начало нервов находится в сердце» – ложным. Всякий может использовать это последнее положение и даже приводить его в беседе с несведущими в анатомии людьми, однако доказать его невозможно.
8.1.5. Ведь все части тела живых существ снабжены нервами: одни нервы достигают соответствующих частей тела непосредственно из головного мозга, другие – через спинной.
8.1.6. Стало быть, в нашем многословии повинны в первую очередь те, кто неверно истолковал очевидные явления, а не Гиппократ, или Эрасистрат, или Эвдем, или Герофил, или Марин, который вслед за древними восстановил изучение анатомии, одно время пребывавшей в забвении. А если бы они описывали явления, опираясь на результаты анатомических исследований, нам незачем было бы долго рассуждать, поскольку вопрос можно было бы разрешить при помощи одного-единственного доказательства.
8.1.7. Вот мы поневоле и пустились в долгие рассуждения с самого начала первой книги по вине людей, которые брались описывать то, чего они никогда не видели, как будто все видели в точности, и из-за них мы были вынуждены изложить в общих чертах анатомию нервов и артерий.
8.1.8. А во второй книге мы показали, что наиболее убедительные рассуждения о руководящем начале души они выстроили, не согласуясь с аподиктическим методом, однако одни из этих рассуждений ближе к научным (те, которые Аристотель обычно называет диалектическими), а другие – дальше (те, которые мы разделяем на риторические и софистические).
8.1.9. Это я сделал как из-за самой сути предмета, так и ради моих последователей, которые хотят, чтобы разные виды аргументов были сопоставлены в отношении одной проблемы, ведь такая практика будет полезной для множества других случаев.
8.1.10. А когда Хрисипп привел рассуждение такого рода: «Где страсти души, там и руководящее начало, а страсти души в сердце – именно в нем, стало быть, и руководящее начало», я указал, что в первоначальной посылке он охватывает самую суть предмета изыскания.
8.1.11. Ведь если, согласно Платону, разумное начало находится в голове, яростное – в сердце, а вожделеющее – в печени, Хрисиппу следовало бы прежде всего опровергнуть то, что говорил, подкрепляя свое учение, Платон, а не просто привести свое мнение, полагая, что оно более достойно доверия, чем доводы Платона.
8.1.12. И я показал, что Хрисипп даже не пытается в своих сочинениях опровергнуть рассуждение Платона.
8.1.13. Итак, все, кто еще не причастен к философии, – и геометры, и арифметики, и математики, и астрономы, и архитекторы, а также музыканты, знатоки солнечных часов, риторы и грамматики и вообще любой, преуспевший в разумных науках, – все они имеют твердое убеждение, что опровергнуты доводы всех прочих, кто бы ни писал о руководящем начале души, а доводы Гиппократа и Платона являются истинными.
8.1.14. Так как последователи Хрисиппа все еще хвалят его книги «О страстях», в которых он будто бы показал, что к разумному началу души относятся страсти – гнев, страх, печаль и прочие в этом роде, – то из-за них я вынужден был показать, что Хрисипп в книге «О страстях» не только утверждает много ошибочного, но при этом еще и противоречит самому себе. Поэтому я добавил к первым двум следующие три книги, сразу же показав в них, что даже Посидоний, наиболее ученый среди стоиков благодаря занятиям геометрией, отмежевался от Хрисиппа и в своем трактате «О страстях» утверждает, что нами управляют три силы: вожделеющая, яростная и разумная. Согласно Посидонию, этого мнения придерживался и Клеанф.
8.1.15. Причем он утверждает, что аргумент о добродетелях приводит к правильному заключению, если опираться на эти основания, и именно это он показывает в большом сочинении, составленном им особо.
8.1.16. Поэтому в том, что речи эти длинны, виноват не я, а те, кто поспешно хвалит писания Хрисиппа о руководящем начале души и о страстях.
8.1.17. Я заранее решил все это пропустить и оставить без опровержения: призываю всех богов в свидетели, что сам я стыжусь опровергать эти бесстыдные доводы, полагая, что большинству лучше остаться в неведении, дабы их не оскорбляло зрелище философов, пишущих о вещах, которых они никогда не видели, так, будто бы видели их. Ведь самим им придется меньше стыдиться, если их не станут уличать во лжи.
8.1.18. Также стыдно мужам, состарившимся в занятиях философией, не знать, что на научных основаниях сформулирован один-единственный довод о руководящем начале души: тот, по которому истинной посылкой считается, что начало нервов – в головном мозге, а ложной – что оно в сердце.
8.1.19. Так что не только в пяти книгах не было необходимости распространяться о руководящем начале души, но и в одной не было нужды, по крайней мере для тех, кто понимает, что такое научное доказательство[134], что подобает, как я утверждаю, скорее философам, чем геометрам, арифметикам, математикам, астрономам и архитекторам, однако не практикуется ими, в отличие от упомянутых ученых.
8.1.20. По этой причине Эвклид в одной-единственной теореме – первой в книге «Явлений» – показал в чрезвычайно кратких словах, что Земля находится в середине космоса и имеет для него значение центра и отправной точки, и его ученики также верят логике этого доказательства, как тому, что дважды два – четыре. А иные философы такое болтают о размерах и положении Земли, что кому угодно станет стыдно за философию.
8.1.21. Ведь, когда те, кто вечно призывает ничего не творить и не говорить поспешно, сами на деле оказываются таковыми, а ни один из названных выше специалистов не считает себя мудрецом, как это делают они, доказательства же применяют надлежащим образом, совершенно не враждуя, не вступая друг с другом в разногласия и не выставляя себя на посмешище в том, чего не ведают, – как тут не устыдиться за философию?
8.1.22. Итак, истинное высказывание является кратким, как я сейчас покажу тебе. Для того чтобы достигнуть цели, понадобятся лишь несколько слогов, и вот они: «Где начало нервов, там и руководящая часть души, а начало нервов находится в головном мозге. Там, стало быть, и руководящая часть души».
8.1.23. Это рассуждение состоит из тридцати девяти слогов, что соответствует двум с половиной стихам гекзаметра, а вот другое, длиною в пять стихов: «Где страсти души наиболее явно приводят в движение части тела, там и находится страстное начало; но очевидно, что при гневе и страхе сердце существенно изменяет движение, – выходит, что в нем-то и находится страстное начало души».
8.1.24. Если же ты соединишь эти два высказывания, то общее число гекзаметрических стихов в них будет не более восьми.
8.1.25. Выходит, кто в ответе за то, что нам пришлось написать пять книг о положении, которое можно научно доказать в восьми гекзаметрах? Разумеется, не мы, а философы, не желающие применять простые доказательства; за этих философов, как я сказал, бывает стыдно.
8.1.26. А кто в ответе за то, что и шестая книга, в дополнение к предыдущим, посвящена третьему началу, на котором, несомненно, следует остановиться подробно, но не настолько, чтобы писать целую книгу? Те, кто не умеют понять простые доказательства, между тем как доказательство этого тезиса укладывается в несколько основных положений.
8.1.27. Ведь очевидно, что даже у растений наиболее толстые части растут от основания, что же касается двух ранее обсуждавшихся начал – начал нервов и артерий, – то подобное стволу находится при основании, а то, которое можно уподобить ветвям, появляется по мере роста ствола.
8.1.28. Одна эта посылка доказана посредством очевидных фактов, вторая же, в дополнение к ней, состоит в том, что вены – это орудия присущей нам растительной функции, которая роднит нас с растениями, между тем как небольшие сосуды достигают желудка и кишечника, точь-в-точь как корни деревьев – земли, и все они происходят от одного сосуда при воротах печени, а непосредственно из печени начинается самая большая вена, которую называют полой, и от нее наподобие ветвей расходятся по всему телу другие вены.
8.1.29. Исходя из этого можно заключить, что вены берут свое начало в печени, а отсюда, в свою очередь, следует, что этот внутренний орган является источником функции, объединяющей нас с растениями; Платон называет эту функцию «вожделеющей».
8.1.30. Вот одно доказательство того, что печень является источником вожделеющей функции и вен, второе же выводится из того, что у живого существа нет другого органа, с которым были бы связаны все вены.
8.1.31. Ведь о полой вене, исходящей из выпуклой поверхности печени, иные говорят, что она растет из правого желудочка сердца.
8.1.32. Так вот, если действительно из нее, наподобие ветвей, по всему телу распространяются вены, их общим источником приходится считать сердце.
8.1.33. Но те вены, которые идут из неровной поверхности печени, наподобие корней, к желудку, тощей, тонкой, слепой и к толстой кишке, и к той, что называют прямой, к селезенке и к сальнику, растут не из полой вены: источником всех этих вен является другая вена, расположенная при воротах печени.
8.1.34. Как же тогда источником вен окажется правый желудочек сердца, если ни названные вены, ни вены на неровностях печени с сердцем не связаны?
8.1.35. А печень соприкасается и со всеми этими венами, и с теми, что распространяются по всему телу, через вену, растущую из выпуклых ее частей, которую большинство врачей называют полой из-за ее размера, а Гиппократ и его последователи называют также печеночной – по названию внутреннего органа, из которого она растет.
8.1.36. И это, к твоему сведению, уже второе доказательство того, что печень есть начало всех вен, а потому является также и источником питающей функции.
8.1.37. А вот еще одно, третье, дополнительное доказательство: если мы допустим, что полая вена берет начало из правого желудочка сердца, это пойдет вразрез с тем, что явно наблюдается при вскрытии рыб.
8.1.38. В самом деле, ни у одной из них сердце не имеет правого желудочка, поскольку эти животные также обходятся и без легких.
8.1.39. А почему правый желудочек сердца имеется или отсутствует заодно с легкими, показано мной в сочинении «О назначении частей тела».
8.1.40. Только что приведенный довод придает учению, как я уже сказал, большую убедительность, примыкает к нему и другой довод такого же рода, основанный на прямизне полой вены.
8.1.41. Ведь видно, как от бугристой поверхности печени до самого горла справа она идет совершенно прямо, без малейшего изгиба, а слева от нее отходит отросток к правому желудочку сердца; этот сосуд, как считают некоторые, можно сказать, является стволом сосудов всего тела.
8.1.42. Однако если бы это было так, то и сама она непременно расщеплялась бы, произрастая из сердца подобно большой артерии, которая, по общему мнению, является источником для всех артерий живого организма: можно видеть, как она расщепляется надвое, едва только выходит из сердца, чтобы одна из ее частей уходила вверх по телу, а другая – вниз.
8.1.43. Выходит, если бы и полая вена вырастала из сердца, то и она, разделившись надвое, подобно этой артерии, частью поднималась бы вверх до глотки, а другою уходила к печени; а коль скоро этого не наблюдается, ясно, что она берет начало не из сердца.
8.1.44. Эти четыре доказательства найдут в шестой книге те, кто понимает, что такое самодостаточное доказательство.
8.1.45. Далее будет приведено и кое-что другое для подтверждения моей позиции, лишенное, впрочем, доказательной силы, которая есть в первых двух аргументах. Кроме того, будет дан определенный ответ тем, кто придерживается иных взглядов.
8.1.46. Так что, будь это в моей власти, вопрос был бы изложен гораздо короче, а за длинноты винить надо не меня, изобличающего ошибочность чужих рассуждений, а их авторов.
8.1.47. Итак, Хрисипп написал три книги под названием «О страстях, сочинение логическое». Я, будучи в состоянии ему возразить и подробно показать, в чем он противоречит самому себе, решил этого не делать, точно так же, как не стал я возражать на все то, что он написал в четырех книгах «О различии добродетелей», за что бранит его даже Посидоний.
8.1.48. Однако, указав на все эти возможные возражения тем, кто в состоянии понимать научные доказательства, я отложил это, чтобы вновь на досуге показать, в чем он противоречит самому себе, равно как и истине очевидных явлений. Итак, я изложил все это в отдельном сочинении.
8.2.1. А теперь, раз уж не терпится многим из моих друзей получить отчет об остальном учении Гиппократа и Платона, я обращусь к этому предмету, начав с природных элементов.
8.2.2. Так вот, элементом той или иной вещи называется наименьшая ее часть. Ведь слово «элемент» (στοιχεῖον) относится к категории относительного, равно как и слово «часть». Ведь и элемент есть элемент чего-либо, и часть есть часть чего-либо.
8.2.3. Стало быть, подобно тому, как в нашем языке, на котором мы друг с другом разговариваем, есть двадцать четыре буквы (στοιχεῖα), так же и мельчайшие части всех рождающихся и преходящих тел – это земля, воздух, вода и огонь; а наименьшим называется то, что уже не подвержено делению.
8.2.4. Ведь деление по величине не может достичь такого «наименьшего», только деление по форме в какой-то момент останавливается, подобно тому, как это происходит с языком.
8.2.5. Если рассмотреть следующее сложное высказывание: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына», то это целое, а слова «гнев» (µῆνιν), «воспой», «богиня», «Пелеева» и «сына» – это его части. Каждая из них, в свою очередь, делится на слоги, а каждый слог опять-таки может быть разделен на буквы.
8.2.6. Таким образом, первый слог «µη» состоит из двух элементов (στοιχείων), но ни один из них не может быть разделен на меньшие звуки, и поэтому мы утверждаем, что звук речи «µη» есть наименьший и неделимый, так же как принято у философов называть Диона неделимой сущностью.
8.2.7. Таким же образом и самым коротким высказыванием Платон признает то, что состоит из существительного и глагола; разумеется, он имеет в виду, что оно является самым коротким как высказывание. Ведь мы называем «кратчайшими», «неделимыми», «элементарными» (στοιχεῖον) вещи, мыслимые как принадлежащие к тому или иному виду, которые уже нельзя разделить на меньшие вещи того же вида.
8.2.8. Итак, в твоем распоряжении есть целая книга сочинения «Медицинские термины», посвященная понятию «элемент». Что до деления тел по величине, геометрами показано, что оно никогда не может прекратиться, но всегда делимое вмещает величину, которая меньше его.
8.2.9. А если остается только деление по виду, признано, в свою очередь, что при делении любого рода существующих вещей находится некий неделимый вид, и именно таковы для физических тел элементы – земля и вода, воздух и огонь.
8.2.10. Мне нет нужды приводить здесь доказательства этого, поскольку я изложил все это уже прежде, в другом месте, а именно в сочинении «Об элементах, согласно Гиппократу», которое было бы написано более внятно, подобно многим другим, если бы я принимал во внимание не только того, кто берется за мою книгу, но и людей менее искушенных, которым, вероятно, предстоит ее читать.
8.2.11. А поскольку многие успели познакомиться с этим сочинением, я решил, что уже не надо писать другое только из-за того, что есть в нем несколько аргументов, нуждающихся в более пространном изложении, в особенности тот, о котором сейчас шла речь, – аргумент о понятии элемента. После того как я основательно проработал эту тему, как я уже сказал, в одной книге, я изложил теперь в общих чертах то, что, пожалуй, могло бы быть сказано в сочинении «Об элементах, согласно Гиппократу», если бы читатель в этом нуждался.
8.2.12. Гиппократ написал книгу «О природе человека», к ней примыкает небольшое сочинение «О диете» и при них «Анатомия вен», книга, которую, по моему мнению, к трактатам «О природе человека» и «О диете» добавил составитель. Наше сочинение «Об элементах, согласно Гиппократу» – это толкование его труда «О природе человека».
8.2.13. Толкование это составлено не так, как это обычно принято у комментаторов, то есть не даются пояснения к каждому слову, но разъясняется только то, что связано с учением, с подобающими доказательствами. Если захочешь с ними познакомиться, приступай к этой книге.
8.2.14. Что до меня, то я не имею обыкновения по многу раз писать одно и то же; здесь я процитирую только те рассуждения Платона, в которых он следует за Гиппократом, говоря, что наши тела состоят из земли, огня, воздуха и воды.
8.2.15. И, хотя то же самое пишет он и в других книгах, здесь нам будет достаточно привести следующее рассуждение из «Тимея»:
8.2.16. «Поскольку тело наше сплотилось из четырех родов – земли, огня, воды и воздуха, стоит одному из них (и огню, и остальным) оказаться в избытке или в недостатке, или перейти со своего места на чужое, так как их более одного, и стоит какой-либо части тела воспринять в себя не то, что нужно, тут же, как и в случае других подобных нарушений, возникают смуты и недуги»[135].
8.2.17. В этом рассуждении Платон ясно показал не только то, что тела состоят из земли, воды, воздуха и огня, но и то, что благодаря тому, что они смешаны между собой в правильной пропорции, мы находимся в своем природном состоянии; именно за счет этого мы пребываем в здравии, а когда что-то оказывается чрезмерным или не на своем месте, мы заболеваем.
8.2.18. Итак, ясно, что избыток или недостаток губит соразмерное смешение, в котором и заключается здоровье первичных тел. Очевидно также, что причиной нездоровья может быть и неуместное положение: это становится ясным, стоит нам подумать о том, как страдает безупречное здоровье органов, относящихся к грудной клетке и трахее, чуть только в них попадает кровь или какая-то иная жидкость.
8.2.19. Однако Платон и сам в рассуждении, непосредственно следующем за приведенным выше, наставит тебя в этом, говоря так: «…от этих несообразных с природой событий и перемещений прохладные части тела разгорячаются, сухие – набухают влагой, легкие – тяжелеют и вообще все тело претерпевает всяческие изменения.
8.2.20. Лишь тогда, утверждаем мы, может что-либо сохранить самотождественность и оставаться целым и невредимым, когда тождественное приближается к тождественному и удаляется от него тождественно, единообразно и в должном соотношении; но все, что нарушает это своим притоком или оттоком, становится причиной неисчислимых и многообразных перемен, недугов и пагуб»[136].

