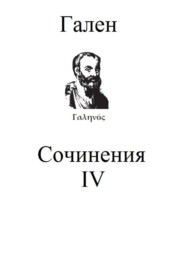 Полная версия
Полная версияСочинения. Том 4
6.1.23. И поэтому, если кто назовет гнев, вожделение или какую-либо из подобных страстей действием или страданием, не следует сразу осуждать его за это, а прежде надлежит спросить о значениях этих слов и о том, что он имеет в виду, когда называет их так.
6.1.24. При этом оказывается, что и сам Платон жажду, голод и вообще желания и гнев называл то действиями, то страданиями.
6.1.25. Более того, чтобы показать, что для его рассуждения не имеет значения, назвать их так или иначе, он пишет в четвертой книге «Государства» следующее: «Далее: кивать в знак согласия и отрицательно качать головой; стремиться получить что-нибудь и отклонять то же самое; привлекать к себе и отталкивать – все подобное этому разве ты не примешь за противоположные друг другу действия или страдательные состояния?»[97]
6.1.26. И, намереваясь еще более наглядно показать это на примерах, он говорит: «И еще дальше: испытывать жажду и голод и вообще вожделения, а также желать, хотеть – все это разве ты не отнесешь к тем видам, о которых у нас только что была речь? Разве ты не скажешь, например, что душа вожделеющего человека стремится к предмету своего вожделения или что она привлекает к себе то, чем хочет обладать? Или другой пример: не скажешь ли ты, что, поскольку ей хочется получить что-нибудь, она кивает в знак одобрения сама себе, словно ее об этом спрашивают, и стремится осуществить свое желание?
– Да, я скажу именно так.
– Что же дальше? “Не хотеть”, “не желать”, “не вожделеть” – разве мы не отнесем все это к тому же виду, что и “отталкивать”, “не принимать душой”, то есть ко всему противоположному?»[98]
6.1.27. Таково рассуждение Платона; в нем ясно показано не только то, о чем мы сказали, а именно, что голод, жажду и вообще желание чего-то, или стремление, или избегание можно называть как деяниями, так и страдательными состояниями, то есть действиями или страданиями, но и сказано о частях души.
6.2.1. Поэтому и хорошо было бы не замалчивать эти слова, но разобрать все рассуждение из четвертой книги «Государства», где Платон говорит о том, что у нас есть три вида души. Здесь следует обратить внимание на то, что сказано там, начиная с самих названий, и не думать при этом, что Платон забыл то, что он сам говорил прежде, когда, только что сказав, что у нас есть три вида души, он сразу после этого говорит, что наша душа делится на три части.
6.2.2. Ведь разумение, ярость и вожделение можно называть и видами, и частями души. Так же кто-нибудь, пожалуй, мог бы сказать, что сухожилия, артерии, нервы, кости, хрящи, мясо и другие подобные вещи есть виды тела, а после этого назвать их частями тела.
6.2.3. Ведь все это можно назвать как частями тела (из них составляется целое), так и его видами, поскольку только для гомеомерий различные части не могут являться разными видами, например части мяса, сухожилий или жира, и о них нельзя сказать, что из этих видов состоит целое. Для того же, что не является гомеомерным, различие видов определяет количество частей. Так, согласно Платону, и наша душа является такого рода вещью, состоящей из трех частей.
6.2.4. Он уподобляет вожделение пестрому многоголовому зверю, ярость – льву, а разум – человеку. Это сравнение подходит лучше, чем то, которое он использует в «Федре», где он сравнивает два вида с лошадьми, а третий – с возницей. Но в девятой книге «Государства» он вспоминает первое сравнение, чтобы понятнее объяснить, каков каждый из видов души.
6.2.5. Итак, Платон, полагая, что они различаются и положением в теле, и сущностью, разумно называет их и видами, и частями. Аристотель и Посидоний называют их не видами или частями души, а способностями одной сущности, устремляющейся из сердца; Хрисипп сводит ярость и вожделение не только к одной сущности, но и к одной силе.
6.2.6. Но то, насколько этот человек уклоняется от истины, уже показано нами достаточно ясно; а то, как заблуждаются Аристотель и его последователи, полагающие, что у всех трех сил одна сущность, было вполне ясно показано в прежних книгах, однако я собираюсь вернуться к этому в следующей.
6.2.7. Но прежде всего покажем на основании слов Платона, что он называет разумное, яростное и вожделеющее и видами, и частями души. Итак, в «Тимее» он говорит, что вожделеющая часть души присуща даже растениям, и рассуждает следующим образом: «Предмет этого нашего рассуждения причастен третьему виду души, который, согласно сказанному прежде, водворен между грудобрюшной преградой и пупом»[99].
6.2.8. Далее в той же книге, рассуждая о разумной части души, он говорит: «Что касается главнейшего вида нашей души, то ее должно мыслить себе как демона[100], приставленного к каждому из нас богом; это тот вид, который, как мы говорили, обитает на вершине нашего тела и устремляет нас от земли к родному небу как небесное, а не земное порождение»[101].
6.2.9. В той же книге он именует и вожделеющее, и яростное начало видами души в следующем рассуждении: «Еще один, смертный, вид души, вложив в него опасные и зависящие от необходимости состояния…»[102].
6.2.10. Далее, он вновь называет три части нашей души видами в той же книге «Тимей», в следующем отрывке: «Как мы уже не раз повторяли, в нас обитают три различных между собой вида души»[103].
6.2.11. Точно так же и в четвертой книге «Государства» он, сначала доказав, что яростное отличается от вожделеющего, затем задается вопросом, отличается ли оно от разумного: «Так отличается ли оно от него, или это только некий вид разумного начала, и выходит, что в душе существуют всего два вида начал: разумное и вожделеющее?»[104]
6.2.12. Так же он пишет и в девятой книге, в следующих словах: «Успокоив эти два вида свойственных ему начал и приведя в действие третий вид»[105], и, кроме того, в следующих: «А когда под сомнение берутся удовольствия и даже сам образ жизни каждого из трех видов людей – не с точки зрения того, чье существование прекраснее или постыднее, лучше или хуже, а просто спор идет о том, что приятнее и в чем меньше страданий, – как нам узнать, кто из них более всех прав?»[106]
6.2.13. Следует ли еще приводить другие высказывания? Ведь и этих достаточно, чтобы прояснить мысль этого мужа. Он думает, что существуют следующие три вида души: разумный, вожделеющий и яростный. В самом деле, он говорит, что они могут существовать и отдельно друг от друга, сами по себе: в растениях – вожделеющий, в богах – разумный.
6.2.14. Дальнейшее рассуждение покажет, почему яростный вид души не способен ни в каком из тел существовать сам по себе, отдельно от других. Для начала мы приведем рассуждение из «Тимея», где речь идет о необходимости, которая породила яростный вид: он появился ради вожделеющего, помогая разумной душе, как некая собака, защищающая от многоголового и дикого зверя – вожделения.
6.2.15. Итак, ясно, что он называет их видами души и в приведенных отрывках, и, кроме того, во многих других, которые нет необходимости приводить здесь, так как и благодаря тем, что приведены, понятно мнение этого мужа. И нет ничего удивительного в том, что все эти виды он также называет и частями души.
6.2.16. Ведь он сам учит нас, во-первых, что вид можно назвать частью, хотя не всякая часть будет видом, во-вторых, что ничто составное нельзя назвать гомеомерным, поскольку оно не является непрерывным и состоит из исчислимого количества частей, а части гомеомерного нельзя сосчитать ввиду их большого количества.
6.2.17. Итак, мне не нужно более говорить о том, что Платон справедливо называет это видами и частями души.
6.3.1. То же, что одно помещается в голове, другое – в сердце, а третье – в печени, мы с самого начала взяли как предмет доказательства и доказали в предыдущих книгах относительно двух частей.
6.3.2. Осталась еще вожделеющая часть, для которой необходимо особое доказательство. Это доказательство и будет приведено в настоящей книге. Однако прежде следует предупредить, что оно не будет исходить из столь очевидных посылок, как предыдущие, и не будет так же ясно проистекать из самой природы исследуемого, но будет опираться на свойства исследуемого.
6.3.3. Ведь, когда нервы перехватываются петлей или рассекаются, можно наблюдать, что части, сохраняющие связь с головным мозгом, сохраняют и свои исходные способности, а те, что по ту сторону петли, тотчас утрачивают чувствительность и движение. Таким же образом и из артерий те, которые соединены с сердцем, сохраняют естественную пульсацию, те же, что оказываются отделены от него петлей, лишаются всякой пульсации.
6.3.4. Конечно, и страдания души, которые случаются в гневе и страхе, очевидно приводят к изменению естественной функции сердца. Мы упоминали и то, что при сжатии головного мозга или повреждении его желудочков страдает все тело. Это ясно показывает, что мозг является источником движения и ощущения.
6.3.5. Относительно же печени мы не можем показать ничего подобного, ни если, обнажив ее, сжимаем, ни если перехватываем вены петлей. Ведь печень не является источником явного движения, как сердце – пульса, а головной мозг – чувства и решения, и ее повреждение не приводит немедленно к возникновению острого болезненного состояния, как повреждения обоих названных органов, но, если у живого существа ослаблена печень, оно со временем худеет и у него изменяется цвет кожи.
6.3.6. Таким же образом, если перехватить петлей или совсем удалить вену, та часть тела, к которой она ведет, со временем становится более худой и бледной, а непосредственно после операции она не претерпевает никакого ущерба, о котором стоило бы говорить.
6.3.7. Ведь печень – источник той способности, которая присуща и растениям. Сейчас назовем ее способностью, однако далее мы покажем более основательно, что печень есть источник многих способностей, и лучше говорить не о способностях, а о сущностях души, содержащихся в каждом из трех внутренних органов: в головном мозге – разумной, в сердце – яростной, в печени – вожделеющей, или, как их называют Аристотель и его последователи, питательной, растительной и производящей, давая название по каждой из способностей: от способности расти – растительная, от способности питать – питательная, от способности производить потомство – производящая. Платон называет эту способность вожделеющей из-за множества вожделений. Стоики, со своей стороны, считают, что то, что управляет растениями, – не душа, а природа.
6.3.8. Итак, пусть называет всякий, как пожелает, но пусть доверяет доказательству в том, что касается различий самих предметов. В настоящей книге мы попытаемся изложить то, что касается печени, как мы прежде сделали в отношении головного мозга и сердца. Мы начнем с наиболее простых вопросов, чтобы, потренировавшись на них, легче найти ответ на вопросы более сложные и вместе с тем получить предпосылки для их разрешения.
6.3.9. Наиболее ясный путь – начать с вен и исследовать, является ли печень их началом, как сердце является началом артерий, а головной мозг – началом нервов, или, как некоторые полагают, сердце посылает естественные силы не только артериям, но и венам.
6.3.10. Лучше всего сначала рассмотреть, как эта сила способствует порождению растений и управляет ими. Ведь, вероятно, так как в них пребывает лишь исследуемая сила, в них же будут более очевидны признаки той части, откуда она исходит.
6.3.11. Любое семя, брошенное в землю, если оно сухо, больше ничего не сможет сделать для рождения растения, поскольку всю его природную влагу в себя впитает земля. Если земля будет умеренно влажной, семя станет мягким, врожденный покров, окружающий его, словно кожа, набухнет и сначала разорвется, когда жидкость, содержащаяся в семени, превратится в газ, а затем вытянется из пробитого места некий побег, тонкий и мягкий, в обе стороны, один – вверх семени, как бы к воздуху, другой – вниз, в глубь земли.
6.3.12. И они обнаруживают непрерывный рост и увеличение в том направлении, куда устремляются с самого начала. Со временем, если это семя большого дерева, один побег, выносимый на поверхность, становится его стволом, другой, уходящий в глубь земли, – корневищем, и каждый делится на множество ответвлений, если это семя ветвящегося дерева.
6.3.13. Итак, то место является общим началом и рождения, и роста всех частей растения, откуда вверх идет ствол, а вниз – корневище, и нам представляется, что управляющая деревом сила устремляется из этого места, словно из некоего очага.
6.3.14. При этом происходит движение в противоположных направлениях: вниз, в глубь земли, где главные корни расщепляются на множество мелких и получившиеся корни растут, и вверх, где ветви вырастают из ствола и, в свою очередь, разделяются на другие вплоть до последних тончайших побегов.
6.3.15. Представляется, что вся верхняя часть, которая есть дерево, произрастает ради самой себя и ради плодов, а та, что внизу, – ради доставления питания. Ведь, проще говоря, тем, чем для животных является рот, для растений являются концы корней, и множество маленьких ртов высасывают из земли пищу, созданную природой.
6.3.16. Теперь следует перенести этот образ на животных и прежде всего исследовать самую большую артерию, которая, подобно стволу, произрастает из сердца и расщепляется, одной, меньшей частью поднимаясь к голове, другой, большей, простираясь к позвоночнику.
6.3.17. Затем следует рассмотреть все ее отростки, распространяющиеся по всему телу, тем способом, о котором было сказано в первой книге, и другую артерию, идущую из того же желудочка сердца, которая ведет в легкие и расщепляется там, подобно нижней части корней, которая распространяется в земле.
6.3.18. Ведь, как растения извлекают из земли все питание посредством корней, так и сердце извлекает из легких воздух посредством названных артерий. Эти две артерии произрастают из сердца, и каждая из них – наибольшая среди своих отростков.
6.3.19. И как у растения самой толстой выступающей из земли частью является ствол, а корневище – самым толстым из всего, что находится внизу, и то место, где они встречаются, является началом растения, так же и артерия, подобная стволу, является самой большой во всем живом существе, а та, которая разветвляется в легких, является самой большой из находящихся в них артерий, само же сердце, где они встречаются, есть начало управляющих ими сил.
6.3.20. Человеку, сведущему в вопросах о природе, и без сказанного очевидно, что большее является началом меньших, как родник, который больше тех ручьев, на которые он разделяется. Впрочем, некоторые впадают в безумие: думают, будто то, что происходит из источника, больше самого источника, обманутые примером рек, которые, совсем маленькие у истоков, расширяются по мере течения, хотя так бывает и не всегда.
6.3.21. Ведь одни из них, принимая в себя другие реки, увеличиваются, другие же, если поток разветвляется, уменьшаются. Но ни одна река, текущая из единственного источника, не имеет верховье меньше продолжения; если же река собирается из многих источников, то естественно заключить, что целое будет больше каждого из них.
6.3.22. Помимо этих примеров, если мы считаем меньшие сосуды в телах живых существ началами больших, то придем к противоречию: нам придется признать, что во всякой части тела есть начало трех органов – артерий, нервов и вен, а если это наше предположение верно, то получится, что пятка или палец есть начало и наибольшей артерии, и полой вены, и спинного мозга: ведь это как бы некие стволы артерий, вен и нервов.
6.3.23. Подобным образом сторонник такого рассуждения и ветки деревьев, и концы корней не постыдится назвать началами растений.
6.3.24. Впрочем, можно сказать, что концы корней есть источники питания дерева, так же как доходящие до желудка вены и артерии, расщепляющиеся в легких. Но вообще говорить, что все концы вен есть начала, – в высшей степени нелепо: ведь ни один из них, кроме описанного случая, не является ни источником питания, ни началом руководящей силы; в противном случае всякий орган окажется началом.
6.3.25. Если же они отвечают, что некоторые из концов – начала, а некоторые – не начала, то эту гипотезу следует признать недоказуемой. Ведь почему одни концы должны считаться началами, а другие – нет? Например, почему должны считаться началами те, что в головном мозге, а не те, что в легких; или не те, что в легких, а те, что в печени или в селезенке; или не эти, а те, что в другой какой-либо части тела или внутреннем органе?
6.3.26. Это рассуждение я, будучи юношей, слышал от своего наставника Пелопса, пытавшегося доказать, что головной мозг есть начало всех сосудов. Ни в то время не принял я этого рассуждения, ни в дальнейшем, по зрелом размышлении, не одобрил его.
6.3.27. То, что говорится о четырех парах вен, которые опускаются от головы, насколько мне известно, было включено в сочинения, приписываемые Гиппократу и явно подвергшиеся редактуре. Ведь ни одна из них не может быть показана, в то время как все остальное, что сказано о венах у Гиппократа, как я и писал в сочинении «Об анатомии Гиппократа», подтверждается людьми, сведущими в анатомии, и было показано нами. Об этих же четырех парах вен не было сказано ни одним другим знатоком анатомии, и никто никогда их не показывал.
6.3.28. Однако некоторые из признающих их существование говорят, что верят в этом Гиппократу, хотя сами не могут показать их, как будто говорят о деле, доступном разуму и не доступном чувствам; другие заявляют, что покажут их, однако до сих пор не показали.
6.3.29. Итак, то, что в еще одной книге содержится явно неподлинный отрывок о четырех парах вен, неудивительно; находится же он в конце сочинения «О природе человека» между книгами «О природе человека» и «О диете», в которую было включено описание анатомии вен, хотя нет никакого основания для того, чтобы связать это с диетой.
6.3.30. Ведь выглядело бы гораздо правдоподобнее, если бы это рассуждение было включено не в эту, но в предыдущую часть сочинения. Однако автор поддельного отрывка думал, что его подлог скорее останется незамеченным, если он впишет это в конец книги. Что до того, что нет никакого основания привязать это рассуждение и к предыдущей части, то это очевидно для всех, кто хорошо знаком с этим сочинением. Ведь в нем обсуждается природа человека, обнаруживаемая из первоначал, а не из анатомии.
6.3.31. То же, что анатомическое описание упомянутых вен не принадлежит ни Гиппократу, ни Полибию, было доказано до нас другими, и мы, если бог даст нам когда-нибудь написать сочинение о подлинных произведениях Гиппократа, займемся этим вопросом и подробнее разъясним, каков, согласно Гиппократу, источник вен, что можно понять из книги «О питании» и из второй книги «Эпидемий».
6.3.32. Но отложим это до другого раза. Ведь я решил доказать прежде то, что в рассуждении было обойдено молчанием: у растений началом и возникновения, и управления меньших тел являются тела большие, и точно так же происходит у животных.
6.3.33. Вернемся к тому, что Пелопс признает головной мозг началом всех нервов. Стало быть, он признает, что и отрастающие от головного мозга два нерва ведут к мышцам глаз, из одного толстого отростка разветвляясь на множество мелких.
6.3.34. Еще в большей степени это относится к следующей паре: она очень толста в месте своего произрастания, а далее рассекается в многочисленные мелкие ответвления, которые распределяются в части вокруг лица и рта. То же верно и для следующей пары. Чтобы не тянуть время, скажу сразу: он считает, что спинной мозг произрастает из головного и является как бы неким стволом большого числа нервов, отрастающих от него, словно побеги.
6.3.35. Итак, то, что это истина, очевидно для всякого, кто обладает зрением, то же, что маленькие нервы являются началами больших, противоречит явлениям, наблюдаемым в нервах: поскольку для них большие всегда являются началами маленьких, а также, как было сказано ранее, тому, что наблюдается для растений, и, кроме того, тому, что наблюдается для артерий и сердца. Ведь совершенное бесстыдство – утверждать, что какой-то другой орган является началом артерий.
6.3.36. Ведь можно наблюдать, что артерии, прежде чем бывают отрезаны от животного, теряют движение после того, как их перехватывают петлей, и всякий раз, когда они бывают отделены и оказываются вне связи с целым; и из всех органов живого существа сердце, после того как его извлекут, дольше всего сохраняет естественную функцию, так как является началом движения для самого себя и для того, что получает движение от него.
6.3.37. Артерии, отделенные от него петлями или рассечениями, как только это с ними происходит, теряют подвижность. Но если говорить, что артерии управляются не из сердца, – бесстыдство, то большие части артерий окажутся началами меньших.
6.3.38. Ведь наиболее широкие из всех артерий живого существа – артерии, растущие из сердца, самые толстые части нервов – их начала, как в растениях ствол – самый толстый из всех побегов, а самое толстое из корней – корневище.
6.3.39. Я называю корневищем нижнюю часть, о которой немного раньше я говорил, что она является началом растения. Мне кажется, что и Гиппократ ввел термин «корневище», перенося название этого места у растения на животных. Корневищем артерий он называет сердце, а корневищем вен – печень.
6.3.40. Ведь как от корневища растения корни растут вниз, а ствол – вверх, так же и из сердца выходит та артерия, которая идет в легкие, и та, которая распространяется по всему телу живого существа, а из печени – та вена, которая идет к желудку, и та, которая направляется во все тело.
6.3.41. Итак, вены, спускающиеся в желудок, подобны корням, как это показал сам Гиппократ: «Ведь что для деревьев – земля, то для живых существ – желудок»[107]. Полая вена, выросшая из горбин печени, словно ствол, направляется из печени прямо в обе части живого существа – вверх и вниз.
6.3.42. Итак, самая толстая часть этой вены – та, что ведет вниз от печени, менее толстая – та, что тянется через *** диафрагму, меньше этих обеих – та, что врастает в сердце. Однако если бы сердце было началом полой вены, как оно является началом наибольшей артерии, наибольшей была бы, я думаю, и прилегающая к нему часть.
6.4.1. Если кто думает, что сердце – управляющее начало функции вен, а печень – управляющее начало образования полезных веществ, ведь из нее устремляется кровь, и посредством этого нижняя полость становится шире, чем верхняя, потому что ниже печени находится больше органов, которым необходимо питание, то такой человек, как мне кажется, из-за своего предвзятого мнения соглашается с тем, с чем не хочет соглашаться.
6.4.2. Ведь что может означать то, что кровь устремляется из печени, как не то, что производящая кровь сила содержится в этом внутреннем органе? Если же кровь производится ради того, чтобы живое существо могло питаться, и кровь рождается в печени, то источником питающей функции будет этот внутренний орган, а не сердце.
6.4.3. Естественно, что то, что обеспечивает приток необходимых питательных веществ, и есть источник питающей и взращивающей силы. Ту же функцию, я думаю, у растений исполняет та часть, которую мы называем местом роста корней; ведь оно втягивает в себя из земли питание посредством многочисленных корней и посылает извлеченное всему растению через нижнюю часть ствола.
6.4.4. Ведь если мы полагаем, что сердце является источником и этой силы, как и пульса, то ничего не делающая зря природа сделала печень ненужным органом. И в таком случае питание могло бы превращаться в кровь в сердце.
6.4.5. Но природа дала сердцу в этом великом деле как бы некоего помощника, и именно печень, которая заранее готовит для него вещество, как желудок готовит его для печени. Однако это рассуждение правдоподобное, но не истинное.
6.4.6. Ведь обнаруживается, что печень готовит необходимое вещество не как помощник руководящему, но как само руководящее, которое имеет власть распределять их. Явные доказательства этого можно наблюдать в теле живого существа.
6.4.7. Ведь все, кто заготавливает вещества для других, хранят это только для них: так, из легких ведет только один путь, и никакого другого, – путь в сердце, из желудка и кишок – только путь в печень, из сетевидного плетения – только в головной мозг, из сосудов, подготавливающих семя, – только в яички.
6.4.8. Таким образом, все собирающие желчеобразное вещество пути ведут в один сосуд – желчный пузырь, и оттуда снова пузырь выводит вещества в одно место, как почки мочу в мочевой пузырь. Значит, и печень, если бы она была создана природой ради подготовки крови для сердца, не имела бы способности распределять наполовину подготовленную кровь.
6.4.9. Ведь такое дело подобает не помощнику, но руководителю и правителю, и не годится для не до конца подготовленного вещества, поскольку помощнику подобает только приготавливать, а недостаточно подготовленному веществу не подобает быть распределяемым. Так что печени поручено распределение не как помощнику, но как правителю, и кровь она распределяет не как промежуточное вещество.

