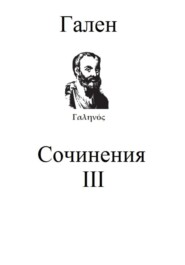 Полная версия
Полная версияСочинения. Том 3
– Да.
– А безобразие – разве это не род несоразмерности, неприглядный во всех отношениях?
– Да, именно это»[392].
5.3.26. Таково учение Платона о болезни и безобразии в целом, каково каждое из них по природе. Затем он учит, как они рождаются в душах; о болезни он пишет так:
5.3.27. «– Что же? Не замечаем ли мы, что в душе людей негодных мнения находятся в раздоре с желаниями, воля – с удовольствиями, рассудок – со страданиями и все это – между собой?
– Весьма даже.
– Но ведь все это по необходимости родственно друг другу.
– Как же нет?
– Стало быть, называя разлад и болезнь души пороком, мы выразимся правильно»[393].
5.3.28. Затем он описывает происхождение уродства души следующим образом:
«– Что же? Обо всех тех вещах, которые, находясь в движении и имея перед собою какую-то цель, к достижению которой и стремятся, при каждом порыве минуют ее и ошибаются, скажем ли мы, что это случается с ними вследствие соразмерности вещи и цели или, наоборот, вследствие несоразмерности?
– Ясно, что вследствие несоразмерности.
– Но ведь мы знаем, что всякая душа заблуждается во всем не по доброй воле.
– Бесспорно.
5.3.29. – Заблуждение же есть не что иное, как отклонение мысли, когда душа стремится к истине, но проносится мимо понимания.
– Несомненно.
– Стало быть, заблуждающуюся душу должно считать безобразною и несоразмерною»[394].
5.3.30. Таким образом, в «Софисте» Платон говорит о здоровье и красоте, уродстве и болезни и в целом, и в частности: в целом он дает их определение, и в частности описывает, как они рождаются в душах.
5.3.31. Есть немало и других высказываний об этом во многих его сочинениях, где он рассуждает о здоровье и красоте, уродстве и болезни, но теперь, мне кажется, неподходящее время это излагать. Однако, когда мы подойдем к рассмотрению здоровья и болезней и покажем, что Платон придерживается об этих предметах того же мнения, что и Гиппократ, я изложу все эти рассуждения подробнее.
5.4.1. Теперь же нам предстоит разговор не о красоте, здоровье, уродстве или болезни вообще, и не только о страданиях тела, но о страстях души с самого начала, поэтому я оставлю в стороне все прочее и буду рассматривать только эту тему.
5.4.2. Предстоит доказать, что суждения и страсти возникают, вопреки тому, что говорит Хрисипп, не в одной и той же части души и не благодаря одной и той же ее способности, но что и способности ее многочисленны и разнообразны, и части многочисленны.
5.4.3. И Посидоний, и Аристотель признают, что существуют три способности души, посредством которых мы желаем, гневаемся и разумеем, согласно же учению Гиппократа и Платона, эти способности локализуются в разных местах, и душа у нас не только имеет в самой себе многие способности, но и является составленной из разнородных и различных по своей сущности частей.
5.4.4. Я уже многое сказал об истинности этих положений в предшествующей части этого сочинения, и далее скажу о том же.
5.4.5. Теперь я снова возвращаюсь к Хрисиппу, который не признает, что упомянутые силы находятся у нас в душе, но говорит, что все функции и все страсти души содержатся только в ее разумной части, и не учит, ни как следует лечить появляющиеся страсти, ни как препятствовать их появлению.
5.4.6. Итак, в этом, как и во многом другом, он противоречит самому себе: в первой книге сочинения «О душе» он утверждает, что душа обладает теми способностями, о которых я говорил в предыдущей книге, приведя его собственные изречения; в книге же «О страстях» он заявляет, что страсти являются некими суждениями разумной части души.
5.4.7. Но мы думаем, что то истинное, что он сказал в подтверждение учений Гиппократа и Платона, не является случайным, поскольку это сказано человеком, не просто разбирающимся в предмете, но стремящимся любым способом опорочить древнее учение. Ведь естественно предположить, что свидетельства в пользу древнего учения от таких людей могут быть вызваны лишь непреодолимой силой истины.
5.4.8. Перейдя же к другим его сочинениям, касающимся нашего предмета, мы покажем, что в одних высказываниях он противоречит самому себе, в других – очевидным фактам, а в третьих допускает и ту, и другую ошибку.
5.4.9. Во-первых, снова обратившись к тому, на чем я закончил предыдущее рассуждение, а именно к тому, что здоровье и болезнь, уродство и красота души появляются в ее частях и что эти части есть понятия и представления, я уступлю ему для начала, хотя я уже сказал, что по функциям вообще не следует выносить суждение о здоровье или болезни, но лишь о красоте или уродстве.
5.4.10. Далее я попытаюсь показать, что, если принять, что приведенное утверждение верно, то окажется, что следующее далее неверно. Ведь если возникновение страстей происходит из-за того, что два суждения противоречат друг другу, то из этого с необходимостью следует, что из этих двух суждений или одно является истинным, а другое ложным, или оба ложны; предлагаю в данном случае принять это на веру, потому что для доказательства этого понадобилось бы целое исследование в области логики.
5.4.11. Но независимо от того, скажем ли мы, что оба утверждения ложны, или что одно из них истинно, у нас в любом случае не получится, что страсть является конфликтом суждений.
5.4.12. Напротив, если два суждения обладают одинаковой достоверностью, нам следует воздержаться от вынесения заключения о том, как обстоит дело в действительности; если же одно суждение оказывается более достоверным, следует принять его и действовать в соответствии с ним, но не безоглядно. Например, если человек полагает, что удовольствие есть благо, у него тем не менее могут существовать некие незначительные соображения, влекущие его в противоположную сторону, и человек, полагающий, что лишь прекрасное является благом, также может при этом иметь иные соображения, влекущие его в противоположную сторону и не позволяющие верить в то, во что он верит, без оглядки, а можно, как Пиррон, заявить, что оба мнения имеют равную ценность, и воздержаться от вынесения суждения и от согласия с одним из них.
5.4.13. И ни один из этих вариантов не будет проявлением страсти, как и сам Хрисипп ясно обнаруживает в тех высказываниях, которые я привел в предыдущей книге, где он говорит:
5.4.14. если «некто действует на основании ошибочного суждения или не учел чего-то в своих рассуждениях», и так далее, как у него там написано, то это не страсть, но о страсти можно говорить в тех случаях, когда имеет место влечение, не подчиняющееся разуму. И здесь снова оказывается, что Хрисипп противоречит самому себе: в одном месте он проводит различие между страстью и ошибочным суждением, а в другом говорит, что болезнь души и страсти проявляются в разногласии суждений между собой.
5.4.15. Итак, после этого не стоит удивляться ни тому, что Платон написал о лечении страстей правильно, о чем свидетельствует и Посидоний, ни тому, что Хрисипп написал о том же неудачно.
5.4.16. Ведь тот, кто не решился выявить все причины страстей, кто сам признал, что он не знает главного, как было показано в предыдущей книге, да и там, где решился что-то сказать, ничего хорошего, как мы убедились, не сказавший, – такой человек, я думаю, вряд ли смог бы отыскать правильное лечение страстей.
5.4.17. Однако, как я уже говорил ранее, если кто-то хочет опровергнуть четыре книги Хрисиппа, ему понадобится много больше книг.
5.5.1. Итак, мы станем разбирать только самое необходимое в исследуемом нами вопросе и прежде всего – исследовать вопрос о силах, руководящих детьми.
5.5.2. Ведь нельзя сказать, что их устремления управляются разумом, ведь они еще не имеют разума; нельзя сказать и то, что они не сердятся, не терзаются и не радуются, не смеются, не плачут и не испытывают тысячи других подобных страстей. Напротив, страсти детей более сильны и многочисленны, чем страсти взрослых.
5.5.3. Но это противоречит учению Хрисиппа, как и тому, что по природе нет никакого влечения к удовольствию или отвращения к страданию. Ведь все дети – и их не надо этому учить – устремляются к удовольствиям, а к страданиям испытывают естественное отвращение и стремятся избежать их.
5.5.4. Мы видим, как они злятся, топают ногами, кусаются и стремятся победить и одолеть себе подобных, как некоторые из животных, и это при том, что за победу не предлагается никакой награды, кроме самой победы.
5.5.5. То же самое с очевидностью наблюдается у перепелов, петухов, куропаток, ихневмонов[395], аспидов, крокодилов и множества других.
5.5.6. Таким образом, оказывается, что и детям свойственно стремление к удовольствию и к победе, как и в дельнейшем, подрастая, они обнаруживают некую естественную предрасположенность к нравственно прекрасному.
5.5.7. Ведь, подрастая, они начинают стыдиться своих ошибок, радоваться добрым делам, стремиться к справедливости и другим добродетелям и многое делают сообразно здравому смыслу; раньше же, когда были еще малы, они жили согласно страстям, а предписания разума их нимало не заботили.
5.5.8. Итак, существуют три рода таких предрасположенностей, имеющихся у нас по природе в каждой из частей души: к удовольствию – через вожделеющее начало, к победе – через яростное начало, к прекрасному – через разумное начало; Эпикур рассмотрел только предрасположенность худшей части души, а Хрисипп – только лучшей, говоря, что мы стремимся только к прекрасному, которое, несомненно, является и благом. Однако только древние философы оказались в состоянии рассмотреть все три предрасположенности.
5.5.9. Итак, совершенно естественно, что Хрисипп, отказавшись от двух из них, не может понять, откуда берется человеческая порочность, ведь он не может ни назвать ее причину, ни понять характера развития – он даже не в состоянии понять, почему дети поступают дурно; за все это Посидоний, я думаю, справедливо упрекает и обличает его.
5.5.10. Ведь, если бы дети изначально имели предрасположенность к прекрасному, то, следовательно, зло зарождалось бы не изнутри, не из них самих, а только извне.
5.5.11. Но можно наблюдать, что даже тот, кто взращен в добрых обычаях и воспитывался надлежащим образом, подчас совершает некие неблаговидные поступки; это признает и сам Хрисипп.
5.5.12. Хотя он, конечно, мог пренебречь очевидными фактами и признавать только то, что следует из его собственных гипотез, и говорить, что если дети воспитывались хорошо, то по прошествии времени они обязательно сделаются мудрецами.
5.5.13. Но он не решается вступить в противоречие с очевидными фактами, поэтому признает, что даже если человек будет воспитываться только философом и никогда не будет наблюдать никакого примера порочности и даже слышать о таких вещах, все же он не обязательно станет философом.
5.5.14. Ведь, по его словам, есть две причины развращения: одна состоит в том, что человек учится порочности у толпы, а другая находится в самой природе вещей. У меня вызывают недоумение обе эти причины, и прежде всего та, которая происходит от ближних.
5.5.15. Ведь непонятно, почему человек, увидев или услышав пример порочности, не проникается отвращением к таким вещам и не стремится избежать их, если он не имеет к этому никакой предрасположенности, и еще более непонятно, как может получиться, что человек, не видя никакого дурного примера и даже не слыша о таких вещах, оказывается соблазненным самой природой вещей.
5.5.16. Какими причинами объясняется то, что дети прельщаются удовольствием, считая его благом, если у них нет к этому никакой предрасположенности, и отвращаются и бегут от страдания, если у них нет к нему природного отвращения?
5.5.17. Чем объясняется то, что они стремятся к похвалам уважению и радуются им, а от порицания и презрения отвращаются и избегают их, если у них по природе нет никакой предрасположенности к одному и отвращения к другому?
5.5.18. Кажется, Хрисипп соглашается, если не на словах, то по смыслу сказанного, что в нас по природе есть некая предрасположенность или отвращение к каждой из перечисленных вещей.
5.5.19. Ведь если он говорит, что развращение дурных людей в отношении добра и зла происходит из-за убедительности фантазий и дурной науки, надлежит спросить его, по какой причине возникает убедительное впечатление, что удовольствие является благом, а страдание – злом.
5.5.20. Аналогично, почему, когда мы слышим, как человека, одержавшего победу в Олимпийских играх и удостоившегося возведения в его честь статуи, большинство прославляет и считает счастливым, мы с готовностью соглашаемся с тем, что прекрасно удостоиться таких вещей, и, напротив, дурно потерпеть поражение и заслужить?
5.5.21. Итак, Посидоний порицает Хрисиппа за все это и пытается показать, что причины всех ложных мнений в области умозрительной <возникают из-за невежества, а в области практической> – из-за страстного влечения, которому предшествуют ложные мнения, притом что разумное начало оказывается слишком слабым в отношении суждения; ведь устремление рождается у живого существа иногда от суждения разумного начала, но часто – под действием начала страстного.
5.5.22. Посидоний с достаточным основанием связывает эти рассуждения с наблюдениями из области физиогномики; ведь те из животных и людей, которые широкогруды и более горячи, являются более страстными по природе, а широкобедрые и более холодные – более робкими.
5.5.23. Точно так же и в разных местностях люди значительно различаются по малодушию и отваге или по любви к наслаждениям и трудолюбию, поскольку страстные движения души всегда зависят от состояния тела, которое сильно зависит от смешения соков в окружающей среде.
5.5.24. Более того, он говорит, что и кровь у животных различается по теплоте и холодности, густоте и неплотности и по многим другими параметрам, о которых подробно рассказал Аристотель.
5.5.25. Мы напомним об этих параметрах в надлежащее время в предстоящем изложении, причем дословно приведем рассуждения Гиппократа и Платона об этих предметах.
5.5.26. Теперь же я обращаюсь к сторонникам Хрисиппа, не знающим ни про страсти, ни про то, как различные смешения соков в теле вызывают соответствующие страстные движения, как имел обыкновение называть их Посидоний.
5.5.27. Аристотель прямо называет все эти состояния души у живых существ характерами и разъясняет, каким образом тот или иной характер формируется при том или ином смешении соков.
5.5.28. Поэтому, я думаю, и лечение страстей души у некоторых происходит легко и нетрудно, так как у них не имеется ни сильных страстных движений, ни слабого и от природы неспособного к обучению разума, но эти люди принуждены жить, следуя страстям, из-за невежества и дурных обычаев; у других лечение происходит трудно и тяжело, потому что из-за устройства их тел страстные движения у них бывают сильными и бурными, а разум их от природы слаб и неспособен к обучению.
5.5.29. Поэтому для того, чтобы улучшить характер человека, необходимо, чтобы и разум его обрел знание истины, и страстные движения его притупились благодаря приобретению добрых обычаев.
5.5.30. Таким образом, следует формировать человека к лучшему во всем от начала, прежде всего позаботившись о состоянии семени, затем – об образе жизни, который ведет носящая во чреве: о пище, питье, упражнениях, покое, сне, бдении, желаниях, страстях и тому подобных вещах; обо всем этом основательнейшим образом рассказал Платон.
5.5.31. Хрисипп же не только сам ничего подобающего не сказал, но и своим последователям не оставил исходной точки исследования, так как пристроил свое учение к плохому фундаменту.
5.5.32. Посидоний порицает его за это и восхищается тем, что Платон написал о формировании детей, еще носимых во чреве матери, об их питании и воспитании. Сам Посидоний написал как бы некую эпитому сказанного Платоном в первой книге своего сочинения «О страстях», где описано, как следует кормить и воспитывать детей, чтобы страстная и неразумная часть души обрела меру в своих движениях и стала послушной повелениям разума.
5.5.33. «Ведь это и есть наилучшее воспитание детей – приготовление страстной части души таким образом, чтобы она была как можно более готова подчиняться власти разума».
5.5.34. Ведь, по словам Посидония, сначала разумное начало бывает малым и слабым; а большим и сильным оно становится по достижении человеком четырнадцатилетнего возраста, и тогда подобает ему, как бы некому вознице, властвовать и управлять упряжкой из пары лошадей – вожделения и ярости – и надлежит, чтобы они не были ни весьма сильными, ни слабыми, ни медлительными, ни буйными, ни абсолютно своенравными, или строптивыми, или разнузданными, но были во всем готовы следовать за разумением и подчиняться ему.
5.5.35. Воспитание же и добродетель самого разума есть постижение природы сущего, как для возницы – постижение искусства управления лошадьми; ведь знания не рождаются в неразумных силах души, так же как и у лошадей, но у них соответствующая их назначению добродетель возникает из некой неразумной привычки, у возниц же – из разумного обучения.
5.5.36. Вслед за этим у Посидония следует рассуждение о добродетелях, в котором содержится двойная ошибка, поскольку в нем Посидоний заявляет, что все добродетели являются либо знаниями, либо способностями.
5.5.37. Ведь у неразумных частей души и добродетели по необходимости неразумны, и лишь добродетель разумной части разумна. Так что закономерно, что добродетели неразумных частей – это способности, знание же может быть добродетелью только разумной части.
5.5.38. Хрисипп же сильно ошибается, но не в том, что не сделал ни одну добродетель способностью, – ведь это не настолько серьезная ошибка, чтобы мы стали нападать на него из-за нее, – но, сказав, что есть многие знания и добродетели, он говорил, что у души есть лишь одна способность.
5.5.39. Ведь не бывает так, чтобы у одной способности были многочисленные добродетели, как не может быть многих совершенств у одного и того же дела. Ведь у каждой сущности может быть лишь одно совершенство, а добродетель есть совершенное состояние природы любого предмета, что признает и сам Хрисипп.
5.5.40. Еще лучше Аристон Хиосский доказывает, что у души есть не много добродетелей, а одна – та, которую он называет знанием добра и зла; и когда он пишет о страстях, то не противоречит собственным посылкам, как Хрисипп.
5.6.1. Но о добродетелях мы скажем после, поскольку здесь Хрисипп нападает на Платона. Теперь же я упомянул о них из соображений логической последовательности, так как учение о добродетелях по необходимости следует из учения о страстях, о чем Посидоний в первой книге своего сочинения «О страстях», в самом начале книги, говорит в следующих словах:
5.6.2. «Ведь я полагаю, что обсуждение добра и зла, совершенств и добродетелей должно отталкиваться от правильного понимания страстей».
5.6.3. Итак, мне кажется, я достаточно убедительно показал, что правильное учение о добродетелях связано с учением о страстях; что же касается учения о благах и о цели, мне кажется достаточным привести следующее рассуждение Посидония:
5.6.4. «Причина страстей, то есть несогласованной и порочной жизни, заключается в том, что люди не во всем следуют своему даймону, который врожден нам и имеет такую же природу, как и тот, что управляет всем миром, но иногда отклоняются от него под влиянием своей низкой и животной части и влекутся ею.
5.6.5. Те же, кто не желает это замечать, не приводят никакого лучшего объяснения причины страстей в подобных случаях и не имеют верного мнения о счастье и согласии. Ведь они не видят, что для счастья прежде всего необходимо ни в чем не поддаваться неразумному, несчастному и безбожному началу души»[396].
5.6.6. Здесь Посидоний явно дает понять, до какой степени ошибаются сторонники Хрисиппа, – не только в рассуждениях о страстях, но и в рассуждениях о цели.
5.6.7. Ведь требование “жить согласно с природой” надо понимать не так, как говорят они, но так, как учил Платон.
5.6.8. Ведь у нас есть лучшая и худшая части души; о том, кто следует лучшей, говорится, что он живет согласно с природой, а о том, кто следует худшей, говорится, что он живет несогласно с ней. Так вот, последний живет согласно страстям, первый же – согласно разуму.
5.6.9. Не удовольствовавшись этим, Посидоний более явно и более сильно порицает сторонников Хрисиппа за то, что они неправильно определили цель.
5.6.10. Привожу его рассуждение дословно: «Некоторые, пренебрегая этими вещами, сводят понятие “жизнь в согласии с природой” к тому, чтобы делать все доступное в данный момент ради того, что по природе является первейшим, поступая при этом подобно тем, кто ставит целью удовольствие, безмятежность или другое подобное.
5.6.11. В таком определении содержится явное противоречие и нет ничего хорошего и ведущего к счастью, ведь такие вещи по необходимости следуют из достижения цели, но сами не являются целью.
5.6.12. Но когда между тем и другим произведено правильное различие, этим различием можно пользоваться, чтобы разрешить затруднения, которые выдвигают софисты, но для этого невозможно пользоваться определением “жить, следуя собственному опыту поступков, совершенных в согласии с целостной природой”, ведь это все равно, что сказать: “жить согласно природе, когда в этом не содержится мелочного стремления к достижению различных благ”».
5.6.13. Вероятно, этого было достаточно для доказательства нелепости того, как Хрисипп понимает цель, которую он понимает как достижение жизни, согласной с природой; однако я полагаю, что все же лучше привести и то, что Посидоний пишет об этом далее, а именно:
5.6.14. «Эта странность устраняется, если определить причину страстей и выявить источник искажения естественных стремлений и отвращений, и таким образом определить пути воспитания и работы над собой и избежать трудностей, связанных с происходящим от страсти стремлением».
5.6.15. Немалую и неслучайную пользу, говорит он, мы извлечем из нахождения причины страстей. Ведь для того, чтобы понять, что значит «жить согласно природе», мы должны найти причину страстей.
5.6.16. Кто живет по страсти, тот не живет согласно природе, кто – не по страсти, тот живет согласно природе. Ведь один следует неразумной и безрассудной части души, а другой – разумной и божественной.
5.6.17. «Найдя причину страстей, можно определить источник искажения естественного стремления и отвращений».
5.6.18. Некоторые заблуждаются, считая, что свойственное неразумным силам души свойственно душе вообще, и не понимая, что наслаждаться и побеждать ближних – естественное стремление животной части души, а разумной и божеской части свойственно стремление к мудрости и всему, что хорошо и прекрасно.
5.6.19. «Также, – говорит он, – постигнув причину страстей, можно определить пути воспитания и работы над собой».
5.6.20. Ведь мы будем рекомендовать воспитывать одних – в одних ритмах, темпах и навыках, других – в других, как нас учит Платон, одних – слабых, ленивых, малодушных – мы будем взращивать в жестких ритмах, в гармониях, вызывающих сильное движение души, и будем подбирать для них соответствующие упражнения, других – более горячих и склонных принимать безумные решения – в противоположных ритмах и гармониях.
5.6.21. Объясните мне, ради богов, – задам я сторонникам Хрисиппа еще один вопрос, – почему, когда музыкант Дамон, подойдя к флейтистке, играющей на флейте по-фригийски, и неким пьяным юношам, которые вели себя как безумные, попросил девушку сыграть на флейте по-дорийски, молодые люди тут же прекратили свое безумное поведение?
5.6.22. Разумеется, мелодии флейты не могли заставить их изменить мнения, формируемые разумным началом; но страстное начало души, будучи неразумным, возбуждается и успокаивается под влиянием неразумных движений. Ведь польза или вред для неразумного приходит через неразумные вещи, а для разумного – через знание или невежество.
5.6.23. Итак, именно в этом, по словам Посидония, состоит польза, которую мы извлекаем из познания причин страстей, кроме того, такое изучение помогает, как говорит Посидоний, «разъяснить спорные вопросы, касающиеся происходящего от страсти стремления».
5.6.24. Затем он сам объясняет, что это такое, в следующих словах: «Я думаю, вы давно уже сделали наблюдение, что люди, убежденные разумными доводами, что с ними происходит или произойдет нечто дурное, не пугаются и не огорчаются, но начинают испытывать эти эмоции лишь тогда, когда воспринимают представление (φαντασία) о таких вещах.
5.6.25. Ведь как можно влиять на неразумное посредством разума, если не предложить человеку некую картину, почти воспринимаемую чувствами?
5.6.26. Ведь только в таком случае некоторые впадают в страстное состояние из-за рассказа и, если рассказчик велит им бежать от нападающего льва, начнут бояться, хотя льва нигде не видно».
5.6.27. Итак, это рассуждение и то, что следует за ним, прекрасно написано Посидонием: здесь он раскрывает причины всех затруднений Хрисиппа, о которых я рассказал в конце предыдущей книги; поэтому мне кажется, что теперь здесь надо закончить рассуждение, добавив еще одно его высказывание:

