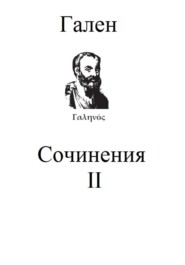 Полная версия
Полная версияСочинения. Том 2
[79a5-c7] Но рассмотрим еще раз причины, по которым устройство дыхания возникло именно таким, каким остается поныне. Дело обстоит следующим образом. Поскольку не существует пустоты, куда могло бы устремиться движущееся тело, а выдыхаемый нами воздух движется наружу, для всякого должно быть ясно, что идет он отнюдь не в пустоту, но выталкивает со своего места соседний воздух; тот в свою очередь гонит с места воздух, который окажется рядом, а тот передает толчок дальше, так что весь окружающий воздух оказывается перемещенным в то место, откуда вышло дыхание, а войдя туда и наполнив эту полость, воздух следует по тому же пути. Все это происходит одновременно, как поворот колеса, ведь пустоты не существует. Поэтому пространство груди и легких, откуда вышло дыхание, снова наполняется обступившим тело воздухом, который погружается в поры плоти и совершает свой круговорот; когда же этот воздух обращается вспять и идет сквозь тело наружу, он в свою очередь становится виновником кругового толчка, загоняющего дыхание в проходы рта и ноздрей.
В этом месте Платон еще не объясняет первую причину дыхания. Обозначив ее, затем он говорит: «Подобает предположить, что первая причина этого следующая». Как называется учение, которое он именовал «круговым толчком» и благодаря которому, по его мнению, осуществляются дыхание и испарение? Как мы уже сказали, мы подразумеваем под дыханием совокупность вдоха и выдоха, когда эти движения осуществляются через рот. Но когда мы говорим о движении воздуха, проникающего через все тело, то это мы называем «испарением». Как утверждает Платон, эти движения осуществляются посредством «кругового толчка» следующим образом: так как мы выдыхаем воздух через рот, он, выходя наружу, покидает малые полости [верши] и придает воздуху, находящемуся снаружи, толчок. Внешний воздух под влиянием этого толчка попадает вглубь тела, заполняя пространство, которое остается после выдыхаемого воздуха. Поскольку жар и пневма также снова находятся в состоянии движения, то они выходят наружу через кожу, благодаря чему внешний воздух, в свою очередь, получает толчок и направляется внутрь через рот. Вот этот процесс врачи и называют «вдыханием», но не «дыханием». По мнению Платона, толчок происходит по причине пустоты, вернее потому, что никакое пространство не может быть пустым. Если что-то опустошается, то находящееся рядом заполняет оставленное пространство. Эрасистрат обычно называет это явление «замещение по мере опустошения».
[79c7-e9] Следует предположить, что начало всего этого имеет вот какую причину: всякое живое существо обладает очень большим внутренним теплом в крови и в жилах, являющих собою как бы источник телесного огня; именно его мы уподобляли плетению нашей верши, когда говорили, что внутренняя ее часть соткана целиком из огня, в то время как внешние части – из воздуха. Между тем должно признать, что все горячее от природы стремится наружу, в соответствующее ему по природе место; поскольку же у него есть лишь два выхода, один из которых ведет наружу сквозь тело, а другой через рот и ноздри, то стоит горячему устремиться в какой-либо один выход, как оно круговым толчком гонит воздух в другой, причем вдавленный [воздух] попадает в огонь и разогревается, а вышедший – охлаждается. И вот когда соотношение теплоты изменится и [воздух] станет более горячим у другого выхода, он в свою очередь сильнее устремится туда, куда повлечет его природа, а круговой толчок погонит [воздух] к противоположному выходу. Бесконечная череда этих действий и противодействий образует круговорот, направленный то туда, то сюда, который и дал начало входу и выходу.
Платон ясно показывает, что, по его мнению, в глубине [тела] находится пространство, которое тоже можно обозначить как большая верша, и ее он называет неким источником огня. Этот жар, как он думает, поднимается к тому, что имеет родственную ему природу. Если жар, находящийся в венах, выходит вперед через рот, то его содержание уменьшается во внутренних воздушных полостях [малых вершах]. В то же время внешний воздух, посредством кругового толчка, попадая внутрь, нагревается огнем, а то, что выходит, наоборот, охлаждается. В результате получается, что нагреваемое поднимается к тому, что имеет родственную природу, поэтому воздух, содержащийся во внутренних полостях, выходит следом через внешнюю оболочку. В свою очередь, за ним следует воздух, находящийся между внутренними полостями [малыми вершами] и ртом. Наконец, идет воздух снаружи, который движется круговым толчком вокруг того воздуха, который выходит, так как нет пустого пространства, которое могло бы вместить воздух, выходящий из тела. Соответственно, этот воздух придает движение тому, который находится рядом, а этот последний под влиянием данного толчка перемещается в место, откуда уже вышел предыдущий воздух, и заполняет его. Следовательно, движение не является в точности круговым, оно не возвращается в одну и ту же точку, тем не менее, по мысли самого Платона, это движение постоянно возобновляется. Поэтому учение Платона отличается от учения Гестия из Академии, а также от мнения Эрасистрата, утверждавшего, что воздух движется по идеальному кругу и всегда возвращается одним и тем же способом в одну и ту же точку. Напротив, Платон утверждает, что движение идет не по одному и тому же кругу, а скорее по полуокружностям, которые движутся навстречу друг другу.
[79e10-80c8] Здесь же следует искать объяснение тому, что происходит, когда ставят банки, а равно и при глотании или при метании предметов – несутся ли они высоко над землей или по ее поверхности. Сюда относятся также звуки, которые в зависимости от своей быстроты или медленности представляются высокими или низкими, причем иногда они несозвучны между собой, ибо производимое ими в нас движение лишено подобия, иногда же, напротив, дают созвучие благодаря согласованности движения. Все дело в том, что, когда более медленные звуки настигают движения более быстрых, ранее дошедших до нашего слуха, те оказываются уже обессилевшими, а их движения – подобными движениям, которые вносят при своем запоздалом прибытии более медленные звуки; таким образом, последние не становятся причиной разлада, но вместо этого начало медленного и конец быстрого движения уподобляются друг другу, и так возникает единое состояние, в котором высокое и низкое звучания смешаны. При этом неразумные получают удовольствие, а разумные – светлую радость от того, что и смертные движения через подражание причастны божественной гармонии. Подобным образом следует объяснять также все, что случается при струении вод и падении молний, а равно и пресловутое притяжение, будто бы исходящее от янтарей и гераклейских камней. На деле ничто не обладает притяжением, но по причине отсутствия пустоты все вещи передают друг другу круговой толчок, то разделяясь при этом, то сплачиваясь и постоянно меняясь местами; в переплетениях всех этих состояний истинному исследователю природы и откроются причины всего чудесного.
Я не знаю, что побудило Платона остановить свой выбор на учении о «круговом толчке», а не на учении о «притяжении», кроме, может быть, мнения Гиппократа. Дыхание не может быть действием или движением с помощью «кругового толчка», это еще доказал Эрасистрат, опровергнув мнение Гестия. В первой книге моего сочинения «О естественных способностях» я доказываю, что «притяжение» является главной из способностей [дыхания], для утверждения этого не надо пространных рассуждений. Если кто-то, опустив в воду тонкую трубку или тростинку, полую внутри, втянет ртом воздух, то за ним сразу последует вода, ведомая не какой-то иной причиной, а только силой втягивания (притяжения). Это действие зависит от нашего желания, если мы захотим, то, охватив губами тростинку, втянем то, что в ней находится. Если же мы не будем совершать никакого действия, то и не будет никакого движения. Точно так же сердце, любым способом извлеченное из тела, еще долгое время продолжает сокращаться и разжиматься. Сердце, сокращаясь, выдавливает то, что в нем содержится, этим доказывается действие закона постепенного замещения пустоты, по которому образовавшееся пустое пространство заполняется.
Комментарий
Во вступительной статье мы подробно рассмотрели классификацию заболеваний, предложенную Платоном. Для удобства дальнейшего изложения напомним о ней читателю. Первая группа болезней, по мнению Платона, является следствием расстройства равновесия четырех первоэлементов – земли, воздуха, огня и воды. Вторая группа связана с нарушениями питания частей тела, а третья определяется нарушением процесса дыхания, которое может осуществляться как через легкие, так и специальные поры в коже[245]. Гален следующим образом комментирует эту точку зрения: «Теперь же посмотрим на то, что имел в виду Платон, когда говорил: “Огонь и дух (пневма) – необходимые составляющие нашей жизни”. Существуют четыре первоэлемента, из которых возникает все сущее. Из этого более тяжелыми являются земля и вода, хотя вода и воздух более подвижны, особенно у живых существ. Почти всеми признается, что состоящее из четырех первоэлементов тело нуждается не только в незаметном для чувств вдыхании и выдыхании, но также и в возможности обладать или освободиться от них. Следствием этого является потребность в пище, чтобы постоянно восстанавливать недостаток веществ» (Фр. комм. к 76е7-77с5).
Гален говорит о том, что первоэлементы не только составляют человеческое тело, подобно исходному «строительному материалу», но и служат цели придания организму материальной жизненной силы, оказывая влияние на функционирование целостной системы человеческого тела посредством обмена веществ. В измельченном виде, в качестве пищи, первоэлементы поступают в организм извне, усваиваются в необходимом количестве или выводятся в случае избытка. Для поддержания процессов жизнедеятельности тело также нуждается в воздухе, который невидимо для органов чувств проникает внутрь него. Показывая, что Вселенная обнаруживает в себе ясные свидетельства рационального целеполагания всякой структуры и функции, Платон приходит к осмыслению космологии в соответствии с деятельностью Высшего Разума. Натурфилософия Платона близка позиции Гиппократа в отношении понимания устройства человеческого организма: оба мыслителя отвергают элементы мистицизма и скептицизма в объяснении вопросов здоровья и болезни. Понятно, что этическая дискуссия занимает Платона гораздо больше, чем медицина и физика, ему важно оспорить право софистов на изменение моральных принципов в соответствии с личными желаниями. Софисты с их скептическим подходом к универсальным вопросам философии являются не только оппонентами Платона в области этики, но и противниками Гиппократа в натурфилософской дискуссии. Платон прекрасно понимает универсальный характер рассматриваемых вопросов, именно поэтому в «Тимее» он считает необходимым четко обозначить место первоэлементов в общей натурфилософской системе.
У Платона первоэлементы фактически теряют свое значение как сакральные первоначала, превращаясь в простой строительный материал: в «Тимее» используется аналогия с буквами и слогами, из которых по соответствующим правилам складываются слова и предложения. Демиург при построении мира, подобно архитектору, реализует определенный замысел, для которого ему нужны соответствующие материалы. Математические описания баланса первоэлементов, следующие далее, явно обнаруживают влияние пифагорейцев[246].
Платон подробно останавливается в «Тимее» на сущностном устройстве четырех первоэлементов. Он обращает внимание на то, что все они составлены из треугольников, точнее имеют треугольные грани. Эта внутренняя сложная структура, считает Платон, позволяет «многогранным» частицам при некоторых условиях рассыпаться и превращаться в другие первоэлементы. Два базовых элемента физики Платона кажутся нам важными для медицины: во-первых, первоэлементы могут превращаться один в другой, меняя свои сущностные характеристики; во-вторых, описание этих характеристик осуществляется языком математики. Первый принцип позволяет представить организм как динамическую систему, описав обмен веществ на языке круговорота первоэлементов, питающих ткани тела. Второй постулат делает возможным представить анатомические и физиологические процессы в форме непротиворечивых геометрических моделей. Ведь совершенно ясно: человек растет, стареет и умирает, и эти состояния требуют оценочного аппарата. Очевидно, что взаимоотношения первоэлементов могут представить процессы динамических изменений в организме на основе количественного подхода. Здесь вновь идеи Платона соответствуют логике Гиппократа, для которого здоровье и болезнь – количественные категории, осмысленные через логику «красиса», то есть смешения начал. Из текстов Галена ясно следует, что именно эти принципы оценки базовых понятий медицины он унаследовал от Гиппократа и Платона.
Текст диалога «Тимей» раскрывает подход Платона к описанию функциональных процессов в организме: так, элемент «огонь», существующий в форме наиболее мелких, всепроникающих частиц, как бы разрезает своим тетраэдром сцепления первоэлементов, на которые распадаются в желудке измельченные продукты питания. Подобная картина процесса пищеварения позволяет объяснить переваривание пищи с помощью универсального представления о физике первоэлементов. Нетрудно заметить, что эти взгляды оказали серьезное влияние на представления Галена о пищеварении.
Математические аналогии требуются Платону уже для описания самого акта творения вселенной Демиургом[247]. С самого начала подчеркивается подчиненный, вторичный характер первоэлементов в космологии Платона: Демиург приводит их к определенному порядку, описываемому с помощью геометрических форм и чисел. Вселенная в космологии Платона представлена с помощью трехмерной системы координат. Соответственно, частицы каждого строительного элемента должны быть сформированы Высшим разумом в определенной математической форме, существовать в упорядоченном физическом мире, изменяться и взаимодействовать друг с другом целесообразно – в соответствии с полагаемыми Богом в основу творения законами функционирования природных тел. Таким образом, главным становится телеологический принцип, столь плодотворно определяющий дальнейшее развитие естествознания в целом и медицины в частности. Здесь Платон оспаривает базовые принципы атомизма, столь импонировавшие многим софистам: механистически случайный характер движения атомов и их полиформизм. О значении полемики с атомистами для целостного восприятия учения Галена мы уже упоминали. Мы отмечали влияние представлений Филистиона и Эмпедокла на взгляды Платона о функционировании человеческого организма[248]. Однако Платон решительно расходится с Эмпедоклом в главном, располагая в головном мозге центр разумной деятельности – высшего управления функциями тела. Платон предлагает идею единой, но трехчастно устроенной души человека, в которой бессмертна лишь ее высшая, разумная часть. Именно она, по мысли Платона, управляет произвольными, то есть сознательными, движениями частей тела (Фр. к комм. 76е7-77с5).
С медицинской точки зрения крайне важным является тезис о возможной трансформации первоэлементов, что, в свою очередь, обусловливает взгляд на человеческое тело как на динамическую систему, условно стабильную в ее нормальном состоянии. Разница в строении органов и тканей, по мнению Платона, заключается только в разной пропорции первоэлементов. Главную роль здесь играет телеологический принцип, столь плодотворно определяющий дальнейшее развитие естествознания, в том числе и медицины. Мы неоднократно обращали внимание читателя на его основополагающее значение для системы Галена.
В диалоге «Тимей» рассуждения об анатомическом устройстве человеческого тела и акте его создания тесно связаны с учением о природе души. Платон помещал высшую, бессмертную часть души в головной мозг, хотя и не имел эмпирических свидетельств, подтверждающих правильность его предположения. По мнению Дж. Лонгригга, Платон стремился отделить эту часть души от смешения с плотью, в которой располагаются и ее низшие части[249]. Гален комментирует это представление Платона в своей работе «О зависимости свойств души от темпераментов тела»: «Итак, поскольку существуют три части души, то Платон желает показать, где они находятся. Одна из них обнаруживается в печени, другая – в сердце, а третья – в головном мозге. Причем, как кажется, Платон был убежден, что из этих частей только разумная часть бессмертна»[250]. Из этого следует и важное анатомическое замечание о роли шеи, которая физически отделяет голову от остальных частей тела с их физиологическими процессами, как бы «загрязняющими божественное» и разумное в человеке. Это базовое представление определяет отличие системы Платона от представлений Эмпедокла, который утверждал, что душа происходит из крови. Она же (находящаяся в районе сердца), по мнению Эмпедокла, служит местом расположения мыслей и чувств человека. Таким образом, интеллект и общие способности зависят от пропорций смешения элементов в крови в результате переваривания пищи. Вместе с тем физиологически необходимый процесс пищеварения сопровождается наибольшим загрязнением (не все поступающие с пищей элементы полезны и усваиваются), что несовместимо с процессами высшего, духовного порядка. Для Платона важны естественные критерии, с помощью которых постигается истинная сущность вещей, а в медицине таковой является вопрос о появлении жизни. Соответствующие физиологические процессы Платон также связывает с божественным началом, определяя, например, семенную жидкость как субстанцию мозга. Платона отличает стремление к системным рациональным обобщениям, непротиворечивой теории – отсюда и математические объяснения телеологической гармонии.
В свою очередь, в трактовке основных физиологических процессов Платон обнаруживает мало разногласий с системой Эмпедокла: их взгляды на пищеварение, описание систем дыхания и кровообращения весьма схожи. Однако описание их творения и принципов функционирования у Платона полностью построено на телеологическом принципе. Мы встречаем характеристику сердца как «узла вен» и «фонтана крови», рассказ о разделяющемся сплетении сосудов, распространяющихся по всему телу, с указанием целеполагания этого распределения – доставлять с кровью питание всем тканям и органам человеческого тела («Тимей», 70b). Гален следующим образом комментирует аналогии, возникающие в связи с этим описанием: «На примере с оросительными каналами садов Платон описывает систему вен. Он говорит о крупных венах, от которых расходятся [более мелкие], распространяясь по всему телу. Все они расположены внутри организма. Он называет их спинными (νῶτος), так как они расположены вдоль спины. Называя эти сосуды венами, Платон не ошибается, потому что, как мы знаем, древние называли артерии венами. Однако он не совсем прав, когда говорит о разделении тела этими сосудами на правую и левую части. Спинные сосуды различны: одни имеют тонкие стенки и не пульсируют, другие, наоборот, имеют стенки в пять, шесть раз толще и при этом пульсируют. Именно эти сосуды и называются артериями. Кроме того, эти спинные сосуды не располагаются слева или справа, но находятся посередине позвоночного столба, с обеих сторон которого располагаются нервы» (Фр. к комм. 77с9-d3).
В своем труде «О назначении частей человеческого тела»[251] Гален утверждает, что Герофил первым установил отношение между артериями и венами, а также обратил внимание на толщину их стенок. Как указывает Гален в комментарии к «Тимею», Платон, вслед за древними авторами, не видел разницы между артериями и венами, считая, что все сосуды одинаковы. Гален также развивает идею Платона, считавшего, что сосуды, расположенные вдоль позвоночного столба, были созданы удвоенными из-за разделения тела на две части в процессе творения (Фр. комм. к 77с9-d3). Гален полагал, что врачи-гиппократики именовали артерии венами, прекрасно зная отличия этих сосудов друг от друга. Слово «φλέψ» (вена) помимо своего основного значения – кровеносного сосуда еще обозначало «канал», «подпочвенный проток». Именно поэтому столь органична аналогия между кровеносной системой и сетью оросительных каналов, используемая Платоном[252]. По его мнению, кровь приводится в движение по оросительной системе сосудов силой, вызываемой естественным движением внутреннего огня, придающего окружающему воздуху «круговой толчок». Именно токи воздуха и огня создают механизм дыхания, а легкие это движение поддерживают своими сокращениями. Эта точка зрения позднее критиковалась Галеном: «Я не знаю, что побудило Платона остановить свой выбор на учении о “круговом толчке”, а не на учении о “притяжении”, кроме, может быть, мнения Гиппократа. Дыхание не может быть действием или движением с помощью “кругового толчка”, это еще доказал Эрасистрат, опровергнув мнение Гестия» (Фр. к комм. 79e10-80c8).
Крайне интересна модель физиологии человеческого тела, предлагаемая Платоном. Части тела, в структуре которых превалируют более мелкие элементы, непроницаемы для крупных. Напротив, анатомические образования, в основном состоящие из более крупных по размеру первоначал, проницаемы для идеальных тел, меньших по размеру. Мельчайшим является тетраэдр первоэлемента огня, чуть крупнее – октаэдр воздуха, соответственно, они проникают всюду – именно так реализуются универсальные функции поддержания «внутреннего тепла» и дыхания, необходимого для охлаждения и осуществляющегося через легкие и через кожу. Эту проникающую способность огня и воздуха, созданную Богом для физической реализации основополагающих физиологических процессов, Платон иллюстрирует с помощью «верши» – ловушки для рыб, представляющей собой плетеную корзину из тростника с широким отверстием в верхней части, но имеющую непосредственно под этим отверстием конус, который простирается внутрь и вниз, образуя узкий внутренний вход, затрудняющий путь обратно для пойманной рыбы.
В своих комментариях к диалогу «Тимей» Гален уделяет значительное внимание функциональным объяснениям модели, предложенной Платоном (Фр. комм. к 78d2-79a4). Организм человека механистически может быть представлен в виде верши, особой конструкции, состоящей из двух внутренних камер, наложенных друг на друга. Внешняя, первая сеть создается Демиургом из элементов воздуха, внутренняя – из огня, на входе в вершу образуется не одна, а две воронки, причем одна из них раздвоенная. Таким образом, обозначаются отверстия для попадания в организм воздуха и пищи. Раздвоение дыхательной воронки соответствует входу воздуха через нос и рот – иначе дыхание было бы невозможно при употреблении пищи. Удлинение нижних частей двух верхних воронок означает формирование пищевода и трахеи с бронхами. Внутри большой верши находятся малые, вход в которые осуществляется через воронки: одна малая верша соответствует легким, и попасть в нее можно через трахею и бронхи, другая – желудку или, вернее, пищеварительной системе. Пространство между большой и малой вершами следует представлять как собственно плоть – мышечную ткань, пронизанную кровеносными сосудами.
Гален поясняет, что внутренний «огонь» (или внутреннее тепло) является основополагающим источником энергии физиологических процессов. Даже красный цвет крови обусловлен действием этого «огня». Необходимость постоянного питания тканей и органов человеческого тела объясняется потерями питательных веществ в процессе жизнедеятельности. Эта потеря вызывается в том числе и внешними атаками потоков элементов, существующих вне человеческого тела. Обратим внимание на замечание Галена о «двойном дыхании» и напомним, что в современной физиологии обмену веществ через кожу придается огромное значение, и выражение «кожное дыхание» с позиции современной медицины звучит вполне научно. Комментарий Галена позволяет более четко осмыслить представленную в «Тимее» концепцию «верши» именно как части медицинской теории. Гален в наибольшей мере развил и в практическом плане раскрыл основополагающие идеи Платона в отношении медицины. Именно рассуждения Галена помогают нам выявить гносеологическое значение идей Платона.
Процесс дыхания постоянно поддерживает колеблющуюся энергию внутреннего «огня», что, в свою очередь, обеспечивает энергию процесса пищеварения. Под влиянием внутреннего тепла происходит переваривание пищи в желудке – физика этого процесса становится вполне ясной, если рассматривать ее как сочетание стимулирующего воздействия внутреннего тепла и механического движения мельчайших частиц огня. Та же энергия обеспечивает движение по венам крови, сформированной из частиц пищи. Дыхательная функция осуществляется по принципу «круговой тяги», когда под давлением выхода смещается окружающий воздух и последовательно, передавая это принудительное воздействие, создает круговорот движения, в том числе попадая в организм через поры в плоти. Платон считал, что у дыхания есть особая цель – измельчение и распределение питательных веществ, хотя он нигде не объясняет, как он видит анатомические взаимосвязи двух верш в том, что касается циркуляции по венам крови, содержащей элементы питания тканей. Платон утверждает, что легкие были созданы для охлаждения сердца, а воздух попадает внутрь прохладным и впоследствии нагревается. Предполагается, что назад он также выходит через поры, нагретые внутренним «огнем». Гален справедливо подмечает, что дыхание представляет собой обмен воздухом с окружающей средой в виде серии полуоборотов в противоположных направлениях, в соответствии с ритмическими изменениями потоков воздуха. Он поясняет, что внутренний «огонь» (или внутреннее тепло) является основополагающим источником энергии физиологических процессов. Даже красный цвет крови объясняется действием этого «огня». Необходимость постоянного питания тканей и органов человеческого тела объясняется потерями питательных веществ в процессе жизнедеятельности. Эта потеря вызывается внешними атаками потоков элементов, существующих вне пределов человеческого тела.

