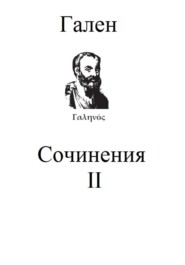 Полная версия
Полная версияСочинения. Том 2
[76e7-77c5] Теперь все части и члены смертного живого существа срослись в единое целое, которому, однако, по необходимости предстояло жить среди огня и воздуха, а значит, терпеть от них распад и опустошение и потому погибнуть. Но боги пришли ему на помощь: они произрастили некую природу, родственную человеческой, но составленную из иных видов и ощущений и потому являющую собой иной род существ; это были те самые деревья, травы и вообще растения, которые ныне облагорожены трудами земледельцев и служат нашей пользе, но изначально существовали только в виде диких пород, более древних, чем ухоженные. Все, что причастно жизни, по всей справедливости и правде может быть названо живым существом; так, и предмет этого нашего рассуждения причастен третьему виду души, который, согласно сказанному прежде, водворен между грудобрюшной преградой и пупом и притом не имеет в себе ни мнения, ни рассудка, ни ума, а только ощущение удовольствия и боли, а также вожделения. В самом деле, растение проходит свой жизненный путь чисто страдательным образом, оно движется лишь в самом себе и в отношении себя и противостоит воздействию внешнего движения, пользуясь собственным, так что оно не видит и не понимает своего состояния и природы.
Все, что составляет целое, называется частями, с другой стороны, само целое разделяется на части, в этом же смысле члены (µέρος) живых существ называются частями (µέλος). Здесь невозможно с точностью определить, какому из этих двух значений соответствует каждое из этих названий, однако Платон, разделяя здесь «части» и «члены», считал, что, имея [внешне] одинаковое значение, они тем не менее обозначают разные предметы. В других же случаях слова могут и не передавать заключенного в них смысла, но тогда это не позволит нам приблизиться к науке о вещах (предметах. – Примеч. пер.). Теперь же посмотрим на то, что имел в виду Платон, когда говорил: «Огонь и дух (пневма. – Примеч. пер.) – необходимые составляющие нашей жизни». Существуют четыре первоэлемента, из которых возникает все сущее. Из этого более тяжелыми являются земля и вода, хотя вода и воздух более подвижны, особенно у живых существ. Почти всеми признается, что состоящее из четырех первоэлементов тело нуждается не только в незаметном для чувств вдыхании и выдыхании, но также и в возможности обладать или освободиться от них. Следствием этого является потребность в пище, чтобы постоянно восстанавливать недостаток веществ. Именно для этого боги создали растения. Ранее[235] нами уже говорилось, что Платон был прав, когда называл растения живыми. В соответствии с существующим мнением жизнь представляет собой начало движения, поэтому если внутри растений существует свой источник движения, мы с уверенностью можем назвать их одушевленными (живыми). Ведь люди любое одушевленное тело называют живым. Вслед за Аристотелем мы можем утверждать, что одушевленному телу необходимо обладать чувствительностью, поэтому мы утверждаем, что даже растения обладают данным свойством. В нашем сочинении «О естественных способностях» мы уже говорили, что растения способны отличать вещества, однородные с ними и из которых они получают питание, от тех, которые могут повредить им, то есть они выбирают подобные им вещества, при этом отвергая чужеродные. Именно поэтому Платон утверждает, что растениям свойственна определенная чувствительность, так как они способны отличать тождественное им самим от того, что не подходит им никаким образом. Сказанного достаточно, чтобы объяснить основные мысли Платона по данному поводу. Остается лишь указать тех[236], кто считает, что наша душа имеет одну сущность, вмещающую в себя три [потенциальные] способности – разумную, страстную (θῡµοειδής) и желательную (ἐπιθῡµητικόν). Платон в нескольких своих сочинениях, а особенно здесь[237], о чем мы уже говорили, указывал, что желательная способность души в одинаковой степени присуща всем живым существам и растениям. У [живых существ] она расположена в печени, поэтому мы можем утверждать, что разумная и страстная способности души расположены в других местах. При этом было бы разумным утверждать, что три части души на самом деле являются одной сущностью. Это доказывают даже те, кто считает, что средоточием души является сердце[238]. Они совершенно обоснованно заявляют о наличии трех основных способностей души. Однако Платон указывает на отличие разумной души от бессознательных [душевных проявлений], таким образом, разум находится в состоянии борьбы с желательной и страстной частями души. Кроме того, иногда разумная часть души прибегает к помощи страстной, чтобы противостоять желательной способности, расположенной в печени. В этой связи он [символически] сравнивает наши души с мифологическими животными, описанными поэтами, такими как Химера, Сцилла и Цербер. Платон очень точно сравнил наши душу с возничим и лошадьми, но это сравнение уступает первому, которое мы можем найти в его сочинении «Государство»[239], где он описывает наши души как состоящие из сложных частей, в точности так же, как миф описывает нам Химеру. Ранее я уже говорил, где можно найти это место[240].
Меня не интересуют те мои злополучные судьи, которые, как обычно, смеются над моими словами как над пустой болтовней, насмехаются над ними, смешивают с грязью. Я не обращаю внимание на то, что они считают меня шутом, когда я излагаю учение о трехчастном строении души. Я уже говорил, что разум находится в головном мозге, оттуда он управляет нервами и движениями, а также пятью чувствами. Желательная часть души расположена в печени и отвечает за кровь, вены, а также обладает способностью различать вещества, которые необходимы для питания тела. Страстное начало, находящееся в сердце, следит за артериями, естественной температурой, пульсацией [крови], а также за животной частью души. Платон только указывает на данные виды души, но при этом не говорит о них как о единой сущности. Даже если это и так и сущности души различны, то при этом они все равно присутствуют во внутренних органах, поэтому любому из нас можно считать, что у нас не три души, а три свойства [одной души], поскольку, утверждая обратное, мы выступим против медицины и философии. Кроме того, мы должны сказать, что живое существо управляется тремя свойствами (способностями. – Примеч. пер.), одна из которых расположена в мозге, другая – в сердце, а третья – в печени. Но довольно об этом! Перейдем к тому, о чем говорили в последнее время, рассуждая о растениях и третьей, [животной], части души.
Далее, может показаться, что Платон говорит противоположное тому, о чем он уже сказал. Он доказывает, что растения имеют корни и поэтому неподвижны, так как лишены возможности двигаться (ἐν ἑαυτῷ περὶ αὑτό). Но ранее говорилось о движении, которое можно обозначить как внутренне присущее (οἰκεῖος) растениям. Имеется в виду движение, которое позволяет растениям вырасти из очень маленького семени, при этом стебель тянется вверх, а корни остаются внизу, чтобы питание, получаемое ими из земли, донести до самых последних кончиков ветвей. Таким образом все части [растения] получают развитие. Из всего этого видно, что не подразумевается тот [род] движения, который именуется передвижением, при котором мы меняем свое местоположение и переходим с одного места на другое. Когда Платон говорит о [неподвижности растений], он имеет в виду, что они удерживаются корнями [на одном месте].
Я пришел к этому выводу, изучив копии аттических рукописей, и среди них я нашел фразу [Платона], звучащую следующим образом: «Посредством собственного движения» («διὰ τὸ τῆς ἐξ αὑτοῦ κινήσεως»). Я считаю, что здесь не хватает буквы «ω» (омега) и Платон, на самом деле, написал: «Посредством собственного [движения] во вне себя» («διὰ τὸ τῆς ἔξω ἑαυτοῦ»). Таким образом, говоря, что растения лишены движения, он только имел в виду, что они не могут передвигаться с места на место[241].
[77c6-9] Итак, все эти породы растительного царства произрастили они, мощные, нам, менее сильным, для пропитания. Затем они же прорубили в самом нашем теле протоки, как прорубают в саду водоотводные каналы, дабы оно орошалось притоком влаги.
Как говорит Платон, боги создали растения, чтобы они питали наше тело, поэтому мы принимаем в пищу плоды или их различные части. Все, что мы проглатываем, мы измельчаем, что делает возможным поступление питательного вещества в вены. Все это напоминает, как вода течет в сады по оросительным каналам. Вода протекает по каналам и впитывается прилегающей почвой. Садовники устанавливают такое расстояние между каналами, чтобы вода, протекающая посередине [участка], могла проникнуть во все его части, находящиеся между каналами.
[77c9-d3] Прежде всего они провели два скрытых протока между кожей и сросшейся с нею плотью – две спинные жилы, соответствующие делению тела на правую и левую стороны…
На примере с оросительными каналами садов Платон описывает систему вен. Он говорит о крупных венах, от которых расходятся [более мелкие], распространяясь по всему телу. Все они расположены внутри организма. Он называет их спинными (νῶτος), так как они расположены вдоль спины. Называя эти сосуды венами, Платон не ошибается, потому что, как мы знаем, древние называли артерии венами. Однако он не совсем прав, когда говорит о разделении тела этими сосудами на правую и левую части. Спинные сосуды различны: одни имеют тонкие стенки и не пульсируют, другие, наоборот, имеют стенки в пять, шесть раз толще и при этом пульсируют. Именно эти сосуды и называются артериями. Кроме того, эти спинные сосуды не располагаются слева или справа, но находятся посередине позвоночного столба, с обеих сторон которого располагаются нервы[242].
[77d3-6] …эти жилы они направили вниз по обе стороны от позвоночного столба, заключив между ними детородный мозг так, чтобы и он поддерживался в самом цветущем состоянии, и другие части получали равномерный приток легко разливающейся книзу крови.
Платон разделял устаревшее мнение, которого, как кажется, придерживался и Гиппократ, что спинной мозг мог называться еще и детородным. Он считал, что сперма образуется от спинного мозга по мере продвижения к детородным органам человека. Кроме того, Платон считал, что питание мозга осуществляется при помощи кровеносных сосудов, наполняющих его силой. С помощью этих же сосудов происходит постоянное распределение питания между всеми частями организма, точно так же, как вода перетекает из больших каналов в малые. Что же касается выражения «вниз по обе стороны от позвоночного столба», то это также не совсем верно, так как верхние части организма, такие как шея и голова, питаются с помощью вен. На уровне диафрагмы крупная артерия проходит по позвонкам, затем, достигнув конца [позвоночника], она разделяется и проходит сквозь нижние части организма. В той части позвоночника, который выше диафрагмы, данная артерия также проходит по позвонкам, но рядом с ней идет малая вена, задача которой заключается в питании нижней части грудной клетки на уровне последних восьми ребер, которые называются ложными. Верхняя часть позвоночника состоит из первых четырех позвонков грудной клетки, а также включает шейные позвонки, идущие до головы. В этом месте не проходит никакая артерия и вена. Неудивительно, что Платон не знал об этом, ведь я уже говорил, что он не был знаком с анатомией. Впрочем, как и Гомер, написавший следующее: «…он разрезал всю вену, которая идет вдоль спины, доходя до шеи».
[77d6-e6] После этого они разделили жилы в области головы и переплели их таким образом, чтобы концы жил пересекали друг друга в противоположных направлениях; те, которые шли от правой стороны тела, они направили к левой, а те, которые шли от левой, – соответственно к правой. Это было сделано, чтобы голова получила помимо кожи лишнюю связь с туловищем, поскольку она не имеет идущих по кругу до макушки сухожилий.
Некоторые считали, что вены проходят вниз от правой стороны к левой, а расположенные слева идут направо. С этим согласны те, кто проводил вскрытия, при этом они говорят, что здесь окончания [вен] соединяются друг с другом, как, впрочем, и в других частях тела. Более того, Платон, соглашаясь с ними, считает, что соединение вен связано с головой. Он не имел никакого представления о настоящих связях, поэтому не знал, что основные связи соединяются посредством швов, а более слабые образуются с помощью надкостницы черепа, а также кожи, которая здесь более толстая, чем в других частях тела. Это происходит потому, что слишком тонкий слой плоти покрывает голову и отчетливо обтягивает череп. Платон также утверждал, что в голове нет нервов, так как не знал, что там есть «свободные» нервы, а не связанные в систему. Он не имел представления о том, что переплетение вен служит не для того, чтобы распространять по всему телу чувственные ощущения. Платон также не знал, что чувственные ощущения – это последствия нервной работы головного мозга. Впрочем, подобное невежество было свойственно и древним врачам, о чем я уже говорил.
[77e7-78b2] Другая цель состояла в том, чтобы ощущения, исходящие от обеих сторон, отчетливо получало все тело в целом. Затем они начали устраивать водоснабжение таким способом, который станет нам понятнее, если мы наперед согласимся, что все тела, составленные из меньших частиц, непроходимы для больших, между тем как тела, составленные из больших частиц, проходимы для меньших. Поскольку же из всех родов самые малые частицы имеет огонь, значит, он прорывается сквозь воду, землю, воздух, а равно и сквозь все, что состоит из этих трех родов, так что для него нет ничего непроходимого. Если мы это будем иметь в виду применительно к нашей брюшной полости, обнаружится следующее: когда в нее входят яства и напитки, они там и остаются, но воздух и огонь не могут быть ею удержаны, поскольку имеют меньшие сравнительно с нею частицы.
Платон назвал каналами течение крови по венам, он определил это явление по подобию с оросительными каналами. Он также утверждал, что перетекание крови возможно только тогда, когда пневма, соединенная с теплом, проходит через желудок и несет с собой размельченные частицы пищи. Я достаточно ясно изложил основные мысли Платона. Все, что идет далее, очень сложно для понимания и объяснения, поэтому я попытаюсь истолковать каждое слово, а закончив, сделаю общее заключение.
[78b2s] К этим веществам и прибег бог, вознамерившись наладить отток влаги из брюшной полости в жилы.
Говоря слово τούτοις («этим»), он обозначает уже упомянутые вещи – пневму и огонь. Огнем он называет внутреннее тепло, происходящее от первоэлемента, сохраняющего его природу, так как горячее всегда обладает данным качеством из-за преобладания в нем огня.
[78b3s] Он соткал из воздуха и огня особое плетение…
Здесь Платон рассказывает об устройстве рыболовной верши. Это не самое легкое объяснение для того, кто никогда не видел, что она собой представляет. Вообще-то с трудом можно найти тех, кто ее видел. Если некто живет рядом с морем, то у него есть возможность узнать, как устроена рыболовная верша. Наоборот, для тех, кто живет в глубине страны или в горах, вершу можно сравнить только с корзинами, предназначенными для приготовления сыра. Внимательный человек увидит, что эти корзины закрыты снизу, а вверху имеют отверстие. Поэтому мы попытаемся понять, что далее имеется в виду.
[78b4s] …похожее на рыболовную вершу.
Для того чтобы уяснить, что такое рыболовная верша, нам нужно понять, что она ограничена внешними стенками, внутри ее помещается еще одна верша, но уже меньшего размера. Она в точности такой же формы, что и большая. Верши – это полости, создаваемые переплетением веревок. Малая верша, которая находится внутри большой верши и имеет одно с ней основание, соединена с большой веревками. Отверстие малой верши находится не на одном уровне с отверстием большой верши, а несколько ниже, почти у самой нижней стенки. Малых вершей может быть две, они подобны друг другу и обе находятся внутри большой, которую я описал. Чтобы вы смогли лучше понять устройство из вершей, вам надо представить вытянутую сеть, совершенно закрытую с одной стороны и стянутую, с небольшим отверстием, с другой. Внутри большой верши имеется в точности такая же малая сеть с еще меньшим отверстием. Тем самым в верши имеются два отверстия для рыб: одно – в большой, другое – в малой. Рыбы заплывают в большое отверстие и, проплывая дальше от входа, попадают в отверстие малой верши. При этом рыбы разделяются: большие остаются в большой верше, а мелкие попадают в малую. Эти отверстия в вершах Платон называл «полостью» (ἐγκύρτια).
[78b5s] …и у входов имевшее две вставленные воронки…
Платон говорил о том, что одно из отверстий верши раздвоено. Как правило, мы называем раздвоенным ствол дерева, у которого два ствола вырастают из одного. Платон же перенес это название на отверстие одной из малых верш. Поэтому мы думаем, что это отверстие было двойным. Рассуждая в этом месте подобным образом, он (Платон. – Примеч. пер.) сделал свое объяснение еще более запутанным. Мы полагаем, что, скорее всего, Платон имел в виду, что отверстия малых верш находились в верхней части большой. Из этого мы можем заключить, что большая верша включала в себя малые. Тем самым Платон считал, что внешняя часть большой верши может служить для нас образом кожи, покрывающей все тело, а две малые полые верши, содержащиеся в большой, соответствуют внутренним полостям, по моему мнению, животу и грудной клетке. От этих полостей к полости рта поднимаются две трубки. Для большей ясности представим, что во рту нет языка и в ротовую полость подходят две трубки – пищевод из желудка и трахея, проходящая через легкие, находящиеся в полости, соответствующей одной из малых верш. Следствием этого является тот факт, что через одно отверстие происходит дыхание, впускается и выпускается воздух. Пища и питье проходят через второе отверстие и оказываются в желудке. Платон считал, что небольшая часть воздуха все же попадает в желудок через пищевод, а часть питьевой жидкости – в легкие через трахею. Кроме того, как я уже отмечал, название «раздвоенный» вносит еще большую неопределенность в платоновское описание и вызывает споры. Ведь он говорит, что воздух попадает в трахею через двойное отверстие, как через нос, так и через рот, тогда как пища и питье могут попадать в [желудок] только через рот. Те, кто любит ученые диспуты, вполне могут их начать, так как они полагают, что два отверстия малых верш, то есть полости носа и рта, не относятся ни к одной из этих вершей, так как сам рот является единственным отверстием, ведущим как к желудку, так и к легким. Теперь для нас совершенно ясно выражение Платона: «Наши внутренние органы похожи на рыболовецкую вершу», и мы знаем, чему соответствуют малые верши. Сейчас же самое подходящее время обратиться к следующей части произведения.
[78b6] …одна из которых в свой черед разделялась на два рукава; от этих воронок он протянул кругом во все стороны подобия канатиков, доведенные до самых краев плетения…
Подобного этим канатикам невозможно обнаружить в рыболовецкой верши, так как стенки малых верш не скреплены большим количеством канатиков со стенками большой верши. В результате [подобного устройства] все внутреннее пространство большой верши пустое. В человеческом теле все устроено иным образом: вены и артерии тянутся из брюшной полости и легких по всему телу до самых крайних частей тела. Именно эти сосуды Платон сравнивает с канатиками, которые идут от малых верш к основанию большой.
[78b7-c2] …при этом всю внутренность верши он составил из огня, а воронки и оболочку – из воздушных частиц.
Однако Платон говорит, что все это переплетение соответствует верши. Но поскольку она внутри полая, он предполагает, что все внутреннее пространство в большей степени состоит из воздуха, чем из огня. Несомненно, что полость в груди не содержит внутри себя ничего, кроме воздуха. Тем не менее точно не ясно, что имеет в виду Платон под словом κύτος[243], возможно, он подразумевает под ним слово «воздухообразный» (ἀεροειδής). По-видимому, этим словом Платон желает определить объект, о котором он говорит. Тем не менее это противоречит уже сказанному ранее, поскольку полость состоит из большой и малой верши. Он хочет, чтобы мы представили себе пространство, в котором канатики, [как мы полагаем, их четыре], представляют, по его мнению, артерии и вены. Поэтому нам остается только признать, что слово «κύτος» является плетеной тканью по отношению к большой верше, у которой стенки такие же плетеные. Если в пространстве между большой и малой вершами преобладает огонь, то тогда следует признать, что воздух доминирует за внешней оболочкой [большой вершей]. Мы понимаем под этой оболочкой кожу, которая так же холодна, как и окружающие нас тела. Кожа постоянно взаимодействует с воздухом, поэтому Платон хочет сказать, если я правильно его понял, что внешний воздух, соприкасающийся с этим плетением [верши], сам по себе также является частью внешней оболочки. Однако именно это объяснение не совсем ясно. Если же мы допустим, что на самом деле все так, как мы поняли, то оно прекрасно согласуется с тем, что будет нами сказано и объяснено.
[78c2s] Затем он взял свое изделие и снабдил им то существо, что было им изваяно, а действовал при этом вот как…
Упомянутое им выше «плетение» не существует само по себе, но, приняв его мысль как таковую, мы должны соотнести ее с устройством живого существа.
[78c3-d2] …отверстия воронок он утвердил во рту, поскольку же их было две, то одну из них он вывел через дыхательные пути в легкие, а другую – мимо дыхательных путей в брюшную полость; при этом первую он рассек на две части, проведя к обеим общий проход через отверстия носа, так что, если проход через рот оказывается закрытым, приток воздуха восполняется по другому проходу. Далее, всю оболочку верши он прикрепил вокруг полости тела…
Платон не говорит, что одно из отверстий (воронок. – При-меч. пер.) [малых вершей] переходит в рот, иначе бы он сказал: «рядом с другим во рту». Тем не менее он говорит именно о том, что воронки (отверстия. – Примеч. пер.) существуют вместе. Как я и утверждал, его мысль состоит в следующем. Всего существуют три полости (воронки. – Примеч. пер.): одна из них представляет большую вершу, две остальные являются малыми, переплетение двух малых оказывается во рту. Но поскольку во рту две воронки [малых вершей], то одну из них он опускает вниз через трахею, а другую – в брюшную полость вдоль бронхов. Как уже было сказано, существуют два отверстия, но одно из них раздваивается и ведет к носу. Почему же в таком случае Платон использует слово «общий»? Далее он так объясняет это: «…если проход через рот оказывается закрытым, поток воздуха может проходить по другому проходу». Таким образом, «малая верша» дыхания раздваивается на два канала для воздуха: один идет через рот, другой – через нос. Если воздух по какой-либо причине не может идти через рот, то носовой канал может впускать его. Далее Платон рассуждает о малых вершах, которые он называет «огненными лучами» по преобладающему в них первоэлементу [огню].
[78d2-79a4]…и устроил так, чтобы все это попеременно то втекало в воронки – притом мягко, ибо последние состоят из воздуха, – то вытекало из воронок, при этом плетение утопало бы в глубине тела, которое пористо, а затем сызнова выходило наружу, между тем как огнистые лучи, заключенные в теле, следовали бы за движением воздуха в том и другом направлении. Все это должно непрестанно продолжаться, пока не распадутся жизненные связи смертного существа; и мы беремся утверждать, что именно это учредитель имен нарек вдыханием и выдыханием. Благодаря всей этой череде действий и состояний орошаемое и охлаждаемое тело наше получает питание и жизнь, ибо всякий раз, как дыхание совершает свой путь внутрь и наружу, сопряженный с ним внутренний огонь следует за ним, вновь и вновь проходит через брюшную полость, охватывает находящиеся там еду и питье, разрушает их, разнимая на малые доли, затем гонит по тем порам, сквозь которые проходит сам, направляя их в жилы, как воду из родника направляют в протоки, и таким образом понуждает струиться через тело, словно по водоносному рву, струи, текущие по жилам.
Напомним, что согласно Платону, необходимо представить себе, что вся большая верша есть внешняя оболочка тела, постоянно взаимодействующая с внешним воздухом. Внутри себя она содержит два сосуда, наполненных воздухом и напоминающих малые верши. Одна из них находится в брюшной полости, а другая – в груди. Все пространство между большой и малыми вершами наполнено огненными лучами, проходящими вдоль артерий и вен, а сами полости вершей служат для движения изнутри наружу и снаружи внутрь. Поэтому Платон утверждает, что существуют два противоположных движения в двух малых вершах. Одно направлено к внешнему воздуху, а другое, соответственно, от внешнего воздуха внутрь. Затем Платон объясняет нам, каким образом реализуются эти движения и почему они не прекращаются, пока тело живет. Подводя итоги своим мыслям, он утверждает, что двойное движение создает двойное дыхание и двойное распределение питания. Я же называю дыхание функцией, состоящей из вдыхания и выдыхания, и в этом я согласен со всеми врачами, что есть три положения: первое – это движение внутрь, второе – движение наружу, а третье выступает как результат этих движений. Итак, первый род движения – это «вдыхание», второе – «выдыхание», а само дыхание есть следствие этих движений. Платон вдох называет дыханием и говорит, что воздух проходит через трахею и, очевидно, попадает в брюшную полость. Он считает, что движение воздуха наружу и внутрь происходит в полости внутри большой верши и находящихся там малых верш. Когда пища и питье попадают внутрь, то они сдавливаются и измельчаются на части[244], после чего с помощью переплетений [сосудов] они распределяются по всему телу жаром и пневмой (θερµασίᾳ καὶ τῷ πνεύµατι). Этот процесс врачи называют распределением по телу питания, которое поступает во все части тела через артерии и вены. Затем Платон утверждает, что в этом заключается причина двойного движения пневмы и жара.

