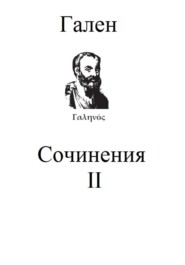 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Сочинения. Том 2
Гален предлагает классификацию частей тела, удовлетворяющую требованиям создания системного представления об общей патологии. Сегодня мы говорим о тканях (их типы изучает гистология) и состоящих из них органах человеческого тела. У Галена анатомия человеческого тела также строится иерархично, только суть иерархии иная. К первому роду составляющих человеческое тело частей относятся так называемые простые части, каждая из которых, по мнению Галена, имеет гомогенную внутреннюю структуру и состоит из гомеомерий одного вида (артерии, хрящи, связки и т. п.; фрагмент 3). Второй уровень, по Галену, составляют сложные части тела, соответствующие современному понятию «орган» (печень, мозг, сердце и т. п.). В соответствии с его представлениями сложные части составлены из простых, поэтому простые именуются «гомеомерными», а к сложным это название неприменимо. Гален прекрасно понимает, что, например, такая часть тела, как печень, состоит из связок, сосудов, собственно печеночной ткани и т. д. Соответственно, предполагается существование на микроуровне разных видов гомеомерий в составе печени, которая тем не менее представляет собой самостоятельную часть тела в силу своего совершенно определенного функционального предназначения (фрагмент 3).
Все части тела, по Галену, особым образом функциональны. Первичные (или гомеомерные) в полной мере осуществляют свою функцию, однако могут входить в состав частей тела второго типа, так называемых сложных (иногда Гален прямо именует их «органами»). Великий врач показывает это на примере мышцы – части тела, состоящей, по его мнению, из однородных элементов (гомеомерий), которые вместе с тем могут входить в состав сложной части тела. Отсюда его предположение: «Таким образом, когда мы установим количество и виды болезней гомеомерных [частей тела], исходя из первого предположения, то сможем [далее] перейти к другому, утверждающему, что весь [организм] в целом подвержен изменениям и преобразованиям» (фрагмент 3).
Далее Гален возвращается к логике методистов, которые считают, что «существуют два первичных заболевания – расширение пор (εὐρύτης) и их сжатие (στέγνωσις)» (фрагмент 4). При этом первичные элементы, т.е. атомы, по логике методистов неизменяемы. В соответствии же со взглядами Галена нарушение соразмерности смешения как раз и может происходить на уровне первичных гомеомерных частей тела.
Гален последовательно обращает внимание на необходимость, исходя из реальной практики, учитывать различную степень выраженности патологических изменений частей тела: «Нередко именно в этом отношении применимы понятия “более” и “менее”, ведь имеется достаточно большой интервал между болезненной несоразмерностью и соразмерностью, соответствующей идеальному здоровью, и в этом промежутке и находятся различные степени здоровья» (фрагмент 4). Нарушение функции той или иной части тела, очевидно, может быть описано в категориях «больше» или «меньше»: например, в зависимости от степени выраженности артрита подвижность ноги более или менее ограничена. Сталкиваясь с необходимостью объяснять эти изменения с позиции методистов, мы попадаем в тупик, оперируя категориями расширения или сужения пор. «Ведь тела живых существ по природе своей не могут выносить сжатия или расширения до бесконечности, но здесь существует определенный предел, который для них невозможно преодолеть без разрушения». Здесь Гален обращает внимание на продуктивность использования принципа тетрад: «Следовательно, должны существовать четыре первичных разновидности болезни: при первой жар нарушает равновесие, соответствующее природе, при второй – холод, при третьей – влажность, при четвертой – сухость. Таковы, согласно второму предположению, болезни так называемых гомеомерных [частей] тела. Эти болезни представляются совершенно простыми» (фрагмент 4). Таким образом, представляя тело как сочетание элементов, он приходит к выводу о невозможности представить такое тело как случайное сочетание частей, имеющих несоответствие по величине и количеству. Далее Гален подробно раскрывает все четыре вида первичных болезней. При болезнях первого вида нарушается надлежащая форма части тела, второго – наблюдается избыток или недостаток сущностей, третьего – увеличиваются или уменьшаются размеры частей тела, четвертого – изменяется их взаимное расположение (фрагмент 4).
Гален повторяет свою мысль о том, что болезнь первичных гомеомерных частей тела означает заболевание вторичных, так как вторые состоят из первых. Это соображение далее уточняется в отношении универсализации подходов к систематизации опыта: «Не существует отдельной классификации болезней для простых и для сложно составленных частей тела, поскольку при выбранном нами способе классификации это невозможно, но существует общая классификация, речь о которой пойдет далее, подходящая для всех частей тела, включая сложные, вне зависимости от того, являются ли они первичными, вторичными или третичными» (фрагмент 4). Мысль Галена может показаться туманной, если не учитывать необходимость сопоставления его классификации частей тела и их заболеваний с современными взглядами на общую патологию. Действительно, в наши дни в патологической анатомии мы выделяем синдромы (тромбоз, эмболию, некроз и т. п.), которые представляют собой явления, способные затрагивать любые органы и ткани. При этом современная концепция болезни предусматривает идентификацию нозологий по органному принципу. Так, некроз сердечной мышцы – следствие тромбоза коронарного сосуда – будет распознан кардиологом как инфаркт миокарда. Гален стремится к созданию универсальной теории на основе доступного ему уровня наблюдений. Следует помнить, что ему была недоступна даже небольшая часть технических приспособлений, имевшихся позднее в распоряжении его коллег. Опираясь на клинический опыт и логику, Гален системно осмысляет сложное устройство человеческого тела. Его видение частей тела прозорливо и иерархично: первичные части тела, состоящие из однотипных гомеомерий, далее вторичные, сложные части тела, составляемые из простых первичных, и далее сам организм, представляющий собой совокупность сложных частей тела. Повторим очень важную мысль: во всех случаях критерием выделения любой части тела (неважно, первичных или вторичных) является наличие самостоятельной функции. В конечном счете все изобилие функции организма в целом представляет собой взаимодействие его сложных частей. Соответственно, Галену кажется логичным выделять заболевания, присущие каждому уровню иерархии частей тела. По ходу изложения он разбирает клинические примеры с двух точек зрения: своей собственной, пользуясь критериями, о которых мы упомянули выше, и методистов, пытающихся объяснить все патологические процессы несоразмерным расширением и сжатием пор. Он указывает на абсурдность мысли о возможном выпадении элементов, к которому приводит эта идея. В качестве примера Гален упоминает такие состояния, как отек и лихорадка, указывая на них как на очевидный пример заболеваний, связанных с нарушением соразмерности смешения элементов. Он признает, что болезни, связанные с отеком частей тела, действительно могут трактоваться как засорение каналов, существующих внутри тел. Их также можно называть порами, но в функциональном и анатомическом смыслах они совершенно отличаются от того, что понимают под «порами» методисты: «К этому виду, как известно всем, относятся рожа, воспаление, отеки, опухоли, отеки желез, зоб, слоновая болезнь, чесотка, проказа, белый лишай и скирр» (фрагмент 5). Галену ясно, что наблюдения лихорадки, т. е. «преобладание жара», при отсутствии столь очевидных видимых проявлений нуждаются в дополнительных причинных объяснениях. Таковыми могут быть физическая перегрузка или психоэмоциональное перевозбуждение. Гален указывает на одинаковую опасность гипертермии и переохлаждения организма: и то, и другое воздействие может оказаться смертельным, вызывать судороги, тремор и спазмы. Он обращает внимание на возможную логику заблуждений своих оппонентов, путающих симптомы и причину заболевания. Таким заблуждением можно считать восприятие лихорадки, возникающей при повреждении какой-либо части тела, как основного заболевания. Гален особо подчеркивает необходимость глубокого понимания взаимосвязи внутренних процессов, происходящих в частях тела, и внешних, наблюдаемых визуально симптомов болезни: «То же происходит и с разрушающимися костями: некоторые из них напоминают песок, наподобие гниющего со временем дерева, а другие, как было сказано, выглядят “дряблыми”, словно покрытые мхом. Это происходит из-за очень сильной дискразии (дурного смешения жидкостей. – Примеч. пер.), которая бывает от избытка сухости или влаги, что и приводит к некрозу костей» (фрагмент 5). Сходный пример приводится Галеном в отношении ослабленности функции желудка: «…определенно, недостаток надлежащего переваривания пищи не возникает без причины. В любом случае в качестве причины надо указать либо на несоразмерность каналов, либо на ненадлежащее смешение начал» (фрагмент 5). В следующем фрагменте Гален призывает к изучению причины этой слабости. И вновь он обращает внимание на необходимость делать выбор между моделью методистов и своим подходом к пониманию болезни как несоразмерному смешению элементов: «Теперь же нам надо выяснить, является ли “ослабление” функции желудка, вены, артерии или мышцы или другой живой и жизненно важной части тела следствием какой-либо несоразмерности пор или возникает в результате плохого смешения начал» (фрагмент 5).
Далее Гален переходит к обсуждению заболеваний сложных частей тела, продолжая отстаивать в своей классификации телеологический подход: «Те состояния, которые препятствуют функционированию органа не сами по себе, но постольку, поскольку причиняют вред органу, являются не болезнями, но причинами болезни. А если некое состояние, не причиняя вреда самой [сложной] части тела, препятствует ее функционированию, то его уже следует называть болезнью» (фрагмент 6).
Гален неоднократно подчеркивает, что все части тела созданы природой с целью выполнения определенной функции, следовательно, именно повреждения, нарушающие их функцию, и следует квалифицировать как болезни, нарушения, которые «приводят к повреждению действующей части тела», называются причинами болезней (фрагмент 6). Здесь Гален обращается в качестве примера к нарушениям функции нижних конечностей. Ранее он указывал, как неверное обращение с ребенком (неправильное пеленание, слишком ранняя или, наоборот, поздняя двигательная активность) может привести к косолапости или плоскостопию. Далее он указывает на то, что болезни могут стать следствием неверных действий врача: например, неграмотное лечение перелома также приводит к нарушению функции конечности. Нарушения функции (болезни) могут быть и врожденными, формируясь внутриутробно (фрагмент 7). Он разбирает вопрос о заболеваниях внутренних органов, вызываемых закупоркой каналов, через которые при их нормальном состоянии осуществляется дренирование полостей тела. Такая закупорка происходит как на поверхности тела (это Гален ранее иллюстрировал примерами воспалительных заболеваний – рожи и т. п.), так и во внутренних полостях. Однако этот процесс нельзя отождествлять с тезисом методистов о засорении пор. Более того, эта закупорка может быть как собственно заболеванием, так и следствием внешнего воздействия. Например, печеночная вена может быть поражена собственным заболеванием (флебит различного происхождения), а может быть пережата под давлением опухоли соседнего органа. Точно так же закупорка кишечника может являться болезнью, если вызвана воспалительным процессом внутри его, а может быть вторичным проявлением внешнего воздействия. Тогда необходимо говорить о двух болезнях. Ярким примером такой ситуации является развитие лихорадки при воспалительных заболеваниях. Судя по тому, какие примеры приводит Гален – лихорадка при рожистом воспалении, пустулах и т. п., – он имеет в виду не просто повышение температуры, но генерализацию заболевания – формы септицемии. Следует вывод: «…сама закупорка является болезнью, тогда как жидкости представляют собой ее причину. Итак, все болезненные состояния полостей, как являющиеся следствием закупорки, так и произошедшие от несоразмерного расширения, должны быть отнесены к болезненным изменениям структуры органов, так как во всех этих случаях происходит нарушение природного устройства [органа]» (фрагмент 7). Сходным образом Гален оценивает шершавость горла, вызывающую кашель. Здесь речь идет об ассоциации субъективной жалобы больного с объективно наблюдаемым симптомом. Гален прекрасно понимает, что конкретные субъективные ощущения больного означают воспаление или сдавление дыхательного канала.
Болезнь может быть следствием нарушения первоначального устройства органа, когда наблюдается как его недоразвитие (Гален использует слово «недостаток»), так и его «избыток». В качестве примера он приводит врожденную шестипалость (фрагмент 8). Речь идет именно о количественном принципе оценки, историкам медицины следует в таких случаях избегать использования понятий «аномалия» или «аномальное развитие». В медицине Галена еще нет разделения на нормальную и патологическую анатомию – оно возникает гораздо позже. Вариантом патологического «избытка» являются болезни, «полностью противоречащие природе», например, «гельминты (ἕλµινς) или аскариды (ἀσκᾰρίς), камни в мочевом пузыре, трихинеллез глаза, катаракта, гной, бородавки, кисты, жировые отеки, сальные опухоли, белые лишаи, проказа, струпья, известковые отложения в суставах и все, что бывает внутри нарывов» (фрагмент 8). Соответственно, вариантом «недостатка» части тела являются противоречащие «избытку» крайности, такие как атрезия костей. К болезненному избытку, может быть не совсем логично, Гален также относит заболевшие части тела, требующие резекции, – кариозные зубы или воспаленные части полового члена. Следующим примером «недостатка» частей тела он считает состояния их утраты вследствие болезни или несчастья: «Известны случаи, когда человек, сжав зубы от сильного мышечного напряжения, откусывал кончик языка. Затем, освободившись от спазма, он уже не может разговаривать, как раньше. К этой разновидности [повреждений] относится так называемое “отрубание” губ, носов, ушей и других частей тела, которые были утрачены в результате несчастного случая или пострадали от гниения и поэтому были полностью удалены» (фрагмент 8).
При повреждении частей тела речь идет о болезни в той степени, в какой страдает или утрачивается их функция (фрагмент 8). Гален приводит достаточное количество таких примеров, очевидно, находя их весьма важными (см. фрагменты 8–9). Они могут показаться случайным перечнем наблюдаемых феноменов из клинической практики. Однако не следует забывать о важном моменте: в нозологической системе Галена выделяются болезни, относящиеся к размеру или величине частей тела (фрагмент 9). К числу таких болезней относятся приапизм, патологическое увеличение молочных желез, зарастание ран избыточной грануляцией. В целом все заболевания объединяются, по мнению Галена, главным общим критерием: они начинают считаться таковыми, как только нарушают естественную функцию части тела и организма в целом (фрагменты 9 и 10).
В завершающей части трактата (фрагменты 11 и 12) Гален вновь возвращается к полемике с методистами относительно основного механизма общей патологии (чрезмерного сжатия или расширения пор). Он не устает показывать, насколько несостоятельным является это объяснение применительно к многообразию клинических ситуаций. Здесь Гален выдвигает важный аргумент, усложняя номенклатуру заболеваний гомеомерных частей тела. Помимо четырех простых болезней, он называет четыре сложные, которые возникают «в каждой гомеомерной части тела в результате появления качеств, не соответствующих природе»: «жар и сухость, жар и влажность, холод и сухость, холод и влажность» (фрагмент 12).
На примере раны, осложненной воспалением, он показывает, как этот механизм может объяснять конкретные патологические процессы: «Таким образом, часть тела, одновременно механически поврежденная и страдающая от воспаления, отклоняется от естественного состояния трояким образом: из-за ослабления происходит разрушение единства частей [тела], тогда как воспаление делает их более теплыми и влажными, чем в естественном состоянии. Так же и отек таких [частей тела], когда он увеличивается настолько, что нарушает их функцию, должен рассматриваться как болезнь. В другом же случае он является только симптомом болезни или страданием, так же как и боль» (фрагмент 12).
Естественно, существуют более сложные болезни, которые следует отличать от простого воспалительного осложнения раны. В качестве примера Гален приводит рожистое воспаление, отек и рак и др.: «С одной стороны, все такие болезни являются результатом излишка жидкости, как горячей, так и холодной: рожистое воспаление – всегда избыток желчи, рак – последствие избытка черной желчи, воспаление – избыток крови, а отек – избыток флегмы» (фрагмент 12). Следует помнить, что, по мнению Галена, вышеупомянутые жидкости, являясь «влажными по форме», обладают «в силу своих способностей» совершенно определенными свойствами в отношении развития патологических процессов. Черная желчь оценивается как «сухая и холодная», желтая – как «сухая и горячая», флегма считается влажной и холодной, кровь – влажной и горячей. Таким образом, Гален соотносит виды основных жидкостей с характеристиками сущностей, уточняя объяснительные возможности главного принципа патогенеза – нарушение равновесия тетрад первоначал.
Патологические сущностные проявления избытка какой-либо одной жидкости крайне редко встречаются в клинической практике. На деле врач, как правило, наблюдает более сложные процессы. Поэтому Гален называет такие болезни «составными по многим признакам», приводя в качестве примера сочетание рожистого воспаления, отека и отвердения кожных покровов.
Завершая трактат «О разновидностях болезней», Гален вновь возвращается к объяснению разницы между простыми и сложными болезнями. Тем самым он еще раз заостряет внимание читателя на важности классификации заболеваний. По его мнению, это ключ к искусству правильной диагностики. При этом нам не следует забывать о кардинальном отличии концепции болезни в системе Галена от современного объяснения этого понятия. Важно подчеркнуть комплексный и практический характер его анализа, стремление к созданию универсальной систематики, основанной на умозрительном осмыслении результатов практических наблюдений врача.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΝΟΣΗΜΑΣΙΝ ΑΙΤΙΩΝ[193]
1. Πόσα µέν ἐστι καὶ τίνα τὰ σύµπαντα νοσήµατα κατ’ εἴδη τε καὶ γένη διαιρουµένοις, ἁπλᾶ τε καὶ σύνθετα, δι’ ἑτέρου δεδήλωται γράµµατος. ἑξῆς δ’ ἂν εἴη τὰς αἰτίας αὐτῶν ἑκάστου διελθεῖν, ἀπὸ τῶν ἁπλῶν τε καὶ ὁµοιοµερῶν ὀνοµαζοµένων τοῦ ζώου µορίων ἀρξαµένους, εἶτ’ αὖθις ἐπὶ τὰ σύνθετά τε καὶ ὀργανικὰ µεταβάντας. ἐπεὶ τοίνυν ἐδείχθη, κατὰ µὲν τοὺς ἡνῶσθαί τε καὶ ἠλλοιῶσθαι τὴν ὑποβεβληµένην οὐσίαν γενέσει καὶ φθορᾷ δοξάζοντας, ἅπασα νόσος ὁµοιοµεροῦς τε καὶ ἁπλοῦ πρὸς αἴσθησιν σώµατος ἤτοι δυσκρασία τις ὑπάρχουσα, ἢ τῆς συνεχείας αὐτοῦ τῶν µερῶν διαίρεσις, κατὰ δὲ τοὺς µήθ’ νῶσθαι καὶ κενόν τι παραπεπλέχθαι πάσῃ σώµατος συγκρίσει νοµίζοντας, ἀµετρία τε πόρων οὖσα καὶ λύσις τῆς αἰσθητῆς ἑνώσεως, ἀρξώµεθα καὶ νῦν ἐπισκοπεῖσθαι τὰς αἰτίας ἑκάστου τῶν νοσηµάτων τῆς πρώτης ὑποθέσεως, ἣν δὴ καὶ ἀληθῆ πεπείσµεθα ὑπάρχειν. ἦν δ’, οἶµαι, τέτταρα µὲν ἁπλᾶ, τέτταρα δὲ σύνθετα, ποτὲ µὲν τοῦ θερµοῦ µόνον τὴν αὔξησιν ἄµετρον ἢ τοῦ ψυχροῦ λαβόντος, ἤ τινος τῶν τῆς ἑτέρας ἀντιθέσεως τῆς κατὰ τὸ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν, ἔστιν ὅτε δὲ καὶ κατὰ συζυγίαν τινὰ αὐξηθέντων αὐτῶν, ὡς εἶναι θερµὸν ἅµα καὶ ξηρὸν, ἢ ψυχρὸν καὶ ξηρὸν, ἢ θερµὸν καὶ ὑγρὸν, ἢ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν τὸ νόσηµα.
2. Τίνες οὖν ἑκάστου τῶν εἰρηµένων νοσηµά των αἰτίαι τῆς γενέσεως, ἤδη σκοπώµεθα, ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ κατὰ θερµασίαν ἄµετρον δυσκράτου νοσήµατος ποιησάµενοι. φαίνεται δὴ κᾀπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων σωµάτων, ὁπόσα θερµότερα γίγνεται σφῶν αὐτῶν, ἢ ἐκ κινήσεώς τινος αὐξανοµένου τοῦ θερµοῦ, ἢ ἐκ σηπεδόνος, ἢ ἐξ ὁµιλίας ἑτέρου θερµοτέρου σώµατος, ἢ ἐκ στεγνώσεως, ἢ ἐξ ἐπιτηδείου τροφῆς. ἐκ µὲν κινήσεως ἐπί τε τῶν γυµναζοµένων ὁπωσοῦν καὶ τῶν παρατριβοµένων ἀλλήλοις λίθων, ἢ ξύλων, καὶ τῆς ῥιπιζοµένης φλογός. ἐκ σήψεως δὲ τῶν τε ἄλλων ἁπάντων καὶ µάλιστα σπερµάτων, ἢ κόπρου· ἐγὼ γοῦν οἶδα καὶ ἀναφθέντα ποτὲ περιστερῶν ἀποπατήµατα διασαπέντα. καὶ µὲν δὴ καὶ ὡς ἐκ τῆς τῶν θερµοτέρων ὁµιλίας θερµαίνεται τὰ πλησιάζοντα, πρόδηλον παντὶ βαλανείων ἀναµνησθέντι καὶ ἡλίου θερινοῦ καὶ φλογὸς ἁπάσης. οὕτω δὲ καὶ εἰ πῦρ ἀνάψαις χειµῶνος ἐν οἴκῳ µεγάλῳ, στεγνώσας µὲν αὐτοῦ τὰς διαπνοὰς, ἀθροίσαις ἂν ἔνδον τὸ θερµὸν, ἐάσας δὲ ἀνεῷχθαι πανταχόθεν, οὐδὲν ἕξεις πλέον. ἀτὰρ οὖν καὶ τὰ βαλανεῖα καὶ αἱ κάµινοι τὸν αὐτὸν τοῦτον τρόπον ἀθροίζουσι τὸ θερµὸν ἑαυτῶν ἔνδον. ᾧ δῆλον ὡς καὶ στέγνωσις ποτὲ θερµασίας πλείονος αἰτία. δῆλον δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ὕλης, ὡς κάλαµοι µὲν οἱ ξηροὶ ῥᾳδίως ἐξαίρουσιν ἐπὶ µέγιστον τὴν φλόγα, ξύλα δέ γε χλωρὰ, καὶ µάλιστα ἢν πλείω σωρεύσῃς ἐπ’ αὐτὴν, ἄχρι µὲν πολλοῦ βαρύνει τε καὶ οἷον καταπνίγει τὴν φλόγα, τελευτῶντα δὲ αὐξάνει. πῶς οὖν ἐν τῷ τοῦ ζώου σώµατι τούτων ἕκαστον ἀποτελεῖται; γυµνασθεὶς µέν τις ἀµετρότερον ἐκοπώθη. τοῦτο δ’ ἐστὶ θερµασίαν ἔχειν ἄµετρον ἐν τοῖς ἄρθροις τε καὶ τοῖς µυσὶ πλείονα τοῦ κατὰ φύσιν. ταῦτα γὰρ ἦν καὶ τὰ πρώτως κινούµενα. καὶ εἰ µὲν ἐνταῦθα καταµείνειεν ἡ θέρµη καὶ φθάσειεν λυθῆναι, πρὶν ἐπινείµασθαι σύµπαν τοῦ ζώου τὸ σῶµα, κόπος ἂν οὕτω γε µόνον εἴη τὸ γεγονός· εἰ δὲ εἰς ἅπαν ἐκταθείη τὸ σῶµα, πυρετὸς ὀνοµάζεται τὸ νόσηµα, τοῦ παντὸς ζώου θερµότης τις ἄµετρος οὖσα. οὕτω δὲ καὶ ὁ θυµὸς, ζέσις τις ὢν τοῦ περὶ τὴν καρδίαν θερµοῦ, διὰ κίνησιν ἄµετρον ὅλον ἐπινειµάµενος ἐνίοτε τὸ σῶµα πυρετὸν ἀνῆψε. καὶ µὲν δὴ καὶ ὅσα σήπεται κατὰ τοῦ ζώου σῶµα, τινὰ µὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς µέρεσιν, ἐν οἷς σήπεται, θερµασίαν ἄµετρον ἐργάζεται, καθάπερ ἐρυσιπέλατά τε καὶ ἕρπητες καὶ ἄνθρακες καὶ φλεγµοναὶ καὶ φύγεθλα, τὰ δ’ ὅλον τὸ σῶµα συνεκθερµήναντα πυρετὸν ἤγειρε. καὶ γὰρ οὖν καὶ τὸ τρίτον αἴτιον ἀµέτρου θερµότητος ἔκ τε τούτων ἤδη πρόδηλον, ὅπως ἐπιγίγνεται τοῖς ζώοις, κᾀκ τῶν καλουµένων ἐγκαύσεων. ἐπί τε γὰρ τοῖς βουβῶσι καὶ ταῖς φλεγµοναῖς καὶ τοῖς ἐρυσιπέλασι καὶ πᾶσι τοῖς οὕτω θερµοῖς νοσήµασιν ἀεὶ τὸ ψαῦόν τε καὶ συνεχὲς µόριον αὐτὸ µὲν πρῶτον ἀπολαύει τῆς θερµασίας, ἔπειτα δὲ καὶ τῷ πλησιάζοντι µεταδίδωσι, κᾀκεῖνο αὖθις τῷ µεθ’ ἑαυτὸ, καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐµφύτου θερµασίας ἀφικοµένης τῆς δυσκρασίας ὅλον ἐν τάχει τὸ σῶµα µεταλαµβάνει τοῦ τῆς ἀρχῆς παθήµατος. αἱ δ’ ἐν τοῖς ἡλιουµένοις χωρίοις διατριβαὶ πολυχρόνιοι τῶν µὲν γυµνῶν ὅλον ἐκθερµαίνουσιν ἀµέτρως ἐνίοτε τὸ δέρµα, τῶν δ’ ἠµφιεσµένων µόνην τὴν κεφαλήν. καὶ τοῦτ’ ἔστιν ἡ ἔγκαυσις. εἰ δ’ ἅπαν ἐπινεµηθείη τὸ σῶµα, πυρετὸς ἂν οὕτω γένοιτο. τὸ δὲ τέταρτον γίνος τῆς αἰτίας τῆς ἀναπτούσης ἀµέὁρᾶται γιγνόµενον. ῥιγώσας γάρ τις ἀµέτρως καὶ νηξάµενος ἐν ὕδατι στυπτηριώδει, ἤ τινος τοιαύτης ἑτέρας µετέχοντι δυνάµεως, ἐστέγνωσέ τε καὶ ἐπύκνωσε τὸ δέρµα καὶ τὰς διαπνοὰς ἔνδον καθεῖρξεν. αἱ δ’ εἰ τύχοιεν οὖσαι καπνώδεις ἀθροισθεῖσαι, πυρετὸν ἐγέννησαν. τὸ δὲ δὴ πέµπτον εἶδος τῆς ἀναπτοµένης ἀµέτρως θερµότητος ἐδεσµάτων εἰσὶ ποιότητες δριµεῖαι καὶ θερµαὶ, σκορόδων τε καὶ πράσων καὶ κροµµύων καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. καὶ γὰρ οὖν καὶ ἡ τούτων χρῆσις ἀµετροτέρα γιγνοµένη πυρετὸν ἤγειρεν ἐνίοτε. καὶ µὲν δὴ καὶ ποµάτων θερµῶν, οἷον οἴνου τε παλαιοῦ καὶ δριµέος προσενεχθέντος πλείονος ἀσθενεῖ σώµατι καὶ φαρµάκων δριµέων ἀλεξητηρίων τε καὶ δηλητηρίων, ἐπύρεξαν ἄνθρωποι. τί οὖν δή, φασιν, οὐ διὰ παντὸς ἐφ’ ἑκάστῳ τῶν εἰρηµένων αἰτίων ἀνάπτεται πυρετός; ὅτι καὶ τὸ ποσὸν τῆς δρώσης αἰτίας ἄνισόν ἐστι, καὶ ἡ συστᾶσα διάθεσις ἀπ’ αὐτῆς ἐν τῷ σώµατι παµπόλλην ἐν τῷ µᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἔχει τὴν διαφορὰν, αὐτό τε τὸ σύµπαν τοῦ ζώου σῶµα πάµπολυ διενήνοχεν ἕτερον ἑτέρου πρὸς τὸ ῥᾳδίως ἢ µόγις ἐξίστασθαι τοῦ κατὰ φύσιν. ὡς οὖν οὐκ ἀπορεῖς διὰ τί πᾶσα κίνησις οὐκ ἐργάζεται κόπον, ἀλλ’ ἐναργές ἐστί σοι τό γε τοσοῦτον, ὡς εἰ µὴ πλείων εἴη καὶ ἰσχυροτέρα τῆς τῶν ἄρθρων τε καὶ µυῶν φύσεως, οὐκ ἄν ποτε κοπώσειεν αὐτὰ, κατὰ τὸν αὐτὸν ἐχρῆν σε τρόπον ἐννοεῖν, ὡς οὐδ’ ἡ κοπώδης αὕτη διάθεσις, εἰ µὴ µέγεθός τε καὶ χρόνον ἀξιόλογον σχοίη, οὐκ ἂν τὸ πᾶν ἑαυτῇ σῶµα συγκακῶσαι δυνήσεται. ἢ κίνησις µὲν ὀλίγη κόπον οὐχ οἵα τέ ἐστιν ἐργάζεσθαι, µικρὸς δὲ κόπος ἀνάψει πάντως πυρετόν; ἢ κίνησις µὲν ἐν τῷ πρός τι τὸ δρᾷν ἕξει, κόπος δ’ οὐχ ἕξει; καὶ µὲν ὅτι γε τὰ µὲν τῶν ἀθλητῶν σώµατα πολυχρονίων τε ἅµα καὶ σφοδροτάτων ἀνέχεται κινήσεων ἄνευ τοῦ κοπωθῆναι, τὰ δ’ ἡµῶν τῶν ἰδιωτῶν, εἰ πλείω βραχὺ παρὰ τὰ καθεστῶτα πονήσαιµεν, εὐθὺς ἀγανακτεῖ, πάντες ἤδη τοῦτό γε καὶ οἱ σκαιότατοι γινώσκουσιν. οὔκουν θαυµαστὸν οὐδὲν, εἰ κοπωθείς τις οὐδ’ ὅλως ἐπύρεξεν. ἢ γὰρ µικρὸς ὁ κόπος, ἢ ὀλιγοχρόνιος, ἢ τῆς τοῦ σώµατος εἴη καὶ µὴ σφοδρὸν καὶ τῆς τοῦ γυµναζοµένου φύσεως ἀσθενέστερον, οὐκ ἄν ποτε κόπον ἐργάσεται, κόπος δ’ ἀνάψει πυρετὸν, κᾂν βραχὺς, κᾂν ὀλιγοχρόνιος ᾖ, κᾂν τῆς τοῦ πάσχοντος σώµατος ἰσχύος ἀσθενέστερος. ἀλλὰ τοῦτό γε κᾀπὶ τοῦ πάντων δραστικωτάτου πυρὸς ἰδεῖν ἔστιν, ὡς οὔτε τοὺς κατεψυγµένους ἐκθερµαίνει χωρὶς χρόνου καὶ ῥώµης· ἥκοντες γὰρ ἐκ κρύους ἐνίοτε διὰ µεγίστης φλογὸς τὰς χεῖρας διαφέροµεν ἀλύπως· οὔτε µὴν πᾶσαν ὕλην ἑτοίµως ἐξάπτει. κάλαµοι µὲν γὰρ οἱ ξηροὶ κατὰ τὴν πρώτην εὐθὺς ὁµιλίαν ἀνάπτονται, ξύλα δ’ ὑγρὰ καὶ χλωρὰ χρόνου τε δεῖται µακροῦ καὶ φλογὸς ἰσχυρᾶς, ἵν’ ἐξαφθῇ. πῶς οὖν ἐπὶ τοῦ πυρὸς οὐδὲν τούτων θαυµάζων ἐπὶ τοῦ κόπου θαυµάζεις, εἰ καὶ µεγέθους δεῖται καὶ χρόνου καὶ τοῦ σώµατος ἐπιτηδείως ἔχοντος ἐξάπτεσθαι; ἄµεινον δ’ ἦν σε µὴ τοῦτο θαυµάζειν, ἀλλ’ ἐπισκέψασθαι ποῖον ζώου σῶµα ῥᾳδίως ἐκθερµαίνεσθαι πέφυκε καὶ ποῖον δυσχερῶς. ἀλλὰ τοῦτο µὲν ἐφεξῆς ἀκούσῃ. ἐν δέ γε τῷ παρόντι µηδὲν εἶναί σοι φαινέσθω θαυµαστὸν, εἰ καὶ χρόνου δεῖται καὶ µεγέθους τὸ µέλλον ποιήσειν ὁπωσοῦν, καὶ προσέτι τοῦ πλησιάζοντος ἐπιτηδείου παθεῖν. οὐδὲ γὰρ τὸ πῦρ οἷόν τ’ ἐστὶ χωρὶς τούτων καίειν, οὐδὲ τὸ ξίφος τέµνειν, οὐδ’ ἄλλο τι τῶν δραστικωτάτων οὐδὲν οὔτ’ εἰς ἰσχυρότερον ἑαυτοῦ δρᾷν πέφυκεν οὔτ’ ἄνευ χρόνου τινὸς ἀξιολόγου. τῆς µὲν οὖν λυχνιαίας φλογὸς οὐκ ἂν ἀθρόως οὐδὲ τοὔλαιον καταχέαις, µή τοί γε δὴ τὸ ὕδωρ, καὶ τῷ ξίφει τέµνειν οὐκ ἂν οὐδὲ τοὺς λίθους ἐπιχειρίσειας, µὴ ὅτι γε ἀδάµαντα, κόπον δὲ καὶ θάλψιν καὶ ψύξιν καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα πυρετὸν ἀξιώσεις ἀνάπτειν ἀεὶ, κ¿ν µικρὸν, κ¿ν ὀλιγοχρόνιον, κ¿ν ἀνεπιτήδειον ἔχῃ τὸ σύµπαν σῶµα πρὸς τὸ θερµαίνεσθαι, ἢ οὔ; τὸ µὲν γὰρ ἤδη θερµὸν ἑτοιµότερον ὑπερθερµανθῆναι, καθάπερ οὖν τὸ ψυχρὸν ὑπερψυχθῆναι, τὸ δ’ ἐναντίως ἔχον ἀνεπιτήδειον. οὕτω µὲν οὖν ἀναίσθητός τε καὶ ἀµαθὴς ἡ τῶν τοιαῦτα ζητούντων ἀπορία· τοὺς δὲ µηδὲν ἀποφαινοµένους ἑτοίµως τε καὶ προπετῶς ὑπὸ µηδενὸς τῶν εἰρηµένων µηδέποτε γίγνεσθαι πυρετὸν, ἢ τῆς ἀναισθησίας ἐλεεῖσθαι προσῆκεν, ἢ τῆς φιλονεικίας µισεῖσθαι. λέλυται γοῦν καὶ τὰ τούτων σοφίσµατα δι’ ἑτέρου γράµµατος ὑπὲρ τῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων ἰδίᾳ γεγραµµένου. καὶ νῦν οὐκ ἀντιλέγειν τοῖς ἡµαρτηµένοις καιρὸς, ἀλλὰ τἀληθῆ διδάσκειν πρόκειται. πάλιν οὖν ἐπανελθόντες ἐχώµεθα τῶν προκειµένων. ἦν δὲ, οἶµαι, προκείµενον ἑκάστου τῶν ἁπλῶν νοσηµάτων εἰπεῖν τὰς προηγουµένας αἰτίας ἄχρι καὶ τῶν προκαταρκτικῶν. οὐδὲν γὰρ χεῖρον τοῖς οὕτω διαστειλαµένοις τὰς προσηγορίας τοῦ σαφοῦς ἕνεκα ἀκολουθῆσαι. τὰς µὲν δὴ κατ’ αὐτὸ τὸ ζῶον εἴτ’ οὖν διαθέσεις, εἴτε καὶ κινήσεις παρὰ φύσιν, αἰτίας ὀνοµάζουσι προηγουµένας νοσηµάτων, τὰ δ’ ἔξωθεν προσπίπτοντα καὶ ἀλλοιοῦντα καὶ µεταβάλλοντα µεγάλως τὸ σῶµα προκατάρχοντά τε καὶ προκαταρκτικὰ καλοῦσιν αἴτια.



