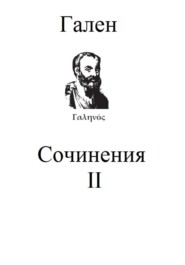 Полная версия
Полная версияСочинения. Том 2
То, что такое исследование не бесполезно для того, кто хочет составить искусство медицины не эмпирически, но методически, – это, как мне кажется, должно быть уже понятно; то же, что это не невозможно, покажем далее, поскольку ранее мы уже об этом беседовали. Ведь если ты хоть сколько-нибудь мне доверяешь – а я знаю, что ты мне доверяешь, видя, что всегда и во всем стремлюсь я не к славе людской, но к истине, – то да не убоишься ты множества философов и врачей, несогласных меж собою. Ведь если бы все обладали всем, что помогает отыскать ответ, но не нашли бы его, то разумно было бы оставить поиски. Но они признают, что одного у них не было, а относительно другого непонятно, было ли оно у них, мы же обладаем всем необходимым, и поэтому нам следует без трепета приступать к исследованию. Итак, что же должно сойтись, чтобы тот, кто что-либо исследует, либо постиг истину, либо, не постигнув ее, не отказался от ее поиска? Ясно, что должны сойтись семь факторов. Прежде всего, природная острота ума, которая позволяет разуму с готовностью следовать за тем, чему его учат. Во-вторых, приобретенный с детства образ жизни и навык к обучению, который приобретается уже с первых шагов в учении. Но самое главное, чтобы такой человек упражнялся в арифметике и геометрии, как советовал Платон. В-третьих, дополнительно к перечисленному выше, он должен преклонить ухо свое к учению тех, кто считается лучшими учеными мужами своего времени. В-четвертых, он должен быть в высшей степени трудолюбив, настолько, чтобы ни днем, ни ночью не думать ни о чем, кроме учения. Пятое же и самое редкое свойство – стремиться к истине и всю жизнь печься лишь о ней, презирая все прочее – все, о чем печется толпа. Кроме того, шестое условие – усвоить некий метод, позволяющий отличить правду от лжи. Ведь для того, чтобы обрести то, к чему мы стремимся, одной жажды истины недостаточно – необходимо еще быть способным найти ее. Седьмое же, в дополнение ко всему этому, – пользоваться методом так, чтобы не только обладать знаниями, но и уметь их применять. Ведь если даже ораторам, чье искусство намного меньше нашего, недостаточно просто изучить метод, но необходимо всю жизнь упражняться в его применении, то тем более тем, кто стремится к столь великой цели, недостаточно просто изучить метод. И если у того, кто вступил на путь поиска истины, нет хотя бы одного из перечисленных свойств, то будет справедливо, если он не станет рассчитывать на полный успех. А если все есть – почему бы, вооружившись благой надеждой, не отправиться на поиски истины?
8. Гипотеза же наша заключается в том, что как мы сумели посредством анатомии изучить все части тела, вплоть до простейших, в отношении того, что можно постигнуть с помощью органов чувств, так сможем и определить, какие части являются по природе первыми и простейшими. Так что теперь поведем речь не обо всем, но возьмем для примера только одно. Когда мы изучаем плоть, прежде всего возникает вопрос: едино ли по существу своему ее порождающее начало? Это начало можно также назвать первой и простейшей ее частью. Если же окажется, что такого единого начала нет, следует вопрос, имеется ли множество таких начал. Затем следует выяснить, сколько их, каковы они и каким образом объединяются в единое целое. Так вот, поскольку плоть испытывает боль, когда ее режут или сильно нагревают, невозможно, чтобы в основе ее лежал один элемент, который Эпикур называет атомом. То, что этот элемент не может быть единым, ясно из следующего. Ни один атом не является по природе своей ни горячим, ни холодным, ни белым, ни черным. Но зачем я веду эту речь, зачем нагромождаю слова? У атомов, по слову тех, кто их измыслил, нет вообще никаких качеств. Но все такого рода качества, кажется, имеются у всех тел, а у всех атомов есть качества, касающиеся формы, а также упругость и вес. Для нашего рассмотрения не важно, называть ли это качествами или как-то иначе. Итак, у всех атомов есть перечисленные свойства, по виду же они между собой не различаются, как различаются гомеомерии [в теории] тех, кто постулирует их существование, или четыре начала у тех, кто полагает их началами. Так вот, и Гиппократ утверждает, и я говорю, что если бы человек был чем-то одним, то он никогда не испытывал бы боли, и здесь Гиппократ совершенно прав. Ведь единое не может превратиться в нечто иное, так как не имеется того, во что оно могло бы превратиться. А то, что не может превратиться, неизменно и бесстрастно, бесстрастное же не может испытывать боли. Итак, вывод из этих посылок – то, что единое бесстрастно, из чего, в свою очередь, можно сделать следующие выводы. Если бы начало было одно, то человек бы никогда не испытывал боли; однако он испытывает боль; следовательно, плоть состоит не из одного по виду своему начала. То же рассуждение можно повторить и иным способом. Если элемент, из которого состоит плоть, бесстрастен, то плоть не будет испытывать боли; однако она испытывает боль; следовательно, начало, из которого состоит плоть, не бесстрастно. Первое рассуждение опровергает гипотезы об атомах, о «необъединенных» и наименьших частицах. Вторым же рассуждением опровергаются учение о гомеомериях и учение Эмпедокла. Ведь и он полагал, что тела состоят из четырех элементов, не переходящих друг в друга. Итак, следи внимательно за ходом рассуждения, и ты сможешь обрести большую часть того, что ты ищешь, быстрее, чем надеешься. Ведь было доказано, что элементы, [из которых состоит] плоть, должны быть не бесстрастными. Этому требованию не удовлетворяет также учение тех, кто считает, что боль происходит от соединения неких бесстрастных тел, которые являются началами природы всего сущего. Ведь страдание бесстрастного невозможно по определению, более того, против этого свидетельствуют наши чувства. Ведь если ты сплетешь между собою пальцы, а затем тотчас разнимешь их, то ни соединение, ни разъединение не причинит боли. Боль испытывает то, что страдает. Прикасающееся же не страдает, поскольку страдание бывает двояким: отчуждение от целого или разъединение единства. А поскольку и в случае тел, явно подверженных страданию, ни соединение, ни разъединение не причиняет боли, то едва ли они причинят боль в случае с телами бесстрастными. И «необъединенные тела» Асклепиада, хотя их можно сломать, не испытывают боли, когда их ломают, поскольку являются бесчувственными. Поэтому они, даже если пострадают, будут испытывать боли не больше, чем кость, хрящ, жир, связка или волос, так как у них нет чувств. Ведь и все эти ткани повреждаются, однако не испытывают боли, поскольку не имеют ощущений. Поэтому то, что может испытывать боль, должно быть способным страдать и обладать ощущениями. Однако то, что имеет ощущения, не обязательно состоит из ощущающих начал; достаточно, чтобы эти начала были способны страдать. Ощущающим тело может стать потом, меняясь и претерпевая изменения. А так как большинство согласно с тем, что изменений и смешений начал бесконечно много, то возникает бесконечное количество частных свойств отдельных тел, и нет ничего невозможного в том, что некоторые из них не будут обладать ощущениями, а некоторые будут обладать ими в большей или меньшей степени. А то, что по необходимости начал будет более одного и что они изменяются, убедительно доказано выше – убедительно, разумеется, для тех, у кого, как было сказано чуть ранее, есть все данные для того, чтобы сделаться людьми учеными. С тем же, кто дошел до такого бесчувствия, что не желает даже разузнать, существует ли правильный метод доказательства, или узнать его от кого-нибудь, или поупражняться в нем, не следует и говорить о таких вещах. Ведь мы ведем этот разговор, не состязаясь с кем-либо и стремясь не к победе, но к одной лишь истине. Для тех же, кто хочет опровергнуть мнения неучей, мы написали отдельную книгу, в которой рассматриваем учение Гиппократа о стихиях.
9. Итак, вернувшись к высказанному вначале предположению, доведем рассуждение до конца. Так как начало в целом можно отделить, рассмотрим последовательно, сколько существует начал, отталкиваясь в рассуждениях от несомненно данных нам явлений. Если кто-то меняет нечто, необходимо, чтобы прежде, чем изменить его, он к нему прикоснулся, на что указывают и чувства, и сама природа вещей. Ведь безумно было бы предполагать, что пламя, горящее здесь, может изменить что-либо, находящееся в Египте. Если же меняющее меняет то, к чему прикасается, необходимо, чтобы изменение происходило посредством качеств предметов, ощутимых на ощупь. Что же мешает рассмотреть все эти свойства? Итак, острое режет то, что приближается к нему, но не меняет его сущности, так же и тяжелое, хотя и давит, не вызывает изменений повреждаемой сущности. Твердость также не может изменить то, что приближается к ней, настолько, чтобы перевести его в другой вид. А вот жар и холод могут изменить приближающуюся к ним сущность в целом. Точно так же и влага и сухость, хотя и не так быстро, как названные выше качества, со временем меняют то, что подвергается [их воздействию]. Но нет ли и других качеств, способных вызывать изменения? Или все эти качества перечислены выше? Следует считать и называть перечисленные качества единственными действующими, и в наибольшей степени – первую пару противоположностей, а из нее прежде всего тепло, так как оно является наиболее действенным. Следом за теплом по действенности идет холод, затем – влажность, далее – сухость. И ни одно другое качество не изменяет приближающееся к телу, им обладающему, в целом. Ведь если и разрывает, сдавливает, режет, ломает, то делает только это, и изменение не распространяется на все претерпевающее тело, так что сущность его не переходит в другой вид, но оно лишь распадается на части. Например, если ты разделишь снег на мельчайшие частицы, он останется снегом, если же нагреешь его, он перестанет быть снегом. Ведь он и появился оттого, что воду охладили, а не оттого, что ее собрали воедино, так как соединение частей – увеличение количества сущности, а охлаждение – изменение сущности. И если взять обратные процессы, то разделение на мелкие части будет уменьшением количества сущности, а нагревание – порождением новой сущности, при котором прежний вид меняется на другой. Итак, те части тела, которые первыми имеют такие качества, являются началами всех прочих частей тела, в том числе и плоти. Это земля, вода, воздух и огонь – вещества, которые все философы, не боящиеся доказательств, называют первоэлементами всего рождающегося и уничтожающегося. Еще они говорят, что первоэлементы могут переходить друг в друга и что у них есть некая общая субстанция. Но не об этом сейчас речь; и не следует смущаться многочисленностью тех, кто заблуждается в истине, а верить следует только тому, кто может привести доказательства. Если же кто-то не знает, в чем сущность доказательства, – а в этом признаются некоторые из тех, кто называет себя философами, – пусть он и не дерзает утверждать что-либо. Ведь это все равно, что пытаться обучиться предсказанию солнечных затмений, не зная толком даже цифр и букв. Посему беги от таких людей, как от пропасти: ведь иногда они увлекают за собой и тех, кто к ним приближается, и даже совершенно портят их, если их жертва оказалась недостаточно сведущей в логике. Поэтому нам и следует упражняться в этой теории, как ни в чем ином. Однако я понимаю, что эти замечания были излишними.
10. Теперь изложим нашу гипотезу. Из четырех первоэлементов, перемешанных между собой, получается единое гомеомерное тело, обретающее свои качества благодаря смешению и могущее быть как чувствующим, так и нечувствующим. Так и, в частности, в каждом из родов все различия происходят от разных смешений. Так что благодаря особенностям смешений одно становится костью, другое – плотью, третье – артерией, четвертое – нервом. Но и частные свойства тканей происходят от свойств смешений. Например, более сухая и горячая плоть бывает у львов, более влажная и холодная – у скота, а средняя – у человека. Но и из людей у одного плоть может оказаться горячее, чем у Диона, у другого – холоднее, чем у Филона. Так что различия между гомеомерными частями тела бывают простыми, и их столько, сколько начал, то есть гомеомерии могут быть более горячими, более холодными, более влажными и более сухими, а бывают составными, и таких еще четыре, то есть гомеомерии могут быть более влажными и более холодными, более горячими и более влажными, третий вид – более сухие и более горячие, а четвертый – более холодные и более сухие. Из всех этих вариантов наиболее благосмешанным является первый. Но об этом достаточно сказано в сочинении «О темпераментах». Теперь же, так как мы установили, что полезные и вредные свойства гомеомерий происходят от соразмерности или несоразмерности начал, надо определить отличие вредных свойств гомеомерий от болезни. Отличие же выводится из определения обоих понятий, как показано в сочинении «О доказательстве». Каково же определение здорового состояния тела, а каково – болезненного? В здоровом состоянии естественные функции не повреждены, а в болезненном повреждены. Например, если некто, будучи здоровым, имеет функции более слабые, чем другой здоровый человек, но еще не поврежденные, то он имеет худшее смешение, чем другой, но [при этом он] еще не болен. Так вот, существует одно наилучшее смешение, свойственное здоровым организмам, и восемь плохих смешений, свойственных им же. Во время болезни никогда не бывает хорошего смешения, но все смешения плохие, и числом их столько же, сколько дурных смешений здорового организма. Если же кому-то не нравится считать, что в здоровом состоянии бывают и хорошие, и дурные смешения, то ему придется выбрать одно из двух учений: или считать, что все постоянно больны, или что есть одно смешение на всех: мужчин и женщин, зрелых людей, стариков и детей, атлетов, простых людей, работников, бездельников, сильных, слабых. Но и то, и другое – нелепость. Значит, необходимо найти какое-то третье определение здоровья, чтобы оно покрыло все количественные различия, которые бывают между здоровыми телами. Так же обстоит дело и со всеми другими вещами. Ведь и дом, и корабль, и кровать, и ящик, и плащ, и обувь, и колесница могут быть лучше или хуже по своему устройству, при этом еще считаясь исправными. Поэтому мы должны предположить, что бывает всего три состояния всех существующих тел – хорошее, плохое и болезнь. Но хорошее состояние бывает только одним, так как в хорошем предмете нет никакого порока; оба же других имеют бесчисленные варианты, различающиеся количественно.
11. Поскольку мы дошли до этого места в рассуждении, вспомним наши основные положения. Ведь таким образом мы будем знать, какую часть того, что мы намеревались отыскать, мы уже нашли, а какую еще предстоит найти. Мы предполагали составить руководство по искусству, создающему здоровье, однако не так, как создает дом искусство архитектора, а так, как исправляет испорченную его часть искусство ремонтника. Но и это сходство не совершенно, и далее требовалось выяснить, насколько тот, кто пользуется искусством медицины, может, подобно строителю, исправить недостатки тела. Так как для того, чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо прежде всего постичь природу тела, недостатки которого будет исправлять наше искусство, мы принялись исследовать и это. Обнаружив же, что функции и устройство его частей являются природными, и если они пострадали, то надо всеми средствами пытаться восстановить их естественное состояние, мы задались вопросом, насколько возможно восполнить естественное. Обнаружив же, что сущность сложных частей тела возникает из составления их из более простых частей тела, а сущность этих простых частей – из четырех первоэлементов, рассмотрим далее то, что касается отдельных болезней. Однако наше рассуждение уже привело нас к познанию здоровых и больных тел – не всех их, конечно, но лишь определения и как бы их образца. Всю же сущность знания больных и здоровых тел мы обретем, если перейдем к разбору видов [различных состояний]. Ведь врач должен знать не только то, что бывают горячие, холодные, сухие и влажные смешения соков в частях тела, но, переходя к видам, понимать, какое бывает смешение соков в костях, какое – в плоти, нервах, жилах и в каждой из других простых частей [тела]. Так же и относительно органов следует знать, каков состав каждого из них, например руки, ноги, печени, груди, легких, сердца, мозга. Таким же образом следует знать не только родовые различия болезней, но и то, как эти болезни протекают в каждой из частей [тела].
12. Итак, терапевтический метод начинается с определения здоровых и больных частей тел. Так как в высшей степени здоровое, будь то гомеомерия [составляющая орган] или [сам] орган, является соразмерным во всех отношениях, а несоразмерное является больным, то следует рассмотреть его несоразмерность, какова она. Ведь необходимо, чтобы существовала и другая несоразмерность, противоположная ей. Для гомеомерий и простых тел состояние несоразмерности определяется через качества. Для органов же, если, например, несоразмерность, вызывающая болезнь, состоит в размере, то возможно и противоположное искажение размера; если в структуре, то возможно и противоположное искажение структуры. То же касается положения и количества. И в любом случае возвращение к соразмерности из несоразмерного состояния будет происходить под воздействием противоположной несоразмерности. Следует как бы пройти некий путь от неестественного состояния к естественному, ведущий в сторону, противоположную той, которая привела к неестественному состоянию. Если же хочешь идти в обратном направлении, нужно отталкиваться от того, что противоположно нынешнему состоянию. И это – первый и наиболее общий принцип всякого лечения болезней, то есть лечение противоположного противоположным, как сказано и у Гиппократа. В частных же случаях берутся и частные противоположности: холодное как противоположное горячей болезни, горячее – как противоположность холодной. Также для сухой болезни – увлажняющее, а для влажной – высушивающее. То же относится к гомеомериям. Что же касается органов, для каждого из четырех перечисленных выше видов их заболеваний для устранения болезненной несоразмерности следует пользоваться противоположными средствами, пока не будет восстановлено состояние естественной соразмерности. Например, если из-за какой-то раны случилось неестественное приращение плоти, необходимо не лекарство, питающее плоть, но лекарство, плоть уменьшающее, отнимающее и разъедающее и уничтожающее; напротив, если из-за раны появилась язва, ее нужно лечить средством, наращивающим плоть. И каждым из средств нужно пользоваться настолько, чтобы устранить первое состояние, и остановиться, дойдя до соразмерности, прежде чем впасть в другую крайность. Ведь устраняя избыток плоти, если не остановиться вовремя, можно произвести язву, наращивая же новую плоть в месте язвы, тоже можно произвести избыток плоти, если не остановиться, достигнув меры. При болезнях этого вида, когда часть тела бывает больше или меньше, чем нужно, лечение, как было сказано, следует производить посредством противоположности. При другом же виде заболеваний, когда изменена структура органа и изменения поразили многие его части, для каждой нужно подобрать лечение от противоположного. Например, если какая-то часть стала более выгнутой наружу, чем она есть по природе, то ее надо вернуть к естественному положению, сжимая и толкая, а ставшее более выгнутым внутрь и как бы запавшим, как бывает, например, с носом, надо вытаскивать наружу. То, что стало вместо жесткого мягким, надо делать более жестким, а то, что стало слишком жестким, – размягчать. То же касается частей тела, в которых углубления, или отверстия, или вообще полости стали больше или меньше должного, или стали более пустыми, или более наполненными, чем должны быть, или забились плотной или вязкой жидкостью – все это нужно изменять в противоположном направлении, пока не будет достигнута соразмерность. Так же и те части тела, что отклонились от естественного состояния по положению, следует возвращать к изначальной природе, отводя в прежнее положение: переместившееся вперед отодвигать назад, переместившееся же назад возвращать вперед. И относительно двух оставшихся противоположностей, то есть верхнего и нижнего положения и горизонтального смещения, действовать надо таким же образом. Если же весь орган заболел из-за того, что нарушено естественное количество его частей, то и здесь следует знать, больше или меньше получилось частей, чем установлено природой, как выше сказано об изменениях размера, и лечение, как и в том случае, будет состоять в добавлении или убавлении. Разница же в том, что в данном случае следует прибавить или удалить целую часть, а в том – часть части тела.
13. Однако по отношению к этим и прочим видам заболеваний следует рассмотреть, для каких из них мы можем выработать способы лечения, так как определение болезни лишь помогает найти верный путь лечения, но не показывает, возможно оно или нет. Такая проблема существует для всех созидающих искусств, и она решается не исходя из определения того, что должно получиться, а исходя из определения того, возможно это или невозможно, а также творящей причины и удобных или неудобных для лечения свойств материи. Ведь одни и те же вещи для одних возможно, а для других невозможно сделать, и в одно время возможно, а в другое невозможно. Причины же благ, которые бывают для тела, – природа и врач. Но некоторые вещи невозможны для природы, а некоторые – для врачей. Например, для природы невозможно исправить и заново срастить перелом кости, если при нем смещены части и вывернут сустав, для врача же это возможно. Так же и вывих сустава врач вправить может, а природа не может. Полую рану же зарастить природа может, а врач не может, как и переварить нечто полупереваренное или непереваренное. Но и в этом врач содействует и помогает природе, например, прикладывая к ране очищающее средство или давая умеренное количество согревающего средства для улучшения пищеварения. Однако многие вещи, изначально созданные природой, невозможно сделать заново, например, сухожилия, артерии, связки, нервы и прочее в том же роде. Первая же задача терапевтического метода, как было сказано, – определить общую для всех цель: лечить противоположное противоположным, во-вторых, определить это противоположное для каждого вида заболеваний, а в-третьих, рассмотреть, возможно ли для нас или для природы достичь этой цели, или же это совершенно невозможно, или невозможно лишь временно, или невозможно лишь частично. И это – немалая часть науки о природе, в которой надлежит упражняться всякому, кто хочет определить возможное или невозможное в каждом из случаев. Мною написано два сочинения на эту тему. Одно называется «О порождении животного», и в ней описано, как зародыш возникает из семени и ежемесячных женских выделений, вторая же называется «О природных возможностях». В сочинении же «О природе семени» ты, если возьмешься методически изучать его, найдешь общее рассмотрение того, что доказано нами, того, как зарождается большинство частей зародыша, используя в качестве материи для своего формирования сущность семени. И если ты обнаружишь это, то уже не будешь удивляться, что в дальнейшем природа не может [вновь] образовать ничего подобного. В сочинении же «О природных возможностях» ты сможешь найти описание расположения порожденных частей, что также поможет тебе ответить на вопрос, что природа может восстановить сама, что – с помощью врача, а чего не может вовсе. Там же, где мы исследуем возможности и сущность творящих причин, ты найдешь все возможное и невозможное. Например, возможно ли, если разрушен хрящ, создать на его месте новый, или что-то близкое хрящу. Так же и относительно кости: если кость, родившаяся при формировании зародыша, погибла, создать новую или что-то похожее на нее, а также можно ли срастить жилистую часть диафрагмы, или сердце, или печень и любую часть какого-либо органа. Мне же не время все это здесь излагать, так как в одну эту книгу не может вместиться все искусство медицины, да я и с самого начала стремился не к этому, а к тому, чтобы описать метод и показать состав искусства медицины: на каких и скольких началах оно держится и какими путями движется. Итак, прекратив здесь это рассуждение, сведя его к главному, прибавлю еще кое-что о той части искусства, о которой шла речь ранее. Ведь как в той части мы, определив виды здоровых и больных частей тела, сочли необходимым рассмотреть их применительно к каждому отдельному [виду] материи, так и теперь, определив цели терапевтического метода, мы считаем необходимым применить их к каждой ткани в отдельности, чтобы узнать, что из этого можно сделать, или что можно сделать частично, или со временем, а что совершенно невозможно. И во всем этом надлежит соблюдать аналогию с другими искусствами. Предположим, например, что дом, построенный из обожженных кирпичей, претерпел частичное разрушение и хозяин велит его отстроить, изъяв поврежденные кирпичи и поставив на их место целые. Тогда строителю придется сначала изготовить другие кирпичи, подобные тем, которые были повреждены, а если хозяин дома не может предоставить ему необходимый для этого материал, объяснить ему, что в таком случае ремонт будет невозможен. То же касается и темы нашего исследования. При недостатке материи природа не сможет ничего восстановить, поэтому невозможно заново вырастить то, что происходит из семени в процессе формирования плода.



