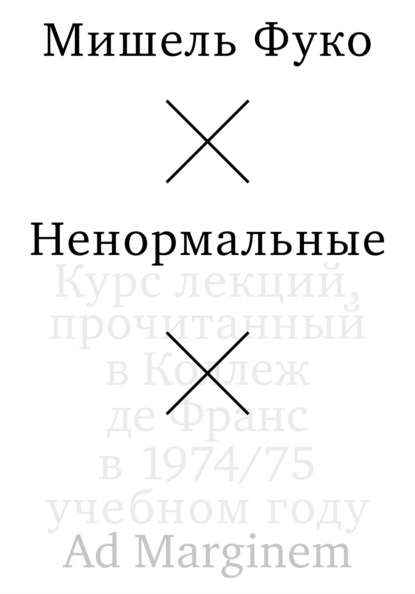
Полная версия:
Ненормальные
Таким образом, подобная экспертиза занята изложением серии деяний, которые можно было бы назвать ошибками без правонарушения или проступками, не преступающими закон. Другими словами, она показывает, в чем индивид походил на свое преступление еще до того, как его совершить. Само регулярное употребление по ходу этих анализов наречия «уже» служит нанизыванию по принципу простой аналогии всей этой серии первичных преступлений, непротивозаконных отклонений, собирает их вместе, чтобы затем продемонстрировать их сходство с преступлением. Экспертиза составляет серию ошибок, показывает, в чем индивид уже походил на свое преступление, и в то же время, при помощи этой серии, выявляет другую серию, так сказать, «парапатологическую», родственную болезни, но не обычной болезни, так как болезнь эта – моральный дефект. Ведь в конечном итоге эта серия оказывается доказательством некоего поведения, позиции, характера, которые являются дефектами морального плана, не будучи ни болезнями в патологическом смысле, ни нарушениями закона. Вот в этом-то длинном перечне первичных двусмысленностей эксперты неизменно и пытались восстановить логическую последовательность.
Те из вас, кто заглядывал в досье Ривьера \ 31\ , знают, что уже в 1836 году для психиатров, но в то же время и для свидетелей, у которых брали показания, стало обычной практикой воссоздание этой всецело двусмысленной серии инфрапатологического и паралегального – или парапатологического и инфралегального, – служащей своего рода заведомым воссозданием преступления на условной сцене. Именно на это нацелена психиатрическая экспертиза. Причем в эту серию первичных, парапатологических, подзаконных и тому подобных двусмысленностей вписывается, неизменно в виде желания, присутствие субъекта. Приводя все эти детали, все эти мелочи, все эти мелкие низости, все эти не совсем нормальные вещи, экспертиза показывает, что субъект действительно присутствует в них в виде желания преступления. Так, в процитированном только что отчете о человеке, который в итоге был приговорен к смерти, эксперт говорит следующее: «Он хотел познать все удовольствия, он хотел насладиться всем и как можно быстрее, испытав сильные эмоции. Вот цель, которой он был поглощен. как говорит он сам, колебания вызывали у него только наркотики, которым он боялся подчиниться, и гомосексуальность – не из принципа, а из отвращения. Р. не терпел препятствий на пути своих замыслов и капризов. Он не мог смириться с тем, что его желаниям противятся. По отношению к родителям он использовал эмоциональный шантаж, по отношению к чужим людям – угрозы и насилие». Иными словами, этот анализ постоянного желания преступления позволяет дать очерк того, что можно назвать позицией радикального беззакония в логике или движении желания. Преданность желания субъекта нарушению закона[12]: его желание глубоко порочно. Но это желание преступления – и опять-таки мы сталкиваемся с этим всюду в обсуждаемых экспериментах [rectius: экспертизах] – всегда соотносится с неким недостатком, нарушением, слабостью субъекта, его неспособностью к чему-либо. Вот почему вы постоянно встречаетесь с такими понятиями, как «неразумный», «неудачливый», «неполноценный», «бедный», «некрасивый», «незрелый», «недостаточно развитый», «инфантильный», «закоснелый», «непостоянный». Ведь в самом деле, предназначение этой инфрауголовной, парапатологической серии, в которой прочитываются и беззаконие желания, и ущербность субъекта, вовсе не в том, чтобы дать ответ на вопрос об ответственности; наоборот, она призвана не отвечать на него, то есть избегать в психиатрическом дискурсе постановки вопроса, который, однако же, скрыто формулируется 64-й статьей. Другими словами, включая преступление в один ряд с инфрауголовными и парапатологическими элементами, соотнося их друг с другом, эксперты окутывают виновника правонарушения своего рода облаком юридической неопределенности. Из его неправильности, неразумия и невезения, из его неисчерпаемых и бесконечных желаний складывается серия элементов, в отношении которых вопрос об ответственности уже или вообще не может быть поставлен, ибо в конечном счете субъект оказывается в рамках этих определений ответственным одновременно за всё и ни за что. Это юридически неопределенная личность, от которой, следовательно, правосудие – согласно своим же законам и текстам – вынуждено отступиться. Это уже не юридический субъект, которого судьи, присяжные видят перед собой: это объект – объект некоторой технологии, науки об исправлении, реадаптации, реабилитации или коррекции. короче говоря, функцией экспертизы является удвоение виновника преступления – вменяемого или невменяемого – преступным субъектом, который в дальнейшем становится объектом особой технологии.
Наконец, я считаю, что психиатрическая экспертиза несет еще одну, третью, функцию: она не только дублирует виновника правонарушения преступным субъектом и затем преступление – криминальностью. Она также призвана выполнить, огласить еще одно удвоение, а точнее, целый ряд других удвоений. Учреждается фигура врача, который будет одновременно врачом-судьей. Я имею в виду, что с того момента, когда врач или психиатр берется ответить на вопрос, действительно ли у исследуемого субъекта обнаруживается некоторое число поступков или особенностей, которые оправдывают (в терминах криминальности) формирование и появление собственно противозаконного поведения, – с этого момента психиатрическая экспертиза часто и даже регулярно приобретает статус доказательства или одного из элементов доказательства возможной криминальности, а точнее – потенциального преступления, которое и вменяется индивиду. Описать его преступный характер, описать шлейф криминальных или паракриминальных поступков, тянущийся за ним с самого его детства, – значит способствовать его переводу из разряда обвиняемых в разряд осужденных.
Я приведу вам лишь один пример из совсем недавней истории, которая наделала много шума. Требовалось выяснить, кто убил девушку, чье тело было найдено на пустыре. Имелось двое подозреваемых: известный в городе человек и юноша восемнадцати-двадцати лет. Вот как эксперт-психиатр описал ментальное состояние первого (вообще-то для его экспертизы были назначены два специалиста). Самого отчета у меня нет, и я приведу резюме, каким оно фигурирует в заключении прокуратуры, представленном в Обвинительную палату: «Психиатры не обнаружили <у подозреваемого> никаких нарушений памяти. Они получили свидетельства о симптомах, проявившихся у него в 1970 году: это были неприятные переживания профессионального и материального характера. О себе он рассказал, что в шестнадцать лет получил степень бакалавра, в двадцать лет стал лиценциатом, защитил два диплома о высшем образовании и прошел двадцать семь месяцев военной службы в Северной Африке. Затем принял руководство предприятием своего отца и начал много работать, на досуге ограничиваясь теннисом, охотой и прогулками под парусом».
Теперь перейдем к заключению двух других экспертов в отношении молодого человека, который проходил как обвиняемый по этому же делу. Психиатры отметили следующее: «слабо выраженные черты характера», «психологическая незрелость», «слабо структурированная личность» (видите – категории всегда одни и те же), «нетвердые суждения», «неадекватная оценка реальности», «глубокая чувственная неуравновешенность», «весьма значительные эмоциональные скачки». кроме того: «Учтя его страсть к чтению комиксов и книг из серии „Сатаник“, эксперты отметили наличие нормальных для мальчика такого физического развития [ему восемнадцать-двадцать лет. – М. Ф.] половых влечений. Они остановились на следующей гипотезе: выслушав <…> страстные признания упомянутой девушки, он <подозреваемый> мог испытать сильнейшее отвращение, расценив их в сатанинском ключе. Глубоким омерзением, которое он тогда пережил, и объясняется его поступок».
Эти два отчета были переданы в Обвинительную палату для выяснения, кто из двоих обвиняемых виновен в обсуждаемом преступлении. И пусть мне теперь не говорят, что судят судьи, а психиатры всего-навсего анализируют умственные особенности, психотическую или же нормальную личность обвиняемых. Психиатр действительно становится судьей, он действительно совершает акт следствия, причем не на уровне юридической ответственности индивидов, а на уровне их реальной виновности. И наоборот, судья дублируется медиком. Ведь с того момента, когда судья действительно выносит свой приговор, то есть решение о наказании, не в отношении юридического субъекта правонарушения, предусмотренного законом, а в отношении индивида – носителя всех этих определенных черт характера, – с тех пор, как он имеет дело с этой этическо-моральной подкладкой юридического субъекта, – он, судья, наказывая, наказывает не преступление. Теперь он может превозносить, тешить или оправдывать себя – как вам угодно – тем, что облагает индивида рядом исправительных мер, мер реадаптации или реабилитации. Презренное ремесло наказания превращается, таким образом, в прекрасное дело исцеления. Этому-то превращению, наряду с прочим, и служит психиатрическая экспертиза.
Прежде чем закончить, я хотел бы остановиться еще на двух вещах. Ведь вы можете возразить мне: всё это очень мило, однако вы несколько агрессивно описываете судебно-медицинскую практику, чей возраст, в конце концов, пока еще невелик. Да, психиатрия делает неуверенные первые шаги, и мы медленным, тяжелым путем освобождаемся от этих сбивчивых практик, следы которых еще можно обнаружить в гротескных текстах, злонамеренно подобранных вами. Но я отвечу вам, что всё наоборот, и в действительности уголовно-психиатрическая экспертиза, если взять ее в исторически первоначальных формах, то есть – скажем ради простоты – с первых лет применения Уголовного кодекса (1810–1830 годы), была медицинским актом, в своих формулировках, правилах построения и общих образующих принципах всецело изоморфным медицинскому знанию своего времени. Напротив, сейчас (хотя честь за это следует-таки воздать медикам и, во всяком случае, некоторым психиатрам) мне не известен ни один врач и известны лишь несколько психиатров, которые осмелились бы подписаться под текстами вроде тех, что я вам зачитывал. Но если врачи отказываются подписываться под ними как врачи или как психиатры в обычной практике и если в конечном счете те же самые врачи и психиатры соглашаются составлять, писать, подписывать эти отчеты в практике судебной – речь ведь, в конце концов, идет о свободе или жизни человека, – то вы понимаете, что тут налицо проблема. Это рассогласование, эта инволюция на уровне научной и рациональной нормативности текстов действительно поднимает проблему. По отношению к ситуации, поставившей судебно-медицинские экспертизы в начале XIX века в один ряд со всем медицинским знанием эпохи, возникло движение рассогласования, движение, в котором уголовная психиатрия оторвалась от этой нормативности и примирилась с новыми нормами образования, приняла их и подчинилась им.
Если в этом смысле и есть эволюция, то, несомненно, мало просто сказать, что ответственность за нее лежит на психиатрах и экспертах \ 32\ . На деле сам закон или постановления о применении закона показывают, в каком направлении мы движемся и какой дорогой мы пришли туда, куда пришли; ведь первоначально судебно-медицинские экспертизы руководствовались в общем и целом старинной формулировкой 64-й статьи Уголовного кодекса: нет ни преступления, ни правонарушения, если подсудимый во время совершения деяния был в состоянии помутнения рассудка. Это правило практически направляло и ограничивало уголовную экспертизу в течение всего XIX века. В начале ХХ века мы сталкиваемся с циркулярным письмом Шомье от 1903 [rectius: 1905] года, в котором уже оказывается искажена, заметно смещена роль, до сих пор отводившаяся психиатру: в письме этом говорится, что функция психиатра, очевидно, состоит не в том, – ибо [выполнить] это очень трудно, невозможно, – чтобы определить юридическую ответственность криминального субъекта, а в том, чтобы выяснить, имеются ли у него умственные отклонения, которые могут быть соотнесены с данным преступлением. как видите, мы вступаем в совершенно другую область, нежели область юридического субъекта, ответственного за свои деяния и характеризуемого в таком качестве медиками. Мы вступаем в область умственного отклонения, имеющего с преступлением неопределенную взаимосвязь. И вот еще одно циркулярное письмо послевоенного времени, пятидесятых годов (точную дату я уже не помню, кажется, это 1958 год, но утверждать с уверенностью не могу; простите, если я ошибаюсь), в котором психиатров просят – по возможности, конечно, – всегда отвечать на знаменитый вопрос 64-й статьи: был ли обвиняемый в состоянии помутнения рассудка? А главное, их просят сказать – это первый вопрос – опасен ли индивид. Второй вопрос: будет ли он восприимчив к уголовной санкции? Третий вопрос: исправим или реабилитируем ли он? Иными словами, на уровне закона, а не только на ментальном уровне знания психиатров, – на уровне самого закона заметна абсолютно недвусмысленная эволюция. Произошел переход от юридической проблемы определения виновности к совершенно другой проблеме. Опасен ли индивид? Будет ли он восприимчив к уголовной санкции? Исправим или реабилитируем ли он? Тем, к чему должна будет отныне обращаться уголовная санкция, является не признанный ответственным субъект права, а некий элемент, коррелятивный технике отвода опасных индивидов, технике опеки над теми, кто восприимчив к уголовной санкции, нацеленной на их исправление и реадаптацию. Иными словами, заботу о преступном индивиде отныне берет на себя техника нормализации. Именно этому замещению юридически ответственного индивида элементом, коррелятивным технике нормализации, именно этой трансформации и способствовала, наряду с многими другими средствами, психиатрическая экспертиза \ 33\ .
Появление, возникновение техник нормализации и сопряженных с ними властных рычагов я и хотел бы попытаться исследовать, приняв в качестве принципа исходной гипотезы (я остановлюсь на этом чуть более подробно в следующий раз) то, что эти техники и сопряженные с ними рычаги нормализации не просто стали следствием встречи, объединения, взаимной прививки медицинского знания и судебной власти, но что на самом деле особой разновидности власти – не медицинской и не судебной, а другой – удалось захватить и вытеснить на всех уровнях современного общества как медицинское знание, так и судебную власть; эта власть нового типа выходит на театральную сцену суда, опираясь, разумеется, на судебный и медицинский институты, но вместе с тем обладает самостоятельностью и собственными правилами. Возникновение нормализующей власти, то, каким образом она сложилась, то, каким образом она сумела установиться, никогда не опираясь на один-единственный институт, но вводя в игру разные институты, и то, каким образом она распространила в нашем обществе свое господство, – вот что я хочу рассмотреть[13]. За это мы и примемся в следующий раз.
Лекция 15 января 1975 года
Безумие и преступление. – Извращенность и инфантильность. – Опасный индивид. – Эксперт-психиатр не может не быть убюэскным персонажем. – Эпистемологический уровень психиатрии и его регрессия в судебно-медицинской экспертизе. – конец конфликтных отношений между медицинской и судебной властями. – Экспертиза и ненормальные. – критика понятия подавления. – Исключение прокаженных и включение зачумленных. – Изобретение позитивных технологий власти. – Нормальное и патологическое.
На прошлой неделе по окончании лекции кто-то спросил меня: может быть, я ошибся и, вместо того чтобы читать обещанный курс о ненормальных, решил заняться судебно-медицинскими экспертизами? Это совсем не одно и то же, но вы увидите, как, начав с проблемы судебн-медицинской экспертизы, я выведу вас к проблеме ненормальных.
В самом деле, я попытался показать вам, что в терминах Уголовного кодекса 1810 года, в тех самых формулах знаменитой 64-й статьи, где нет ни преступления, ни правонарушения, если индивид в момент их совершения был в состоянии помутнения рассудка, экспертиза должна позволять, во всяком случае должна была бы позволять, провести раздел – дихотомический раздел между болезнью и ответственностью, между патологической обусловленностью и свободой юридического субъекта, между терапией и наказанием, между медициной и уголовной практикой, между больницей и тюрьмой. Нужно выбрать, так как безумие упраздняет преступление, так как безумие не может быть местом преступления, и наоборот, само по себе преступление не может быть деянием, коренящимся в безумии. Принцип вращающейся двери: когда на сцену выходит патологическое, криминальность, в терминах закона, должна исчезнуть. В случае безумия медицинский институт должен главенствовать над институтом судебным. Правосудие не может заниматься безумцем или, точнее, безумие [rectius: правосудие] должно отступиться от безумца, как только оно признает его таковым: это принцип прекращения дела в юридическом смысле этого термина.
Однако этот раздел и этот принцип раздела, отчетливо заявленный в статьях кодекса, современная экспертиза фактически подменила другими механизмами, постепенно складывавшимися на протяжении XIX века; вы можете увидеть, как они оформляются уже относительно рано, как я, вероятно, уже говорил, в своеобразном общем сотрудничестве: скажем, в 1815–1820 годах присяжные заседатели заявляют, что некто виновен, и в то же время, невзирая на подтвержденную вердиктом вину, просят поместить его в лечебницу, так как он болен. Таким образом, коллегии присяжных начинают налаживать родство, сожительство, взаимовыручку безумия и преступления; но и сами должностные судьи до некоторой степени мирятся с этим своеобразным союзом, говоря зачастую, что, несмотря на совершённое преступление, хорошо было бы заключить индивида в психиатрическую лечебницу, так как в конечном счете шансов выйти из этой лечебницы у него не больше, чем из тюрьмы. когда в 1832 году будут приняты смягчающие обстоятельства, это позволит добиваться как раз таких приговоров, которые сбалансированы с учетом отнюдь не обстоятельств преступления, а квалификации, оценки, диагноза самого преступника. Так постепенно завязывается тот своеобразный судебно-медицинский континуум, следствия которого для нас налицо и ключевым институтом которого становится судебно-медицинская экспертиза.
В общих чертах можно сказать так: принцип взаимоисключения медицинского и судебного дискурсов современная экспертиза заменила игрой, которую можно было бы назвать игрой двойной квалификации – медицинской и судебной. Эта практика, эта техника двойной квалификации, в свою очередь, способствует организации того, что можно назвать областью «извращенности», очень любопытного понятия, которое стало появляться во второй половине XIX века и вскоре захватило всю эту территорию двойной детерминации, обусловив появление в дискурсе экспертов, пусть и ученых, целой серии откровенно устаревших, комичных или несерьезных терминов и элементов. Если вы заглянете в судебно-медицинские экспертизы вроде тех, что я зачитывал вам в прошлый раз, вам бросятся в глаза такие словечки, как «леность» или «гордыня», «упрямство» или «злобность»; эти сообщаемые вам биографические элементы являются вовсе не принципами разъяснения поступка, а своего рода нехитрыми предзнаменованиями, малосущественными событиями детства, пустяковыми сценами, в которых уже присутствует прообраз преступления. Это своего рода редукция криминальности к детству, ее характеристика в таких же терминах, какими изъясняются родители или пишутся моральные наставления в детских книжках. Несерьезность терминов, понятий и анализа, заложенная в самой сердцевине современной судебно-медицинской экспертизы, на самом деле выполняет строго определенную функцию: она служит обменником между юридическими категориями, которые определены кодексом и допускают наказание лишь в том случае, если действительно имел место злой умысел или обман, и медицинскими понятиями вроде «незрелости», «слабости Я», «неразвитости Сверх-Я», «структуры характера» и т. п. Хорошо видно, что такого рода понятия – в общем и целом понятия, определяющие извращенность, – позволяют скрестить серию юридических категорий, характеризующих обман, злой умысел, и серию категорий, возникших главным образом внутри медицинского или, во всяком случае, психиатрического, психопатологического, психологического дискурса. Поле понятий извращенности, не выходящих за рамки своего сюсюкающего лексикона, позволяет вводить медицинские понятия в поле судебной власти, а юридические понятия, наоборот, в поле компетенции медицины. Таким образом, это слаженно работающий обменник, и чем он слабее эпистемологически, тем его работа эффективнее.
А вот другая операция, обеспечиваемая экспертизой: институциональная альтернатива «или тюрьма, или лечебница», «или искупление, или лечение» подменяется принципом однородности социального реагирования. Экспертиза позволяет обосновать или как минимум оправдать наличие своеобразного защитного континуума, который окутывает всё социальное тело, от медицинской инстанции исцеления до собственно уголовного института, то есть тюрьмы, а в пределе – эшафота. Ведь за всеми этими уголовными дискурсами Новейшего времени, то есть за той уголовной практикой, что начала складываться в XIX веке, маячит, как вы знаете, бесконечно повторяющаяся короткая фраза: «Ты кончишь на эшафоте». Но если фраза «Ты кончишь на эшафоте» возможна (настолько, что все мы более или менее периодически слышим ее с тех пор, как впервые получили плохую отметку в школе), если эта фраза действительно возможна, если у нее есть историческое основание, то потому, что континуум, простирающийся от первой индивидуальной исправительной меры до высшей юридической санкции, каковой является смерть, был подготовлен впечатляющей практикой, впечатляющим процессом институционализации подавления и наказания, который дискурсивно поддерживался уголовной психиатрией, и в частности чрезвычайно важной экспертной деятельностью. Общество отвечает патологической криминальности двояко, а точнее, предлагает ей единообразный ответ, но с двумя ударениями – искупительным и терапевтическим. Но два эти ударения являются полюсами единой, непрерывной сети институтов, функцией которых, в сущности, является ответ – но ответ чему? Не исключительно болезни, конечно, ибо, если бы речь шла только о болезни, мы имели бы дело с чисто терапевтическими институтами, но и не исключительно преступлению, ибо тогда достаточно было бы институтов карательных. Так чему же, собственно, отвечает весь этот континуум, у которого есть терапевтический полюс и судебный полюс, вся эта институциональная мешанина? Она отвечает опасности.
Именно к опасному индивиду, то есть не то чтобы к больному, но и не к преступнику в чистом виде, обращен этот институциональный ансамбль. В психиатрической экспертизе (и циркуляр 1958 года, по-моему, говорит об этом прямо) предмет диагностики эксперта – индивид, с которым тот должен сразиться в рамках своего допроса, анализа и диагноза, – это индивид потенциально опасный. Так что в итоге мы обнаруживаем два симметричных понятия, в которых вы сразу же отметите близость, соседство: с одной стороны, понятие «извращения», позволяющее сшить серии медицинских и юридических концептов, а с другой стороны, понятие «опасности», «опасного индивида», позволяющее оправдать и обосновать в теории существование непрерывной цепи судебно-медицинских институтов. Опасность и извращение – вот что, как мне кажется, составляет своего рода сущностное, теоретическое ядро судебно-медицинской экспертизы.
Если же теоретическое ядро судебно-медицинской экспертизы именно таково, то исходя из этого мы можем понять целый ряд явлений. Первое среди них – это, разумеется, тот самый гротескный и убюэскный характер, что я попытался продемонстрировать в прошлый раз, зачитав вам несколько экспертиз, которые, повторю, все как одна принадлежат громким именам судебной психиатрии. Поскольку сейчас я не буду цитировать эти отчеты, я могу назвать имена их авторов (которые вы не сможете соотнести с соответствующими экспертизами). Итак, это Сенак, Гуриу, Эйе и Жени-Перрен \ 1\ . Собственно гротескный, собственно убюэскный характер уголовного дискурса может быть убедительно объяснен в том, что касается его существования и сохранения, исходя из этого теоретического ядра, образуемого парой «извращение – опасность». В самом деле, очевидно, что стыковка медицинского и судебного, которую обеспечивает судебно-медицинская экспертиза, эта взаимосвязь медицинского и судебного осуществляется именно благодаря воскрешению категорий, которые я бы назвал элементарными категориями нравоучения и которые распределяются вокруг понятия «извращенности»: например, категории «гордости», «упрямства», «злости» и т. д. Иными словами, стыковка медицинского и судебного подразумевает восстановление в правах сюсюкающего, родительско-детского дискурса, речи родителей в адрес ребенка, речи, какой урезонивают ребенка, – и не может без этого восстановления осуществиться. Возрождается детский дискурс, а точнее – дискурс, сознательно обращенный к детям и непременно имеющий характер сюсюканья. С другой же стороны, это дискурс, который организуется не просто вокруг поля извращенности, но также и вокруг проблемы социальной опасности: это еще и дискурс страха, дискурс, задача которого – обнаружить опасность и дать ей отпор. Таким образом, это дискурс страха и дискурс нравоучения, это детский дискурс, это дискурс, чья эпистемологическая организация, всецело руководимая страхом и нравоучением, не может не быть смехотворной, даже применительно к безумию.

