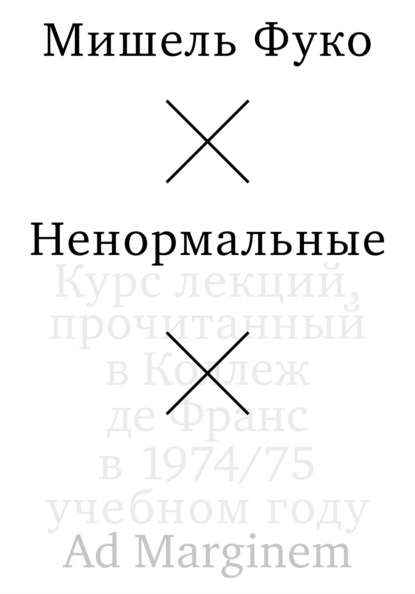
Полная версия:
Ненормальные

Мишель Фуко
Ненормальные
Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1974/75 учебном году
© Éditions Gallimard/Seuil, 1999
Édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Valerio Marchetti et Antonella Salomoni, revue par Elisabetta Basso pour la présente édition
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Перевод Алексей Шестаков
Издание подготовлено Валерио Маркетти и Антонеллой Саломони под общей редакцией Франсуа Эвальда и Алессандро Фонта
Вместо предисловия
Мишель Фуко преподавал в Коллеж де Франс с января 1971 года и до своей кончины в июне 1984 года, за исключением 1977 года, когда он воспользовался годичным отпуском, полагающимся каждому профессору раз в семь лет. Его кафедра носила название «История систем мысли».
Она была создана 30 ноября 1969 года по инициативе Жюля Вюйемена и по решению общего собрания профессоров Коллеж де Франс взамен кафедры «История философской мысли», которой руководил до своей смерти Жан Ипполит. Двенадцатого марта 1970 года то же общее собрание избрало Фуко на должность профессора новой кафедры[1]. Ему было сорок три года.
Второго декабря 1970 года он прочел свою инаугурационную лекцию[2].
Преподавание в Коллеж де Франс подчиняется особым правилам. каждый профессор обязан отработать двадцать шесть учебных часов, не более половины из которых могут составлять семинарские занятия[3]. Ежегодно он должен выносить на суд слушателей оригинальное исследование, в связи с чем содержание курсов меняется год от года. Все лекции и семинары открыты для посещения; не нужно ни записываться на курсы, ни писать итоговую письменную работу. Профессор не волен лишать кого-либо права присутствовать на своих лекциях[4]. В уставе Коллеж де Франс сказано, что профессора в нем имеют дело не со студентами, а со слушателями.
Лекции Фуко читались по средам с начала января до конца марта каждого учебного года. Аудитория, весьма многочисленная, состояла из студентов и преподавателей, исследователей и просто интересующихся, среди которых было немало иностранцев. Слушатели занимали сразу два амфитеатра коллеж де Франс. Фуко часто сетовал в связи с этим на дистанцию, разделявшую его и «публику», а также на то, что лекционная форма курса ограничивает возможности общения[5]. Он мечтал о семинаре, в котором шла бы подлинная совместная работа. В последние годы по окончании лекций он посвящал значительное время ответам на вопросы слушателей.
Вот как описал в 1975 году царившую на этих лекциях атмосферу корреспондент журнала Nouvel Observateur Жерар Петижан: «Фуко выходит на арену быстро и целеустремленно, он, словно ныряльщик, рассекает толпу, пробирается к своему стулу, раздвигает магнитофоны, чтобы разложить записи, снимает пиджак, включает настольную лампу и немедленно начинает. Его сильный, внушительный голос распространяют микрофоны – единственная уступка современности в этом зале, который слабо озаряет свет, струящийся из стуковых плафонов. На триста мест приходится пятьсот прижавшихся друг к другу слушателей, довольствующихся малейшим свободным участком. <…> Ни тени ораторских эффектов. Всё ясно и очень убедительно. Никаких уступок импровизации. У Фуко есть двенадцать часов, чтобы объяснить в ходе публичных лекций смысл работы, проделанной им за последний год. Поэтому он до предела уплотняет речь, словно продолжая письмо на полях, когда лист исписан, а сказать еще нужно очень много. Четверть восьмого. Фуко умолкает. Слушатели устремляются к его столу. Не для того, чтобы поговорить с ним, а для того, чтобы остановить магнитофонную запись. Никаких вопросов. Фуко совсем один в этой толпе». А вот комментарий самого Фуко: «Нужно было бы обсудить сказанное. Подчас, когда лекция не удалась, может хватить пустяка, одного вопроса, чтобы всё расставить по местам. Но этот вопрос никогда не звучит. Во Франции общение с группой делает разговор по существу невозможным и в отсутствие обратной связи преподавание превращается в театр. Я словно актер или акробат перед этими людьми. И когда я прекращаю говорить, приходит ощущение тотального одиночества…»[6]
Фуко подходил к своему преподаванию как исследователь: лекции служили разработками для будущей книги, распашкой новых территорий проблем, которые формулировались почти как вызов, бросаемый возможным коллегам. Поэтому и получилось, что курсы в Коллеж де Франс не дублируют опубликованные книги. И не являются наброском предстоящих книг, даже если темы их иногда совпадают. Лекции имеют собственный статус. Они выделяются среди «философских актов» Фуко особым дискурсивным режимом. Он совершенно по-особенному развивает в них проект генеалогии взаимоотношений знания и власти, сообразно которому с начала 1970-х годов – после отхода от предшествующего проекта археологии дискурсивных формаций – строилась его работа[7].
Кроме того, лекции Фуко всегда были связаны с современностью. конечно, его слушателей увлекало повествование, выстраивавшееся неделя за неделей, они восхищались стройностью изложения, но вместе с тем и замечали свет, проливаемый им на сегодняшний день. Искусство Фуко заключалось в пересечении современности историей. Он мог говорить о Ницше или Аристотеле, о психиатрической экспертизе XIX века или христианском пастырстве, и слушатели всегда улавливали в его словах связь с настоящим, с теми событиями, которые происходили рядом с ними. Присущее только Фуко лекторское дарование было связано именно с этим переплетением ученой эрудиции, личной причастности и работы над событием.
* * *На 1970-е годы пришлось распространение и совершенствование кассетных магнитофонов; стол Фуко был буквально заставлен ими. Так сохранились его лекции и некоторые семинары.
Настоящее издание призвано как можно точнее воспроизвести живую речь Фуко[8]. Мы приложили все усилия к тому, чтобы представить ее в неприкосновенности. Однако перевод устной речи в письменный вид подразумевает вмешательство редактора: как минимум нужно ввести пунктуацию и деление на абзацы. Тем не менее мы старались не отступать от принципа максимальной верности произнесенному тексту.
Когда это казалось нам необходимым, мы устраняли повторы и оговорки, восполняли прерванные фразы и подправляли некорректные конструкции.
Многоточия в угловых скобках обозначают неразборчивые фрагменты записи. когда содержание фразы непонятно, в квадратных скобках приводится предположительное уточнение или дополнение.
В примечаниях внизу страницы, обозначенных астерисками, приведены некоторые расходящиеся с магнитофонной записью выдержки из подготовительных рукописей Фуко.
Цитаты были проверены, и в примечаниях мы дали ссылки на использованные тексты. критический аппарат призван прояснить темные места, разъяснить некоторые аллюзии и уточнить спорные детали.
Для удобства читателя каждая лекция предварена кратким резюме, в котором указаны ее основные темы[9].
Текст лекционного курса дополняет его «краткое содержание», ранее опубликованное в «Ежегоднике коллеж де Франс». Такие резюме Мишель Фуко обычно составлял в июне, вскоре после окончания своего курса. Они позволяли ему уточнить свои цели и задачи, оглянувшись на сделанное, и теперь дают о них наилучшее представление.
Каждый том завершается обзорной статьей редакторов данного лекционного курса: в ней приводятся элементы биографического, идеологического и политического контекста лекций каждого года, кратко очерчивается их связь с опубликованными книгами Фуко и положение курса в его творчестве – с тем, чтобы облегчить понимание и отвести недоразумения, связанные с незнанием обстоятельств, в каких каждый курс готовился и читался.
* * *Публикация курсов Фуко в Коллеж де Франс открывает новый ракурс на его мысль.
Строго говоря, речь не идет о неизвестных текстах, так как издание воспроизводит публичные лекции; по-настоящему неопубликованными оставались лишь подготовительные рукописи Фуко, часто весьма обстоятельные. Даниэль Дефер, владеющий ныне архивом философа, позволил редакторам ознакомиться с ними, за что мы ему глубоко признательны.
Настоящее издание лекций, прочитанных в коллеж де Франс, осуществлено с разрешения наследников Мишеля Фуко, которые любезно согласились удовлетворить живейшую потребность в нем, проявленную как во Франции, так и в других странах. Их условием была тщательность подготовки текста. Редакторы стремились оправдать оказанное им доверие.
Франсуа Эвальд, Алессандро Фонтана
Лекция 8 января 1975 года
Психиатрические экспертизы в уголовной практике. – к какому типу дискурса они относятся? – Дискурсы истины и смехотворные дискурсы. – Легальное доказательство в уголовном праве XVIII века. – Реформаторы. – Принцип внутренней убежденности. – Смягчающие обстоятельства. – Связь между истиной и правосудием. – Гротеск в механике власти. – Морально-психологический дубликат преступления. – Экспертиза показывает, что индивид был подобен своему преступлению, еще его не совершив. – Возникновение нормализующей власти.
Мне хотелось бы начать курс этого года, предложив вам два психиатрических отчета из уголовной практики. Я прочту их целиком. Первый отчет был составлен в 1955 году, ровно двадцать лет назад. Среди подписавших его есть по меньшей мере одно громкое имя тогдашней уголовной психиатрии, и оно имеет отношение к процессу, о котором некоторые из вас, возможно, еще помнят. Это история женщины, которая вместе с любовником убила свою малолетнюю дочь. Мужчина, любовник матери, обвинялся в соучастии или как минимум в подстрекательстве к убийству ребенка, так как было установлено, что женщина убила дочь собственными руками. Итак, вот отчет о психиатрической экспертизе мужчины, которого я, с вашего позволения, буду называть А., так как до сих пор не смог выяснить, с какого момента данные судебно-медицинских экспертиз разрешается публиковать с упоминанием имен \ 1\ .
«Эксперты оказались в очевидном замешательстве перед необходимостью дать психологическое заключение об А., ибо они не могут вынести решения по поводу его моральной виновности. И всё же надо остановиться на гипотезе, что А. неким образом оказал на умонастроение девицы Л. влияние, которое привело последнюю к убийству своего ребенка. Итак, мы представляем себе элементы и действующих лиц этой гипотезы следующим образом. А. принадлежит к неоднородной и социально неблагополучной среде. Будучи незаконнорожденным, он был воспитан одной матерью и лишь значительно позднее был признан своим отцом; тогда же выяснилось, что у него есть сводные братья, с которыми, однако, его не связывали никакие семейные узы. к тому же после смерти отца А. вновь остался вдвоем с матерью – женщиной весьма неопределенного положения. Но несмотря ни на что, он поступил в общеобразовательную школу, и обстоятельства, связанные с его происхождением, несколько заглушили в нем врожденную гордость. Люди подобного сорта почти никогда не чувствуют себя благосклонно принятыми в том мире, в который они попадают: этим объясняется их пристрастие к парадоксам и ко всему такому, что способно посеять раздор. В атмосфере идей, хотя бы в какой-то мере революционных [дело, напомню, происходит в 1955 году. – М. Ф.], они чувствуют себя более уверенно, чем в устоявшейся среде с ее чопорной философией. Об этом свидетельствует история всех интеллектуальных реформ, всех духовных объединений: история Сен-Жермен-де-Пре, история экзистенциализма \ 2\ и т. д. Во всех таких движениях получают возможность проявить себя по-настоящему сильные личности, в особенности если у них сохраняется хотя бы некоторая склонность к адаптации. Они могут добиться известности и стать основателями жизнеспособной школы. Однако большинство не в состоянии подняться выше среднего уровня и стремится привлечь к себе внимание экстравагантной одеждой или экстраординарными поступками. Такие люди обычно склонны к алкивиадизму, \ 3\ геростратизму \ 4\ и т. п. конечно, они уже не стремятся отрезать хвост своей собаке или сжечь храм в Эфесе, но зачастую поддаются ненависти к буржуазной морали настолько, что отвергают ее законы и доходят до преступления, чтобы раздуть значение своей личности – тем более, чем их личность бесцветнее. Естественно, что во всем этом присутствует доля боваризма \ 5\ – способности человека представлять себя другим, нежели он есть, и чаще всего гораздо красивее и значительнее, чем суждено ему быть природой. Вот почему А. мог смотреть на себя как на сверхчеловека. В этом отношении странно, что он противился влиянию со стороны военных. Ведь он же говорил и о том, что переход Сен-Сира закалил характеры. Но, судя по всему, ношение униформы почти не оказало на поведение Альгаррона \ 6\ нормализующего воздействия. Впрочем, ему постоянно хотелось оставить армию, чтобы предаться своим шалостям. Еще одной психологической особенностью А. [наряду с боваризмом, геростратизмом и алкивиадизмом. – М. Ф.] является донжуанизм \ 7\. Он отдавал в буквальном смысле все свободные часы коллекционированию любовниц, чаще всего таких же покладистых, как девица Л. И с извращенным пристрастием заводил с ними разговоры, из которых, учитывая их начальное образование, они обычно почти ничего не могли понять. Ему нравилось развивать перед ними „разительные“, по выражению Флобера, парадоксы, которые одни слушали разинув рот, а другие – вполуха. И подобно тому как на самого А. не произвела благотворного влияния преждевременная для его социального и умственного уровня культура, девица Л. стала повторять каждый его шаг, что выглядело одновременно карикатурой и трагедией. Тут мы имеем дело с еще более глубокой степенью боваризма. Л. жадно глотала парадоксы А. и, в некотором смысле, отравилась ими. Ей казалось, будто она поднимается на более высокий культурный уровень. А. говорил о том, что влюбленные должны вместе совершить нечто из ряда вон выходящее, чтобы соединить себя нерасторжимой связью, например убить водителя такси или ребенка – просто так или чтобы доказать себе способность совершить поступок. И девица Л. решила убить катрин. Во всяком случае, так говорит она сама. Хотя А. не соглашался с ней прямо, он, во всяком случае, не переубеждал ее, позволяя себе – возможно, по неосмотрительности – строить в беседах с ней парадоксы, в которых она, за неимением критического духа, увидела руководство к действию. Таким образом, не вынося решения о том, что произошло на самом деле и о степени виновности А., мы можем понять, почему воздействие, оказанное им на девицу Л., могло оказаться таким пагубным. Однако наша задача заключается прежде всего в том, чтобы установить, какова степень ответственности А. с точки зрения уголовного права. И нам бы очень хотелось, чтобы наши термины не были истолкованы превратно. Мы говорим не о том, какова доля моральной ответственности А. в преступлениях девицы Л. – это дело судей и присяжных заседателей. Мы же лишь выясняем, имеют ли аномалии характера А. патологическую с точки зрения судебной медицины природу и являются ли они следствием умственного расстройства, достаточного, чтобы не применять к нему уголовную ответственность. Разумеется, наш ответ будет отрицательным. А., конечно, напрасно не ограничивался программными указаниями военных школ, а в любви – воскресными развлечениями, однако его парадоксы лишены примет безумных идей. И в случае, если бы А. не просто неосмотрительно развивал перед девицей Л. слишком сложные для нее теории, а намеренно подталкивал ее к убийству ребенка, чтобы по какой-то причине избавиться от него, чтобы доказать себе свою способность <к убеждению> или из одного лишь извращенного азарта, подобно Дон Жуану в сцене с нищим \ 8\ , – то, разумеется, он должен был бы нести за это полную ответственность. Иначе, чем в этой сослагательной форме, мы не можем представить свои заключения, которые могут вызвать возражения со всех сторон в этом деле и навлечь на нас обвинения в том, что мы превысили свою миссию и поставили себя на место присяжных, то есть вынесли вердикт о виновности или невиновности обвиняемого. В то же время нас могли бы упрекнуть в чрезмерном лаконизме, если бы мы сухо изложили то, чего, строго говоря, было бы достаточно: а именно, что А. не имеет никаких симптомов психического заболевания и, в общем смысле, вполне вменяем».
Так звучит текст, составленный в 1955 году. Прошу прощения за длину этих документов (вскоре вы поймете, что они составляют особого рода проблему); теперь мне хотелось бы привести другие отчеты, гораздо более сжатые, а точнее, один-единственный отчет, сделанный в отношении трех человек, обвинявшихся в шантаже на сексуальной почве. Я зачитаю заключение о двух из них \ 9\ .
Один – назовем его Х – «не блещет интеллектом, но и не глуп; умеет связно изложить идею и наделен хорошей памятью. В том, что касается морали, он гомосексуал с двенадцати или тринадцати лет, и поначалу этот порок носил характер компенсации насмешек, которые ему пришлось терпеть в детском доме в Ла-Манше [департаменте Ла-Манш. – М. Ф.], где он воспитывался. Не исключено, что женоподобное поведение Х усугубило уже имевшуюся в нем склонность к гомосексуальности, однако к вымогательству привело его не что иное, как жажда наживы. Х совершенно аморален, циничен и невоздержан в словах. Три тысячи лет назад он наверняка оказался бы одним из жителей Содома и небесный огонь вполне заслуженно наказал бы его за порочность. Но надо признать, что Y [объект шантажа. – М. Ф.] ожидало бы такое же наказание. Будучи зрелым, сравнительно богатым человеком, он не нашел ничего лучшего, как поместить Х в притон извращенцев, содержателем которого был он сам, по мере возможности возмещая деньги, вложенные в это дело. Этот Y, попеременно или одновременно выступавший по отношению к Х любовником и любовницей – точнее сказать трудно, – вызывает у последнего отвращение, доходящее до тошноты. Х любит Z. Надо видеть женоподобное поведение их обоих, чтобы понять обоснованность этих слов, ибо речь идет о до такой степени женственных мужчинах, что их родным городом должен был бы оказаться уже не Содом, а Гоморра».
Я могу продолжить. Вот что касается Z: «Довольно-таки посредственная личность, наделенная духом противоречия, неплохой памятью и способностью связно излагать свои мысли. В духовном плане – аморальный циник. Z погряз в пороке, причем вдобавок он коварен и труслив. С ним приходится в буквальном смысле прибегать к майотике [там так и написано: май-о-ти-ка, должно быть, от слова maillot – майка или пеленка! – М. Ф.] \ 10\ . Но наиболее яркой чертой его характера является, на наш взгляд, лень, масштабы которой не удалось бы передать никаким прилагательным. Естественно, проще менять пластинки и находить клиентов в ночном притоне, чем по-настоящему работать. При этом он признается, что стал гомосексуалом по причине материального неблагополучия, то есть в поиске денег, и что, почувствовав их вкус, продолжает вести себя в том же духе». Заключение: «Z совершенно омерзителен».
Вы понимаете, что о такого рода дискурсах можно сказать очень мало и в то же время много. Ведь в конце концов в таком обществе, как наше, необычайно мало дискурсов, обладающих одновременно тремя свойствами. Первое их свойство – способность прямо или косвенно влиять на решение суда, которое касается, по сути дела, свободы человека или его заключения под стражу, в предельном случае (и мы еще столкнемся с такими примерами) – жизни или смерти. Итак, это дискурсы, обладающие в конечном счете властью над жизнью и смертью. Второе свойство: благодаря чему они получают эту власть? Может быть, благодаря институту правосудия, но также и благодаря тому, что они функционируют в институте правосудия как дискурсы истины – ибо это дискурсы научного ранга, сформулированные дискурсы, причем сформулированные квалифицированными людьми внутри научного института. Дискурсы, способные убивать, дискурсы истины и дискурсы – вы сами дали этому подтверждение и свидетельство \ 11\ , – смехотворные. Причем дискурсы истины, вызывающие смех и в то же время обладающие институциональной властью убийства, – это дискурсы, которым в нашем обществе уделяется мало внимания. к тому же если некоторые из этих экспертиз, и в частности первая, относились – как вы заметили – к сравнительно серьезным и, следовательно, сравнительно редким делам, то второй процесс, прошедший в 1974 (то есть в прошлом) году, – явно из тех, что составляют повседневную рутину уголовных судов и, я бы сказал, всех подсудимых, что нас и интересует. Эти повседневные дискурсы истины, которые убивают и вызывают смех, заложены в самую сердцевину наших судебных институтов.
Функционирование судебной истины не только создает проблему, но и вызывает смех не впервые. Вы наверняка знаете, что в конце XVIII века (я рассказывал вам об этом, кажется, два года назад \ 12\ ) тот способ, каким осуществлялось доказательство истины в уголовной практике, также возбуждал иронию и критику. Вы помните об одновременно схоластической и арифметической разновидности судебного доказательства, которая в свое время, в уголовном праве XVIII века, именовалась легальным доказательством и в которой выделялась целая иерархия доказательств, уравновешивающих друг друга и со стороны качества и количества \ 13\ . Тогда существовали совершенные и несовершенные доказательства, целые и частичные доказательства, полные доказательства и полудоказательства, а также показатели и обстоятельства. И все эти элементы сочетались, дополняли друг друга в целях сбора определенного числа улик, которое закон, а вернее сказать – обычай, устанавливал в качестве необходимого минимума, допускающего осуждение. С этого момента, исходя из этой арифметики, этой калькуляции доказательств, суд и должен был выносить свое решение. Он был до некоторой степени связан в своем решении арифметикой улик. И вдобавок к этой легализации, к законному установлению природы и количественной степени доказательства, то есть к законной формализации доказательного процесса, существовал также принцип, согласно которому следовало определять наказание пропорционально суммарному числу улик. Иными словами, недостаточно было изложить – нужно было сформировать всеобщее, полное и совершенное доказательство, чтобы назначить наказание. Однако классическое право утверждало: если сумма не достигает минимального числа улик, исходя из которого можно применять полную и безоговорочную кару, если эта сумма остается в некотором смысле незаконченной, если, проще говоря, налицо три четверти доказательства, но целиком его нет, это тем не менее не означает, что наказывать не надо. Трем четвертям доказательства соответствуют три четверти наказания; полудоказательству – полунаказание \ 14\ . Словом, попавший под подозрение не останется безнаказанным. Мельчайшего или, во всяком случае, некоторого элемента доказательства будет достаточно, чтобы повлечь за собой некоторый элемент наказания. Подобная практика истины и вызывала у реформаторов конца XVIII века – у Вольтера, у Беккариа, у таких людей, как Серван и Дюпати, – одновременно и критику и иронию \ 15\ .
Вот этой-то системе легального доказательства, арифметике доказательного процесса был противопоставлен принцип того, что принято называть внутренней убежденностью \ 16\ , – принцип, о котором сегодня, глядя на то, как он действует и какую реакцию вызывает у людей, хочется сказать, что он позволяет осуждать без всяких доказательств. Между тем тот принцип внутренней убежденности, который был сформулирован и институционализирован в конце XVIII века, имел безукоризненно ясный исторический смысл \ 17\ .
Во-первых, следующий: отныне не следует выносить приговор, не придя к полной уверенности. Иными словами, надо отказаться от пропорциональности доказательства и кары. кара должна повиноваться закону «всё или ничего», и неполное доказательство не может повлечь за собой частичное наказание. Сколь угодно легкое наказание должно назначаться лишь в том случае, если установлено всеобъемлющее, совершенное, исчерпывающее, полное доказательство вины подсудимого. Таким образом, вот первое значение принципа внутренней убежденности: судья должен приступать к осуждению, лишь придя к внутренней убежденности в виновности, а не просто при наличии подозрений.
Во-вторых, смысл этого принципа таков: следует принимать во внимание не только определенные, признанные законом доказательства. Должно быть принято любое доказательство, лишь бы оно было убедительным, то есть лишь бы оно могло уверить разум, восприимчивый к истине – восприимчивый к суждению, а значит, и к истине. Не законность, не соответствие закону, а доказательность делает улику уликой. Доказательность улики обеспечивает ее приемлемость.
И наконец, третье значение принципа внутренней убежденности: критерием, на основании которого доказательство признается установленным, является не канонический перечень веских улик, а убежденность – убежденность некоего субъекта, беспристрастного субъекта. как мыслящий индивид, он способен к познанию и восприимчив к истине. Иными словами, с появлением принципа внутренней убежденности мы переходим от арифметико-схоластического и столь забавного режима классического доказательства к общепризнанному, уважаемому и анонимному режиму истины, заявляемой предположительно универсальным субъектом.

