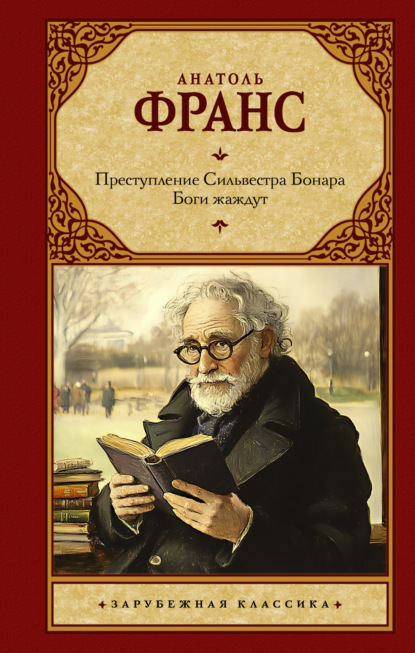
Полная версия:
Преступление Сильвестра Бонара. Боги жаждут
Обильная трапеза сама собою затянулась. У меня есть талант, пожалуй выше среднего, дегустировать вино. Хозяин, заметив мои способности, оценил меня настолько, что в мою честь раскупорил отборную бутылочку шато-марго. Я с уваженьем пил это вино великой породы и благородных свойств, букет которого и вкус превыше всех похвал. Эта пылкая роса, проникнув в мои вены, воодушевила меня юношеским жаром. Сидя с г-жой де Габри на террасе, в сумерках, окутывающих тайной расплывшиеся очертания деревьев, я имел удовольствие передавать умной хозяйке свои впечатления живо, с большим чувством, что крайне удивительно в человеке, каким являюсь я, то есть без всякого воображения. Свободно, не прибегая к старым текстам, я описал ей нежную грусть вечера и красоту родной земли, которая питает нас не только хлебом и вином, но верованиями, чувствами и мыслями и примет всех нас в материнское лоно, как маленьких детей, уставших от длительного дня.
– Господин Бонар, – обратилась ко мне моя приятная дама, – вы видите эти старые башни, эти деревья, это небо; как естественно из всего этого родились персонажи сказок и народных песен! Вон тропинка, где Красная Шапочка шла в лес собирать орехи. Это изменчивое, всегда подернутое дымкой небо бороздили колесницы фей, а северная башня могла скрывать под островерхой крышей старуху-пряху, веретеном которой укололась Спящая красавица.
Я продолжал обдумывать ее прелестные слова, в то время как г-н Поль, попыхивая крепкою сигарой, рассказывал о некоей тяжбе, затеянной им с общиной из-за отвода какого-то ручья. Г-жа де Габри, почувствовав прохладу вечера, стала дрожать под шалью и, простившись, ушла к себе. Я решил не возвращаться в свою комнату, а вновь пойти в библиотеку и там продолжить разбор рукописей. Несмотря на возраженья г-на Поля, побуждавшего меня лечь спать, я вошел в то помещение, какое назову старинным языком – книгохранилище, и взялся за работу при свете лампы.
Прочтя пятнадцать страниц, написанных, как видно, невежественным и рассеянным писцом, ибо мне было трудновато улавливать их смысл, я сунул руку за табакеркой в зияющий карман моего сюртука, однако это естественное и как бы инстинктивное движенье на сей раз стоило мне известного труда и утомления; тем не менее серебряную коробочку я открыл и взял оттуда пахучую щепотку порошка, но она вся разлетелась по манишке, оставив в дураках мой нос. Я уверен, что мой нос выразил негодованье, так как он очень выразителен и не один раз выдавал самые сокровенные мои мысли, особенно в Кутанской публичной библиотеке, где я, под носом у коллеги моего Бриу, выискал картуларий Нотр-Дам-дез-Анж.
Какая это была радость! Мои маленькие тусклые глаза в очках не выдали ее ничем. Но, увидав один мой нос картошкой, трепещущий от радости и спеси, Бриу смекнул, что у меня находка. Он заприметил том, который я держал, запомнил место, куда я, уходя, его поставил, забрал его сейчас же вслед за мной, тайком списал и наскоро издал, чтобы сыграть со мною штуку. Но, думая поддеть меня, поддел лишь самого себя. Его издание кишит ошибками, и мне доставило большое удовольствие отметить в нем ряд крупных недостатков.
Возвращаюсь к исходному моменту: я заподозрил, что тяготит мой ум только гнетущая сонливость. Перед моими глазами лежал старинный договор, а его значение оценит всякий, если скажу, что в нем упоминается о будочке для кроликов, запроданной священнику Жану д'Эстурвиль в 1212 году. Чувствуя, насколько важен этот факт, я все-таки не уделил ему того внимания, какого требовал подобный документ. Что я ни делал, мои глаза всё обращались к одному концу стола, хотя там не было ни одного предмета, имеющего важность с научной точки зрения. На этом месте находился лишь большой немецкий том, переплетенный в свиную кожу, с медными гвоздями на досках переплета и толстыми валиками на корешке. То был прекрасный экземпляр компиляции, достойной одобрения лишь за ее гравюры на дереве и хорошо известной под именем Нюрнбергской Хроники. Том стоял на среднем своем обрезе благодаря чуть приоткрытым доскам переплета.
Не знаю, сколько времени этот старинный фолиант притягивал к себе без видимой причины мои взоры, как вдруг их захватило зрелище столь необычное, что даже человек, лишенный всякого воображенья – вроде меня, – поразился бы им непременно и живейшим образом.
Я вдруг увидел, не заметив момента появления ее, маленькую даму, сидевшую на книжном корешке, согнув в колене одну ногу, другую свесив, – почти в той позе, какую принимают, садясь на лошадь, амазонки в Булонском лесу или в Гайд-парке. Дама была такою маленькой, что ее болтавшаяся ножка не доходила до стола, где стлался змейкою шлейф платья. И все же ее лицо и формы могли принадлежать лишь взрослой женщине. Полнота груди, округлость талии не оставляли ни малейшего сомнения на этот счет даже у старого ученого вроде меня. Добавлю, без боязни ошибиться, что она была прекрасна и вида гордого, ибо занятия иконографией издавна приучили меня определять характер внешности и чистоту типа. Лицо дамы, так неожиданно усевшейся на корешке Хроники, дышало благородством с примесью своенравия. Вид у нее был королевы, и притом капризной; по одному выражению ее глаз я заключил, что где-то она пользовалась большою властью, и очень фантастично. Рот повелительный и иронический, а синие глаза под безукоризненными дугами бровей смеялись, но с каким-то опасным выражением. Мне часто приходилось слышать, что темные брови весьма идут блондинкам, – а эта дама была блондинка. В общем она производила впечатление величия. Однако ж моя дама была с бутылку ростом, и я бы мог свободно ее спрятать в заднем кармане сюртука, если бы не мое благоговенье перед ней; поэтому должно казаться непонятным, чем же ее особа вызывала отчетливое представление о величии. Но в самых пропорциях дамы, сидящей на Нюрнбергской Хронике, была такая горделивая стройность, такая величавая гармония, было столько свободы и благородства в позе, что мне она представилась большой. Чернильница, которую она разглядывала с насмешливым вниманием, как будто заранее читая в ней слова, готовые оттуда выйти на кончике моего пера, могла бы оказаться для нее достаточно глубоким бассейном, чтобы зачернить вплоть до подвязок ее чулки из розового шелка с золотыми стрелками; но, несмотря на это, я повторяю: при всей своей игривости она казалась мне большой и величавой.
Костюм, под стать ее наружности, был исключительно великолепен. Он состоял из платья золото-серебряной парчи и мантии из красновато-оранжевого бархата на беличьем меху. Головной убор в виде двурогой диадемы светился жемчугом чистой воды и сиял, как месяц. В белой ручке она держала палочку, привлекшую мое внимание, тем более законное, что занятия археологией научили меня распознавать с известной достоверностью те знаки, какие отличают именитых особ сказаний и истории. В данном случае такое знание мне пригодилось. Разглядев палочку, я установил, что она вырезана из веточки орешника. «Так, это палочка феи, – сказал себе я, – а следовательно, дама, держащая ее, конечно – фея». Радуясь тому, что наконец узнал, с кем приходилось иметь дело, я попытался сосредоточить свои мысли, чтобы обратиться к ней с почтительным приветствием. Каюсь, мне было бы приятно научно рассказать этой особе о роли ей подобных среди племен саксонских и германских и на латинском Западе. Такая речь мне мыслилась удачным способом выразить даме благодарность за появленье перед старым эрудитом, противно непреложному обычаю подобных ей созданий показываться лишь наивным детям и непросвещенным мужикам.
«Но, становясь феей, не перестаешь быть женщиной», – сказал себе я. И поскольку госпожа Рекамье, о чем я слышал от Ж.-Ж. Ампера, считалась с впечатлением, какое красота ее производила на мальчишек-трубочистов, постольку и сверхъестественная дама, сидевшая на Нюрнбергской Хронике, конечно, будет польщена, услышав, как ученый станет научно трактовать ее, подобно образку, медали, фибуле или печати. Но это намерение, дорого стоившее моей застенчивости, оказалось неосуществимым, когда я увидал, что дама Хроники проворно вынула из сумочки, висевшей сбоку, орешки, такие маленькие, каких не видывал я в жизни, стала грызть их зубками, бросая скорлупу мне в нос, а ядрышки жевала с серьезностью ребенка, сосущего грудь матери.
В этом случае я поступил так, как того требовало достоинство науки, – я промолчал. Но поскольку скорлупа вызывала неприятную щекотку, я заслонил рукою нос и констатировал с великим изумлением, что мои очки сидели на самом кончике его и даму видел я не сквозь, а через стекла, – вещь непостижимая, так как мои глаза, сильно пострадавшие от древних текстов, не могут без очков отличить дыни от графина, поставленных рядом под самым моим носом.
Этот нос, столь замечательный своей массивностью, окраскою и формой, вполне законно привлек внимание феи, и она, схватив гусиное перо, торчавшее султаном из чернильницы, провела мне по носу его бородкой. В компании иной раз мне случалось подвергаться проделкам юных барышень, которые, включив меня в свою игру, предлагали поцеловать их в щеку сквозь спинку стула или давали мне гасить свечу, но сразу поднимали свечку так высоко, что я не мог ее задуть. До сей поры, однако, ни одна особа их пола не изощрялась надо мной в таких причудливых капризах и не щекотала мне ноздрей моим же собственным пером. По счастью, я вспомнил наставленье дедушки, покойника, обычно говорившего, что дамам все позволено и все идущее от них есть милость и благоволенье. Поэтому скорлупки и перо я воспринял как милость и благоволенье и попытался улыбнуться. Больше того – заговорил!
– Сударыня, – произнес я с достоинством и вежливо, – вы посещением своим оказываете честь не мужику и не сопливому мальчишке, а библиофилу, который счастлив знакомством с вами и знает, что некогда вы посещали стойла и спутывали гривы кобылицам, пили молоко из пенящихся крынок, нашим дедам сыпали за шиворот колючки, из очага выбрасывали искры добрым людям прямо в нос, – короче говоря, вносили в дом веселье и сумятицу. Сверх того, вы можете похвастать, как вечерами очень мило пугали в рощах загулявшиеся пары. Мне казалось, что вы исчезли навсегда уже три столетия тому назад. Возможно ли, сударыня, видеть вас теперь, во времена железных дорог и телеграфа? Моя привратница, когда-то бывшая кормилица, вашей истории уже не знает, а мой сосед-малыш, хотя еще утирает ему нос нянька, стоит на том, что вы не существуете совсем.
– Что скажете на это вы? – серебристым голоском воскликнула она, молодцевато выпрямляясь своею королевскою фигуркой и нахлестывая корешок Хроники, словно гиппогрифа.
– Не знаю, – ответил я, протирая глаза.
Этот ответ, запечатленный глубоко научным скептицизмом, произвел на собеседницу эффект самый плачевный.
– Господин Сильвестр Бонар, – сказала мне она, – вы тупица. Я и всегда подозревала это. Самый малый ребятенок, что бегает по улицам с торчащей из штанишек рубашонкой, знает меня лучше, чем все очкастые людишки ваших институтов и ваших академий. Знание – ничто, воображенье – все. Существует только то, что вообразимо. Меня воображают. Для меня это значит – существовать. Обо мне мечтают, и я являюсь. Все лишь мечта. А поскольку нет никого, кто бы мечтал о вас, Сильвестр Бонар, – то это вы не существуете. Я зачаровываю мир, и я везде: в луче луны, в журчанье скрытого ключа, в говоре трепещущей листвы, в белых парах, что утром поднимаются с низин лугов, в розовом вереске – повсюду!.. Кто меня видит – меня любит. Люди вздыхают, люди дрожат, напав на легкий след моих шагов, шуршащих по опавшим листьям. Я вызываю у детей улыбку, я наделяю остроумием кормилиц, даже самых толстых; склонясь над колыбелью, я шалю, я утешаю, я навеваю сон. А вы – вы сомневаетесь в моем существовании! Сильвестр Бонар, под вашей фуфайкой – шкура осла!
Она умолкла; ее тонкие ноздри раздувались от негодованья, и покамест я, невзирая на свою досаду, любовался героическим гневом этой маленькой особы, она провела моим пером в чернильнице, как в озере веслом, и бросила перо мне в нос, концом вперед.
Я отер лицо, почувствовав, что все оно забрызгано чернилом. Она исчезла. Погасла лампа. Лунный луч пронизывал окно и упадал на Хронику. Свежий ветер, поднявшись незаметно, развеял мою бумагу, перья и облатки для заклейки. Стол оказался весь в чернильных пятнах. Я не закрыл окна, пока была гроза. Какое упущенье!
IIIЛюзанс, 12 августа
Согласно обещанию, я написал моей домоправительнице, что жив и невредим. Но о том, что заснул вечером при открытом окне в библиотеке и получил насморк, я воздержался сообщить, ибо эта превосходная женщина пощадила бы меня в своих укорах не больше, чем парламенты щадили королей. «В вашем возрасте – и быть таким неразумным», – сказала бы она. По простодушию, она уверена, что с возрастом разумность развивается. Я в этом смысле ей представляюсь исключением.
Не имея тех же оснований утаивать это приключенье от г-жи де Габри, я рассказал ей свой сон с начала до конца. Рассказал таким, каким я его видел и записал в этом дневнике. Искусство вымысла мне незнакомо. Тем не менее возможно, что в рассказе, а также в записи я вставил там и сям некоторые обстоятельства и выражения, каких и не было сначала, – конечно, не ради извращения истины, а скорее по тайному желанью уточнить и прояснить все то, что оставалось темным или смутным, а может быть, и уступая тому влеченью к аллегориям, какое с детства я воспринял от греков.
Г-жа де Габри слушала меня не без удовольствия.
– Ваше видение очаровательно! И чтобы иметь подобные видения, необходим очень живой ум.
– Значит, я умен, когда сплю.
– Когда мечтаете, – поправила она, – а вы мечтаете всегда.
Я знаю хорошо, что, выразившись так, г-жа де Габри просто хотела мне доставить удовольствие, но само намерение уже заслуживает всей моей признательности, и я лишь в смысле благодарности и нежного воспоминанья отмечаю ее слова в этой тетради, которую я буду перечитывать до самой смерти, а кроме меня, никто читать ее не станет.
Последующие дни употребил я на окончание инвентаря рукописей в Люзанской библиотеке. Несколько слов, вырвавшихся у г-на де Габри в минуту откровенности, неприятно поразили меня и повлияли на мое решение – вести работу иначе, нежели я начал. От него узнал я, что состояние Оноре де Габри, управляемое плохо с давних пор, лишилось большей своей части при разорении одного – не названного мне – банкира и перешло наследникам бывшего пэра Франции лишь в форме заложенной недвижимости и безнадежных векселей.
Господин Поль, по соглашению с наследниками, решил продать библиотеку, мне же предстояло изыскать наиболее выгодные способы ее продажи. Как человек, всецело чуждый торговым сделкам и денежным делам, я для совета решил привлечь книгопродавца из моих друзей. Я написал ему, чтоб он приехал ко мне в Люзанс, а в ожидании его приезда, взяв палочку и шляпу, отправился в окрестности осматривать церкви, так как в некоторых из них сохранились надгробные надписи, еще не восстановленные должным образом.
С этой целью покинул я своих хозяев и стал паломником. Каждый день обследовал я кладбища и церкви, посещал священников и деревенских нотариусов, ужинал в трактирах вместе с офенями и прасолами, засыпал на простынях, надушенных лавандой; и так провел я целую неделю, не забывал, конечно, о покойниках, но вместе с тем вкушал и тихую, глубокую отраду, наблюдая, как живые совершают свой каждодневный труд. В области, составлявшей предмет моих исканий, я сделал лишь маловажные открытия, а следовательно, они порадовали меня радостью умеренной, зато здоровой и никоим образом не утомительной. Я восстановил несколько интересных эпитафий, присоединив к этому малому сокровищу ряд деревенских кухонных рецептов, любезно сообщенных мне милым священником.
Обогащенный такими знаниями, вернулся я в Люзанс и шествовал по «красному» двору с самодовольством буржуа, идущего к себе домой. В этом сказалась доброта моих хозяев; и то чувство, какое ощутил я на пороге, доказывает лучше всяких рассуждений всю прелесть их гостеприимства.
Я прошел до большой гостиной, не встретив никого, и молодой каштан, раскинувший свою широкую листву, мне показался другом. Но то, что я затем увидел на консоле, меня так сильно поразило, что я обеими руками поправил на носу очки, а себя ощупал, желая убедиться хотя бы внешним образом, что я еще живу. В одну секунду у меня мелькнуло двадцать мыслей, и самой основательной из них была та мысль, что я сошел с ума. Мне представлялось невозможным, чтобы видимое мной существовало, но и нельзя было не видеть в этом нечто существующее. Поразивший меня предмет стоял, как было сказано, на консоле под мутным и пятнистым зеркалом.
В этом зеркале я разглядел и, могу сказать, впервые увидал законченный образ изумления. Но я сейчас же оправдал себя и согласился сам с собой, что изумила меня вещь на самом деле изумительная.
Я продолжал рассматривать предмет все с прежним, не слабевшим от раздумья удивлением, тем более что сам предмет давал возможность изучать себя в полной неподвижности. Устойчивость и неизменность этого феномена не допускали мысли о галлюцинации. Я совершенно не подвержен нервным недугам, расстраивающим зрение. Причиной их обычно являются расстройства в действии желудка, а мой желудок, слава Богу, работает отлично. К тому же обманам зрения сопутствуют обстоятельства особого и анормального порядка, действуя на самих галлюцинирующих и внушая им какой-то ужас. Ничего подобного со мной не происходило, и предмет, какой я видел, хотя сам по себе и невозможный, являлся мне в условиях естественной реальности. Я заметил, что он трехмерен, окрашен и отбрасывает тень. О! Как я рассматривал его! Слезы выступили мне на глаза, и я был вынужден протереть очки.
В конце концов пришлось мне покориться очевидности и констатировать, что передо мною была фея – фея, которая мне снилась вечером в библиотеке. Это была она, я утверждаю. Все тот же вид ребячливой царицы, гибкая и гордая фигура, на голове сверкала та же диадема, в руках была ореховая палочка; парчовый шлейф по-прежнему змеился вокруг ее малюток-ножек. То же лицо и тот же рост. Это действительно она; и, во избежание сомнений, она сидела на корешке старинной толстой книги, схожей с Нюрнбергской Хроникой. Ее недвижность ободрила меня только отчасти, и, говоря по правде, я боялся, как бы она не вынула из сумочки орешки и вновь не стала бы швырять скорлупки мне в лицо.
Так я стоял с открытым ртом и опустивши руки, когда до слуха моего донесся голос г-жи де Габри.
– Вы, господин Бонар, рассматриваете вашу фею? – сказала мне хозяйка. – Ну как? Похожа?
Разговор – короткий, но пока я слушал, я успел определить, что эта фея – статуэтка из цветного воска, вылепленная еще неопытной рукой. Феномен, получивший таким путем рациональное истолкование, все же озадачивал меня. Как получила дама Хроники материальное бытие и благодаря кому? Вот это не терпелось мне узнать.
Обернувшись к г-же де Габри, я заметил, что с нею кто-то есть. Юная девица в черном стояла рядом. Глаза, нежно-серые, как небо Иль-де-Франса, выражали одновременно смышленость и наивность. Руки, немного хрупкие, заканчивались беспокойными кистями, тонкими, но красными, как подобает рукам девочек. Затянутая в мериносовое платье, она вся напоминала молодое деревце, а большой рот свидетельствовал о прямоте ее души. Не могу выразить, до какой степени этот ребенок понравился мне с первого же взгляда. Нельзя было назвать ее красивой, но ямочки на подбородке и щеках смеялись, и при всей наивной угловатости ее манер в ней было что-то хорошее и честное.
Мой взор переходил от статуэтки к девочке, и я увидел, как зарделась она румянцем, откровенным, густым, нахлынувшим волной.
– Так что же? – вновь спросила хозяйка, уже привыкшая к тому, что я рассеян и что ей надо повторять свои вопросы. – Это в самом деле та особа, которая для свиданья с вами влезла в окно, оставленное вами незакрытым? Она была весьма нахальна, а вы весьма неосторожны. Словом, узнаете ли вы ее?
– Да, это она, – ответил я. – И на этом консоле я вижу ее вновь такою, какою видел на столе в библиотеке.
– Если это так, – ответила г-жа де Габри, – то в этом сходстве повинны прежде всего вы – человек, по вашим же словам, без всякого воображенья, но способный описывать сны живыми красками; потом я – тем, что удержала в памяти и сумела верно передать ваш сон; наконец, и в особенности, Жанна – тем, что она по моим точным указаниям вылепила из воска эту статуэтку!
Говоря так, г-жа де Габри взяла девушку за руку. Но девушка высвободилась и побежала в парк.
Госпожа де Габри окликнула ее:
– Жанна! Можно ли быть такой дикаркой! Идите, я вас пожурю!
Но все напрасно – беглянка скрылась за листвою. Г-жа де Габри села в единственное кресло, уцелевшее в разрушенной гостиной.
– Я была бы очень удивлена, – сказала мне она, – если бы мой муж уже не говорил вам о Жанне. Мы очень ее любим, она замечательный ребенок. Скажите правду, как вы находите эту статуэтку?
Я отвечал, что сделана она с большим умом и вкусом, но автору ее недостает и навыка и школы; впрочем, я крайне тронут тем, что юные персты сумели вышить по канве рассказа такого простака и так блестяще изобразили сновиденье старого говоруна.
– Я спрашиваю вашего мнения об этом, – сказала г-жа де Габри, – потому, что Жанна – бедная сирота. Как вы думаете, сможет ли она зарабатывать немного денег тем, что будет делать такие статуэтки?
– Нет! – ответил я. – Да тут и не о чем особенно жалеть. Эта девушка, вы говорите, любящая и нежная, – я верю вам и верю ее лицу. В жизни артиста бывают увлеченья, которые выводят и благородные души из границ умеренности и порядочности. Это юное создание замешено из любвеобильной глины. Выдавайте ее замуж.
– Но у нее нет приданого, – возразила г-жа де Габри.
Затем, слегка понизив голос, сказала мне:
– Вам, господин Бонар, я могу сказать все. Отец этого ребенка был известный финансист. Он ворочал большими делами. Ум у него был предприимчивый и обольстительный. Его нельзя назвать бесчестным человеком: обманывая других, он прежде всего обманывал себя. В этом, пожалуй, и заключалось наибольшее его искусство. Мы находились с ним в близких отношениях. Он заворожил нас всех: мужа, дядю и моих кузенов. Крах его наступил внезапно. В этой беде погибло на три четверти и состояние дяди. Поль вам об этом говорил. Мы лично пострадали гораздо меньше, да у нас и нет детей!.. Отец Жанны умер вскоре после разорения, не оставив ровно ничего, – вот почему я говорю, что он был честным человеком. Имя его должно быть вам известно по газетам: Ноэль Александр. Жена его была очень мила и некогда, я думаю, была хорошенькой, только любила покрасоваться. Но когда супруг ее разорился, она вела себя с достоинством и мужеством. Через год после его смерти умерла она сама, оставив Жанну круглой сиротой. Из собственного состояния, довольно хорошего, ей ничего не удалось спасти. Г-жа Ноэль Александр, в девицах Алье, – дочь Ахилла Алье из Невера.
– Дочь Клементины! – воскликнул я. – Умерла Клементина, умерла и дочь ее! Почти все человечество состоит из мертвецов: так незначительно количество живущих в сравнении со множеством отживших. Что это за жизнь – короче памяти людской!
И мысленно я сотворил молитву:
«Клементина! Оттуда, где вы находитесь теперь, взгляните в сердце, с годами охладевшее, но от любви к вам когда-то полное кипучей крови, и скажите, не оживает ли оно при мысли о возможности любить то, что остается на земле от вас? Проходит все, как были преходящи вы и ваша дочь; но жизнь бессмертна, – вот эту жизнь в ее все время обновляющихся образах и надлежит любить.
Роясь в своих книгах, я был ребенком, который перебирает бабки. Жизнь моя напоследок ее дней приобретает новый смысл, интерес и оправданье. Я – дедушка.
Внучка Клементины бедна. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой кроме меня заботился о ней и наделил ее приданым».
Заметив, что я плачу, г-жа де Габри тихонько удалилась.
IVПариж, 16 апреля
Святой Дроктовей и первые аббаты Сен-Жермен-де Пре уже лет сорок занимают мое внимание, но я не знаю, смогу ли написать историю их раньше, чем приобщусь к ним. Я стар давно. В прошлом году один собрат мой по Академии жаловался при мне на Мосту Искусств, как скучно стариться. «Но пока известно только это средство долго жить», – отвечал ему Сен-Бев. Я воспользовался этим средством и знаю ему цену. Горе не в том, что жизнь затягивается, а в том, что видишь, как все кругом тебя уходит. Мать, жену, друзей, детей – эти божественные сокровища – природа и создает и разрушает с мрачным безразличием; в конечном счете оказывается, что мы любили, мы обнимали только тени. Но какие милые бывают среди них! Если в жизнь мужчины когда-либо проскальзывало тенью живое существо, то это, конечно, юная девица – такая, какую я любил, когда и я был юношей (теперь это кажется невероятным). А все-таки воспоминанье об этой тени до сей поры есть лучшая реальность моей жизни.



